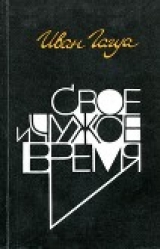
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Annotation
Книга Ивана Гагуа привлекает своеобразием художественного мышления. Иван Гагуа умеет по-своему рассказать о деревенской жизни, о сегодняшних бродягах и вчерашних преступниках. Мир наблюдений писателя экзотичен, характеры героев живые, их поступки оправданы психологически.
Свое и чужое время
ПОВЕСТИ
СТО ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР
ПЬЕДЕСТАЛ
СИНИЕ ЦВЕТЫ ЗАБВЕНИЯ
ХРОНИКА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА
ЦЕНА ОДНОГО УРОКА
РАССКАЗЫ
ГАДАНИЕ СТАРОГО ЗОСМЭ
ГРОБОВЩИК
О ЛЮБВИ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ…
«МОДИСТКА»
ТЕТЯ МАРТА
СВЕТ И ТЕНЬ
ПО ДРОВА
НА ЗАРЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Свое и чужое время


ПОВЕСТИ

СТО ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР
М. Бирюковой

За сто первым километром от Москвы, притулившись одним боком к полустанку, утонувшему в шумящих березовых кружевах, другим – к лесу, протянувшемуся до смачной синевы горизонта, стояла деревня Федюнино, и двадцатью хорошо ухоженными избами и подворьями, и крашеными оградами палисадников, и потемневшими срубами колодцев являла собой картину благословенного, затерянного уголка в удивительной близости с цивильным, что называется, миром.
В то теплое майское утро, с бесконечными переездами с места на место, преследуемые закорючкой закона, мы оказались на свежеукатанной тропе, петлявшей через все гречишное поле и убегавшей в деревню. Поезд, следовавший на Иваново, промелькнул за дальним перелеском и прощально прогудел, словно обещая нам спокойную тихую жизнь в этом благодатном углу, куда забросила нас нужда колхоза и алчность нашего бригадира, попросту – бугра.
Полубригада из шести человек, неся необходимое в дороге барахлишко в портфелях и рюкзаках, гуськом потянулась по тропе в деревню, вдыхая давно позабытый дух вольности, исходивший от бесконечных просторов и самой тишины, густой и вязкой, обжигающей душу неизъяснимой немотой тоски и скорби по утраченному в суете бытию.
Вожаком шел дядя Ваня, инвалид Отечественной войны. Бухал по пыльной тропе самодельным протезом, отбрыкивался игривым стригунком, будто норовя лягнуть идущего следом.
За ним следовал Гришка Распутин, кряжистый здоровяк лет шестидесяти, выпивоха и бабник до бесстыдства в свои дедовские годы. Вот и теперь, вздыхая о водке, кривил в усмешке губы, поминая на всяком слове бабу.
– Свой-то размер я завсегда найду! – густо басил он и, тешась, видно, мыслью о бабе, раскатисто подхохатывал. – Вот вам, кобели вонючие, трудновато придется: молодух раз-два и обчелся. – И, ругнувшись забористо, весело закончил: – Придется вам крепко потузить друг друга.
Нам – это значит Сергею Кононову, Синему, получившему свое прозвище за цвет лица, мне и самому молодому из нас – новичку в нашем деле – Лешке, белокурому и статному парню с крупными девичьими голубыми глазами, светящимися неуемной радостью на скорбном лице.
Поднявшись с тропы на небольшую улочку, вдоль которой по левую сторону тянулись избы лицом в открытое поле, откуда, в свою очередь, с некоторого отдаления глядели на деревню два строения, стоявшие особняком, – одно мастерская, другое сельмаг, – мы остановились. Сейчас между этими строениями из кирпича и побуревших от времени досок носились осипшие сойки. Они летали между ветел, некогда украшавших небольшой ручей, уже обмелевший до коричневой жижицы! И поросший по краям высокими лопухами.
– Запамятовал, что ли, Ваня? – улыбнулся Гришка Распутин, кося глазами на сельмаг. – Али старуха с утра мозги растужурила?
– Кажись, – бормотал дядя Ваня, смущенно разглядывая избу. – В палисаднике береза стояла, а тут – осина…
– Начинается старая пластинка, – вступил в разговор Синий, набухая нетерпением. – Береза… осина… Все как у детей… Да не моргай же ты теленком, а глянь как следует… Ешкалэмэнэ…
Дядя Ваня, еще больше сконфуженный Синим беспокойно косился, но так и не мог взять в толк, идти ли дальше или входить во двор, перед которым стояли.
– Вань, может, дать на пузырек, чтоб прояснилось в твоей сонной башке? – подтрунивал Кононов. – Да не красней ты как девица! – И он полез в карман за бумажником.
Между тем, пока в голове дяди Вани прояснялось от упоминания о желанном пузырьке, из избы вышла молодая женщина в черных брюках и синей блузке и решительно направилась к нам, не скрывая улыбки.
– Опять, что ли, дядя Ваня, не признал?
– Не признал! – счастливо отозвался дядя Ваня, потея оспой побитым лицом, и тронулся навстречу женщине, лягаясь обрубком протеза, теперь уже намеренно, в отместку за насмешку. – Вот они здеся, все мои меренья! Выбирай, коли приглянутся…
Взглянув на нас через опыт своих лет чуть заметным прищуром, женщина в тихой раздумчивости проговорила:
– А что из мереньев-то выбирать, дядя Ваня? Так и так мерином обзаведешься! – И, тихонько притворив за нами калитку, устало улыбнулась.
Изба оказалась довольно просторной и светлой.
Поделенная на три комнаты и одну «темницу» с крохотным оконцем во двор, она вмещала тот необходимый недостаток крестьянского быта, который и был предусмотрительным предком рассчитан на рост семьи…
В «темнице» светила электрическая лампа, подвешенная не посередке, а ближе к углу, где стоял широченный топчан, окрещенный Кононовым и Синим площадкой для игры в кошки-мышки.
В просторной комнате с русской печью и крашеными полатями была расставлена вся мебель, какая имелась: раздвижной диван, кушетка, стол и дюжина стульев с высокими спинками. На стыке с русской печью за узеньким коридорчиком располагались две спальные комнаты – родительская и детская. В детской стояли швейная ножная машинка и серый фибровый чемодан, побывавший в дорожных передрягах. Родительская, которая уже около года недосчитывалась хозяина, отбывавшего наказание в лагере за избиение жены под пьяную лавочку, была приятно убрана и единственным окном выходила в сад.
В ней, как и, должно быть, при хозяине, приткнувшись к глухой стене, стояла двуспальная железная кровать с высокими дужками, украшенными для какой-то лихости крохотными колокольчиками, гулкими ночами мелодично потренькивавшими, потакая чьей-то бессоннице.
Затолкав всех «меринов» – старых и молодых – в избу, хозяйка чуть подернутыми теплой рябью весны синими глазами прощупала нас, а прощупав, сонно разлепила припухшие губы.
– С ночной пришла, – сказала она и, гася в себе женское любопытство, направилась «маленько соснуть», пока мы будем располагаться на недолгое жительство.
Подхватив нехитрые свои пожитки, я направился в «темницу», чтобы, обжив ее, поладить с самим собой. Такая именно и отвечала моему тогдашнему настроению своей глухостью и тишиной. Хоть на время замкнуться в себе!
Но не тут-то было. Углядев в моем выборе некое преимущество перед остальными, Кононов увязался за мной. К тому же по весне он страдал бессонницей, любил ночные беседы, был неистощим на них. И, зная, что слушать его некому, кроме меня, привязался ко мне за особую мою способность внимать собеседнику.
Кое-как обжив «темницу» своими вещами, тут же развешенными по углам, мы с Кононовым вышли во двор приглядеться к местам, в которых предстояло нам жить, до тех пор пока не поднимут нас и не погонят в другую какую-нибудь глухомань.
Я искренне сочувствовал дяде Ване, нашему подставному бугру, и Гришке Распутину, истинным крестьянам, так и не сумевшим стать жителями суетного города, в который они бросились когда-то в погоне за лучшей долей. И вот, приобщившись к шальной жизни, не столько уж из любви к длинному рублю, сколько из любви к деревне, утраченной по милости урбанизации, мыкались они по свету, являя собой нечто среднее между крестьянином и рабочим.
Кононов и Синий, споткнувшись на заре своей жизни в городе, оказались выброшенными крепкой административной машиной за черту родной среды, сохранив семью в Москве и право на жизнь за сто первым километром. Изверившись в человеческой доброте, уже не ждали никаких перемен и, насмешничая над другими, убивали в себе надежду в самом зародыше.
И я, деля с некоторых пор с ними судьбу, пустился наобум-наугад навстречу призрачным далям, так сладко томившим уже с детства душу, и пошел постигать вкус скитальчески-скорбных дорог и радость случайных ночлегов, чтобы, потопив в них отчаяние, нащупать тропу к человеческому теплу.
Сойдясь сейчас во дворе нашего нового пристанища с Кононовым, я утешался мыслью хоть здесь перевести дух перед неизбежным в нашей летучей жизни марш-броском в неизвестность.
Теплый ветерок, смазывая горизонт, клубился и курчавился. На фоне дальнего леса лениво играли смутные контуры из густой смеси света и тени.
В отгороженной под огородец площадке с усердием дачника, сгребая подгнившую ботву и опаль в кучу, возился Лешка.
– Во, гляди, хозяин нашелся! – торжественно воскликнул Сергей Кононов, шпиная меня под бок костлявым локтем. – Свежими овощами нас закормит…
Вскоре подожженная Лешкой куча весело выбросила ликующие языки пламени и, сухо и часто потрескивая, принялась скручивать палые листья, обжигая им крылья.
Лешка кружил вокруг разгоравшегося костра, подправлял его вилами и, когда наконец управился, отворил калитку в огородец и впустил в него белую курицу, сопровождаемую разномастными петухами.
– Во собака! – снова взорвался Кононов, глядя, как важно шагает за курицей Лешка, чуть-чуть отстраняя от нее петухов. – На обед гонит…
И в самом деле, пернатые, обступив Лешку, терпеливо выжидали, когда тот отвалит первый ком земли и обнажит перед ними лакомство. Но Лешка не спешил. Опершись на черенок лопаты, он на время задумался, испытывая терпение у заждавшихся петухов. Наконец один из них, поняв, что непросто дождаться человечьей милости, тюкнул Лешку по щиколотке, Да, видно, так больно, что тот подскочил и принялся поспешно лопатить землю, чтобы дать вытянуть дождевых червей расклохтавшимся птицам. Теряя чувство собственного достоинства, они теснили друг дружку, наскакивая на добычу. Курица, отпихнутая не очень уж обходительными «гусарами», удивленно глядела, как те терпеливо заглатывают жирных червей.
Дядя Ваня и Гришка Распутин, вышедшие во двор в томительном ожидании выпивки, мрачно хмурились, придавая лицам озабоченное выражение, каким сопровождается раздумье по поводу жизненно важной проблемы.
– Вот что, – вдруг неожиданно сердито заговорил дядя Ваня, инструктируя нас на осторожность. – По деревне лишний раз не шататься! Особливо с пьяными рожами… Городских тряпок не цеплять!
– И еще, – весело перебил его Гришка Распутин, просветлевший от дяди Ваниного назидания, – баб деревенских не трогать! Особливо тех, у которых глаза косят! – И, отхохотавшись над установкой мнимого бугра, упруго выдохнул: – Кончай, Вань, дурака ломать! Пора бы таперча и смазаться! Гоните, сукины дети, по трешнице!
Сбрасывались обычно все, хотя не каждый принимал участие в ублаготворении иссохшей души. Таков был закон поселения на новом месте, чтобы отмазаться от нечистой силы, преследовавшей нас по пятам.
Сбросились и сейчас.
– Я ня буду! – твердо и буднично сказал Лешка, швырнув под ноги Гришке помятую трешку, и стал стягивать с себя рубашку.
– Ня будь! – так же твердо и буднично повторил Гришка Распутин, поднял с земли Лешкину трешку и, разглаживая ее на колене, спросил: – Кто еще ня будет?
Когда сборщик «налогов» ушел, дядя Ваня поставил оставшихся в известность:
– Нынче же приступим к работе!
– А то как же! – иронически поддакнул Кононов, прекрасно знавший повадки нашего дяди Вани.
Дядя Ваня, любивший лишний раз напомнить нам в отсутствие Гришки Распутина о своем бригадирстве, теперь, возвысившись над всеми нами, взыскующе взглядывал на нас, как бы внушая почтение, и не столько к своей персоне, сколько к занимаемой ею должности.
И мы, зная слабость дяди Вани, легко шли на уступки, давая ему подняться в собственных глазах, наперед зная, что с появлением истинного хозяина его значение поблекнет.
– Дядя Ваня, а кто будет на прессе? – подыгрывая ему, спрашивал тот же Кононов, показывая в знак легкой насмешки два золотых зуба.
– Кто, кто? – сердито бормотал дядя Ваня, принимая лесть, но протестуя против праздного вопроса вокруг того, кому сидеть за прессом, когда специалисты по этой части были всем и давно известны.
Вернувшийся с покупками Гришка, окидывая всех шалым взглядом, победно воскликнул:
– Нашел, ребята! Вдовица – во! Приятно окает, и калибр в аккурат мой – в три обхвата. Поклонились друг дружке, познакомились. А она и говорит: «Пожаловайте, Григорий Парамонович, всегда рады будем…» Я тоже любезностью угощаю. Говорю: «Лизавета Петровна, спасибо вам за культурное обращение! Теперь непременно буду захаживать…» А вы все Гришка да Гришка! – Взглянув на меня совсем потеплевшими глазами, он тихо добавил: – Гуга, ты давай-ка чего-нибудь поколдуй на закус, чтобы душа кричала от перчикового духа!
И я, пройдя за печь и вывалив на небольшой столик съестные припасы, принялся готовить закуску. Пока на миниатюрной газовой плитке грелась сковорода, я извлек из своих склянок, возимых повсюду с собой, пряный дух знойного юга.
– Ты покруче этого сатанинского зелья! Не скупись! – попросил Гришка Распутин, любитель острых ощущений. – Хорошо бы еще и картошки к селедке…
Картошки с собой мы не возили, и потому я развел руками, отвечая Распутину шепотом:
– Нетути, Григорий Парамонович!
Но тут за перегородкой серебряно затренькали колокольчики, а когда они погасли, послышался сонный голос хозяйки:
– Погодите, найду вам картошки! – И через минуту-другую, устало водя плечами, появилась она и сама. – Подремала, а голова не проходит – тяжелая…
А Гришка Распутин, встречая ее бесстыжими глазами, уже успевшими побывать за глубоким вырезом кофты, облизнулся и, заговорщицки придыхая, расхохотался:
– Знакомься, хозяйка, наш шеф-повар! Малый ретивый…
С трудом увернувшись от назойливого взгляда Гришки, хозяйка вприщур оглядела меня, а затем, помедлив минуту, протянула мне руку:
– Стеша!
– Ивери! – ответил я, захватив ее теплую ладонь в свою.
– Из Твери! – пошутил Гришка Распутин и, оставляя нас одних, посоветовал не приправлять закус поцелуями, чтобы за столом не поперхнуться.
Вынесенный на середину стол собрал всех – и непьющих, и пьющих – в одну семейную, по выражению дяди Вани, «кумпанию». Он и возглавил, на правах старшего, застолье, вспыхнувшее после двух-трех стаканов протяжными песнями вперемежку с анекдотами.
– Гуляй, Ванька, бога нет! Бог пришел, а Ваньки нет! – басил подгулявший Гришка Распутин, переводя веселые глаза с дяди Вани на Стешу. – Стешка, едрена ты курица, русская ты душа али нет? А коли русская, постучи каблучками – не мокни!
– Ну тебя, дядя Гриша! – отговорилась Стеша, смущенно опуская глаза.
– Какой я тебе дядя! – подскочил на стуле разобиженный Гришка. – Ты меня, девка, в дядьки записывать не торопись! Я еще любого кобеля энтому делу поучить могу!.. Запомни, с бабами я – всегда мужчина! А когда бы не так, понапрасну хлеб переводить себе не позволил бы – под петлю б полез да на осине повис! – разом выдохнул он, вновь повеселев, опрокинул очередной стакан и, закусив круто поперченным ломтиком буженины, лукаво блеснул белками: – Зачем поцелуями-то приправляли, а?!
– Ну тебя, Гришка, опять за свое, – кошкой захмурилась раскрасневшаяся Стеша, пьяно отмахиваясь детской ладошкой от распутинского замечания.
– На том и жизнь держится! – продолжал Гришка Распутин. – Вот, к примеру, лежишь в холодной постели и, как бездомная собака, глазами стреляешь, ждешь, глядя на темноту… А кого, коли позволишь спросить, ждешь? А ждешь видь! А рази кто догадается, что ты, живое существо, в тоске зябнешь, ежели всем нутром не затрубишь? Нет, не догадается видь! Вот где пес-то зарыт… А баба-то, она к чужому теплу тянучая, что кошка… От нее видь огромные миру бедствия зачинаются!
Стеша сконфуженно переглянулась со всеми и, не найдя чем возразить Гришке Распутину, певуче воскликнула:
– Ой, ну тебя, Гришка!
Разомлевший от выпивки и распутинского баса дядя Ваня нервно сучил лысой головой, пытаясь прервать Распутина, но никто не замечал его, пока наконец не бухнул он кулаком по столу.
– Хватит беса тешить! – сказал он, неприязненно поглядывая на своего дружка. – Годов нажил, а ума все нет! Не юнец же ты красногубый!
– А ты, ставропольская тыква, молчи! – приказал Гришка Распутин, дружелюбно опуская на плечо дяди Вани широченную ладонь с заскорузлыми, как коряга, пальцами. – Отгорел ты, Ваня, оттого тебе и тоскливо…
Выцедив последний пузырек, «кумпания» грустно присмирела, ощущая неодолимую потребность в новых дозах.
– Может, скинемся, – предложил Синий, с надеждой уставясь на Кононова и прекрасно понимая, что ежели скидываться, то не обойтись без его щедрости.
– Так в чем же дело! Пошурши! – подкусил Синего Кононов, довольный тем, что пришел час переключить все внимание коллектива на себя. – Давай, давай, Микола, выворачивай карманы, только в них не то что деньги, а и мыши давно не танцевали.
И Синий, обиженно поморгав, погас лицом, уже жалея, что затеял этот разговор с Кононовым. Но тут же на помощь пришел Гришка Распутин, ломая мужскую гордость просительным тоном.
– Серега, выручи в последний раз… Ссуди два червонца, с получки соберем! – И качнулся через стол к Кононову. – Уважь, не откажи…
Кононов блеснул двумя золотыми зубами, повертел головой:
– С какой это получки соберете, Гришка? Третий месяц вхолостую гоняем, деньгами-то и не пахнет! – Но, вопросительно окинув каждого взглядом, все же расщедрился, полез в карман и отпустил просителю два червонца, напоминая должок еще с Ярцева.
– Все разом и отдадим, не беспокойся! – заверил Гришка Распутин, вновь восстановивший мужскую гордость, и заспешил в магазин взглянуть на продавщицу.
– Ты там не очень-то, – назидательно сказал дядя Ваня, – будем цех смотреть.
И Гришка Распутин, вняв, тут же вернулся, с веселой улыбкой выставил батарею чекушек и принялся развлекать нас рассказами о продавщице, будто бы спросившей: «А-а, это вы, Григорий Парамонович! Уже все откушали?»
Кононов, как и я, мало интересовавшийся тем, что сказала продавщица и что ей ответил Гришка Распутин, кивал на Лешку, с грустного лица которого глядели мимо всех крупные глаза.
Лешка был единственным человеком, вошедшим в нашу группу необычно. Его не рекомендовали! За него не ручались, что он – не дай бог! – не выкинет фортеля, чего пуще смерти боялись бугры всех мастей и размеров. Он просто приходил к трем вокзалам, где бригады перед очередным отбытием обсуждали план действий, да и притерся к ребятам, а через них оказался и в группе, посчитавшей его битым воробьем и тертым калачиком. А когда бугор спросил у дяди Вани, кто таков Лешка, тот пожал плечами и коротко сказал: «А ляд его знает!»
Три дня потом ругались шепотом подставной бугор с настоящим, а на четвертый решили взять Лешку под ответственность дяди Вани, прошляпившего «лазутчика».
Таким образом оказавшись в группе, он делал с ними вторую ездку. Первая провалилась в тартарары под боком Ярцева. Пришлось спешным порядком покинуть местность – ноги в руки – и позорно бежать. И после того памятного случая в самый разгар марта было велено не спускать с новичка глаз, что и делали все вместе и каждый врозь.
Несмотря ни на что, к Лешке относились довольно сносно, если учесть, что в нашей полубригаде особых симпатий никто ни к кому не питал. И Лешка, в свою очередь, не лез к нам с объяснениями в любви. Держался с достоинством, не выделяя никого и ни к кому не привязываясь. Зато почти детскую нежность питал он к животным, за что и живность платила ему редкой доверчивостью.
Сейчас Лешка ерзал на стуле, тяготясь затянувшимся застольем, но подняться не смел.
– Ня пьешь – нечего сидеть и киснуть! – сказал Гришка Распутин, заметивший состояние Лешки, которое еще больше усугубляло неприязнь к нему, покоившуюся на твердом убеждении, что «Иуду подослали – нацелуемся всласть…».
И Лешка встал, вышел из избы, не выражая ни особой обиды, ни особого огорчения. А когда дверь за ним захлопнулась, Стеша, сдувая челку со лба на сторону, сердито заметила Гришке Распутину:
– Тебя комендантом в мою избу не назначали!
Задетый замечанием Стеши, Гришка Распутин угрюмо выдохнул накипевшую злобу к Лешке:
– Продаст! Чует мое сердце! Продаст и передушит нас до единого сонными.
Но «душегуб», к которому адресовались эти слова, к счастью, был уже в огороде и не мог их расслышать. Зато Кононов, так и подкуривавший на драку, высветив два золотых зуба, подливал масла в огонь:
– Гришка, брось жрать селедку! Иди, пока он один в огороде, да набуцкай его по-русски.
– Хватит вам! Успеете набуцкаться! – сказал я, желая загасить затевавшуюся драку, но это еще больше озлило Гришку Распутина.
– Ты бы помалкивал! – сказал он, холодно сверкнув глазами за мое вмешательство в сугубо национальную сферу действия. – Тебя еще не спросили! – И жестко заскрипел зубами, словно полозьями саней, выдворявших меня из обширных распутинских просторов.
Драки хоть и возникали между нами, но дрались мы без нужного для них ожесточения. Бились в основном из ухарского зуда. А через несколько минут тузившие поливали друг дружке, чтобы смыть с расквашенных носов кровь. Этот ухарский зуд на драку, как правило, накапливала водка, поднимавшая со дна души что-то грязное и липкое. Но, выпустив дурную вязкость вместе с кровью, угасало и ухарство, и присмиревшие драчуны обретали привычное спокойствие разумного существа, пережившего болезнь.
Стеша, как бы желая сгладить вину Гришки Распутина перед «чужаком», не спросясь никого, стала убирать со стола опустевшие чекушки и стаканы. Мы вышли на свежий воздух, потому что с приближением вечера все ощутимее сказывались вино и усталость.
Свалившись кулем на завалинку, Гришка Распутин укладывал непослушную гриву поседевших волос огрызком расчески и невнятно бормотал кому-то угрозы.
Прислонившись к стене избы, стоял Синий, держался руками за живот и тоскливыми собачьими глазами вслушивался в боль, с которой сражался с помощью водки.
– Убью! – грозился между тем Гришка Распутин и, выронив огрызок расчески, сжимал в кулак правую руку и со всего размаха бил по раскрытой левой, вкладывая всю мужскую ненависть в этот удар.
Оставив на завалинке Гришку Распутина, а возле него – Синего, скорбно ушедшего в свою «болесть», мы с Кононовым прошли в огород, где Лешка хлебными корками приручал петухов, раздавая им имена.
– Ну, Ардальон, твоя теперь очередь! Подойди! Отойди, Октавиан, не нахальничай! Тимошка, смелее… Вот так… молодчина: каждому по труду! Каждому по проворности! Не зевайте… дожидаючись… А ты что, Петруша, хватай! А вы, мадам, зря удивленными глазами глядите! Рыцарство отошло с Дон Кихотом! Не ждите благородного жеста!
Птицы, выстроившись в цепочку, вроде осваивались с именами и торжественно притопывали лапками.
– Шлепнутый, – прошептал мне Кононов, останавливаясь в двух шагах от Лешки. – Удружил нам дядя Ваня…
Скормив последнюю крошку Октавиану, Лешка обернулся и окатил нас застывшим взглядом хохочущих глаз с каким-то бесовским задором.
Кононов потупился и ляпнул:
– Не любит тебя Гришка!
– Знаю, – не отводя от нас взгляда, отозвался Лешка. – Да и вам я не по нутру, – покосился он на заднее крыльцо избы, выходившее прямо в сад. С него спускалась Стеша, покачивая плотно упакованными в брюки бедрами и направляясь к калитке в огородец.
– Кто же это так расстарался? – бросила она, пройдя в калитку и окидывая взглядом Лешку. – Зря это все! Ничего этот суглинок не родит.
– Истощенная, что ли? – осклабился Кононов, наряжая свой вопрос тайным смыслом.
Лешка смущенно сморгнул и пошел к завалинке, где Гришка клокотал во сне горлом, словно кипящий чайник.
Чуть увлажненные Стешины глаза проводили Лешку. Проводив, больно сузились, рождая на лбу жалостливые морщинки, уходящие под челку.
Кононов, поймав ее взгляд, улыбнулся:
– А почему ты не окаешь? Пришлая, что ли?
– Пришлая, – отозвалась Стеша и, еще раз выстрелив взглядом в Лешку, пошла к крыльцу, с которого только что сошла.
– Удавка! – сообщил Кононов, когда Стеша скрылась за дверью. – Выследила кролика…
– Ничего, – сказал я. – И на тебя найдется удавка, не завидуй Лешке.
– Очень надо! – с обидой в голосе отвечал Кононов, выбираясь вслед за Лешкой во двор.
На закате того же дня, оставив в избе дядю Ваню, чудом взобравшегося на полати, и Гришку Распутина, досыпающего на завалинке, Стеша повела нас, отбросив всякую осторожность, поглядеть окрестные дали.
Пошли на другой конец деревни, в сторону леса, не такого уж близкого, как казалось нам поначалу.
По левой стороне улочки тянулись почернелые от жестоких бурь времени избы, сплошь украшенные затейливою резьбой. Кое-где над слуховыми оконцами вместо былых деревянных коньков торчали несуразные загогулины, уже не способные пробудить воспоминания о временах, когда здесь жили огромными семьями, создавая неповторимый мир, что разлетелся во прах по милости моего поколения, ринувшегося под сияющие огни городов.
Деревня была мертва. Редко где за окнами изб мелькали бледные старческие лица, утомленные ожиданием. Только-только начинался дачный сезон, и молодежи еще не было видно.
Город, вобрав в себя деревенскую молодежь, дав ей шумные улицы с завораживающими витринами, снабдил ее и своей податливостью к насморкам и простудам. И теперь она наезжала в деревню закалить изнеженную и ослабевшую плоть, подставляя ее под теплые лучи солнца.
Предвечерний ознобистый ветерок разливал по купам леса трепещущие закатные краски, отливая нежным цветом девичьей юности. Пала ранняя роса, и все разом прониклось лесным пряным духом.
Зябко поводя плечами, Стеша вывела нас на просеку и завернула за излучину тропки, к высокому, шумно шелестящему клену. А за открывавшейся асфальтированной дорогой показалось трехэтажное здание, из окон которого лился ранний электрический свет. Это была ткацкая фабрика. На ней-то и работала Стеша, гордясь своей профессией мотальщицы.
В воздухе не умолкало стрекотание множества станков, работавших в напряженном ритме.
Постояв, поприслушавшись к их горячему спору, Стеша повела нас обратно, украдкой поглядывая на Лешку, поддерживавшего под руку тихо стонавшего от боли Синего.
Деревня кое-где замерцала телеэкранами, отнимая у оставшейся жизни живое общение, и утонула в сладостной жути иного, придуманного человеком же мира.
В избе, повалившись ничком на диван, басовито храпел Гришка, ему дядя Ваня вторил с полатей надтреснутой хрипотцой.
– Давай, робя, снимать дядю Ваню! – предложил Сергей Кононов, раздраженно поглядывая на диван. – Снесем в чулан, пусть там на пару и выступают…
Сняв всем миром дядю Ваню и отнеся его в «темницу», принялись и за Гришку, тоже бросили на широченный топчан рядом с дядею Ваней.
Мне было обидно, что «темница» отошла невзначай другим. Хотелось побыть наедине с собой. Пробежать отцовские письма, переданные мне женою. Плакали теперь и письма, и одиночество.
Дожидаясь ночевки, я устало слонялся по комнате, в которой по просьбе Кононова, любителя «капятка», заваривали теперь чай.
– Ты не обижайся, – сказал мне Кононов, неся на стол медовые пряники, извлеченные из портфеля. – Но грузинский чай больше напоминает махорку… – И принялся похваляться «индюшкой», которую он доставал у знакомых за переплату.
Синий, брезгливо слушая рассуждения Кононова относительно чая и «капятка», корчился от боли, придерживая пятерней болящую точку в желудке и просительно взглядывая на Стешу, возившуюся с заваркой.
– Опять, что ли, прихватило? – спросила Стеша, улавливая мольбу, на что Синий кивнул утвердительно, еще больше напуская на лицо страдальческое выражение.
– Не найдется ли у тебя керосину? – поинтересовался у Стеши Кононов, когда она, сочувственно вздохнув, отошла в сторонку, к тайнику за «лекарством» для Синего. – Опои его разом! Все одно скоро помрет…
– Подохну, – подтвердил счастливый Синий, следя глазами за Стешей, исчезнувшею за печью. – Скоро, Серега, очень уж скоро подохну!
Кононов, задумавшись, взглянул на Синего и уже без тени иронии пробормотал:
– Не вздумай здесь подыхать-то! Не хватало еще с тобой канителиться!
– А это, – досадливо вздыхая, сказал Синий, – как уж получится! Коли помру, то у Лешки адрес точный имеется. Он сообщит Дусе! Она меня здесь не оставит…
– Очень ей мертвый нужен! – возразил Кононов и, стрельнув серыми с желтизной зрачками на Лешку, вносившему к общему чаю и свою лепту в виде печенья, добавил: – Лешка знает не только твой адрес.
Разговор явно принимал нежелательный оборот с непредсказуемыми последствиями, но, к счастью, вовремя вмешалась Стеша, возвратившаяся в комнату со стаканом водки.
– Как же вас ноги-то носют с такой ненавистью друг к другу? – сказала она и, измерив взглядом каждого из нас, подошла к Синему и поднесла ему стакан под честное слово завязать с этим с завтрашнего дня навсегда.
– Держи карман шире, – перебил Стешу Кононов, сконфуженный чистосердечием женщины. – Завтра снова будет канючить.
Судорожно ухватив только что державшейся за больной живот пятерней стакан, Синий разом вылил его содержимое в рот и, ломая лицо от страдания и нечаянной радости, упоительно зажмурился, разомкнул глаза и не спеша полез на полати.
Пока он, ползая на карачках, приспосабливался на вонючем тулупе с замурзанным ворсом, Стеша поставила на кружок эмалированный чайник, и началось беспросветное чаепитие с карточной игрой в дурачка.
Сыграв несколько партий в паре с Лешкой, я отказался от дальнейшего участия, сославшись на усталость.
Смутная тревога выбивала меня из общего круга, а потому, постелившись на диване, я сразу сунулся в свежую прохладу постели и ушел в себя, перемалывая свою бесконечную думу.
Но, не найдя утешения, потихоньку погрузился в тягучий сон и во сне ощущал свое сиротство. А надо мной как рок стояла чья-то скорбная усмешка, зловещим крылом осеняя случайный ночлег. Когда отчаяние и тревога переполнили меня до краев, я был разбужен грубыми толчками беспокойного Кононова.
– Гуга, – услышал я его голос, и во тьме в насмешливом оскале зубов отчетливо сверкнули два золотых огонька.
– Что? – прошептал я, вслушиваясь в тишину со страхом за Синего, и приподнялся на локтях.
– Лютует! – радостно сообщил Кононов, повышая голос, и придвинулся ко мне, чтобы пояснить значение слова руками.
Пренебрегши невидимыми мне жестами, я спросил шепотом:
– Гришка, что ли?
– На донку рыбка попалась! – тут же отозвался и Кононов, зажимая ладонью рот, чтобы не расхохотаться. – Здорова рыба-то. Слышь, как клюет?!
И тут до меня дошло. Не зная почему, я присел в постели и тоже, как Кононов, зажал себе рот, хотя и не собирался ни говорить, ни смеяться.
Сквозь неистовый перезвон сливающихся страстей я отчетливо услышал мелодично-жалобный звон колокольчиков.








