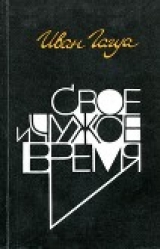
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Габо, занимавшийся исключительно шапками-блинами, чтобы по мере возможности сделать головы похожими, как и блины, друг на друга, улыбнулся желтыми зубами, польщенный вниманием красивой Цили, уже напяливавшей на головку изделие шапочника.
– Этим, дорогая Айзгануш, обязательно нужно мазаться! – сказал Габо. – Тогда и тиф минует стороной…
Айзгануш сняла шапку с головы Цили и повесила на прежнее место, на гвоздь.
– От тебя всякая чума и так, без мазей, за версту обогнет! – улыбнулась старуха.
Но Габо плохо слышал Айзгануш. Он жадно впился чуть раскосыми глазами в Цилю, в ее бездонные синие глаза, зажженные изнутри задором молодой крови, и, распустив губы, таял…
– Хватит! – сказала сердито Айзгануш, дернув за кожаный передник шапочника. – Теперь верни ей все вещи, пока не помял неуклюжей рукой!
Габо передернуло, и он, не зная чем искупить свою вину, растерянно взглянул на мальчика.
– Чей же ты?
Маленький Габо, скосив длинное лицо, глухо промямлил:
– Бабушки Айя…
Габо-старший сошел со своей кибитки и опустил тучную ладонь на вытянутую вверх головку Габо-младшего. Но рука, едва коснувшись головки, брезгливо убралась за спину.
Узрев в трехлетнем мальчике крайнюю небрежность Яхве, создавшего его в утробе матери по своему образу и подобию, шапочник грубо выругался, когда гуляющие отошли на почтительное расстояние:
– Козявка! – Но, сплюнув смачно ажурным плевком, немного смягчился, поясняя шапке, вынутой из тисков колодки: – Плохенький свой – лучше пригожего чужого! – Сказав так, он знал, что врет, ибо «плохенький» везде оставался «плохеньким», где бы он ни был.
Тем временем Айзгануш, затесавшись между молодыми поколениями – Цили и Габо, – двигалась вдоль лавочных рядов, то и дело кивая в знак приветствия огрузневшим от вечного сидения лавочникам. Затем, пересекая площадь по прямой, она услышала голос чувячника, вдруг запевшего с щемящей тоской сердца. Двигаясь вперед, Айзгануш видела, как Андроник-чувячник во время коротеньких пауз обсасывает розовыми губами подковку обвислых усов. А грустные раздумчивые слова, летя нежной струей, обливали душу каким-то несказанным умилением.
Ах, сирум, сирум…
В воздухе раненой птицей плыла трепетная песня, западая за горизонт.
Циля, вырываясь вперед, тоже что-то бормотала, улыбаясь одной ей ведомой мысли.
– Что, девочка, хорошо поет? – говорила Айзгануш, удерживая порыв Цили во что бы то ни стало догнать песню… И она ощутила в себе волнение армянской крови, тоже древней и могучей. – Любит еще, коль заставляет тосковать песню…
Но песня, так же неожиданно, как и началась, оборвалась на полуслове.
Смущенный тем, что его услышала Циля, Андроник склонил голову над шитьем очередного чувячка и плотно сжал розовые губы.
Айзгануш, поравнявшись с лавкой чувячника, нежно проронила:
– Как поживаешь, Андроник? – Она хотела похвалить его за песню, но, зная, что этим еще больше ввергнет его в смущение, раздумала.
– Спасибо, оркур![3] Живу, а как – сам бог не ведает! – отозвался Андроник, стыдливо взглядывая на Цилю, еще больше покрасивевшую за эти три года, которые он ее не видел. – Вот сшиваю верх и низ, хотя наперед знаю, что все равно недолго быть им притянутыми друг к другу, – нет такой нити, чтобы соединить два куска навечно, хоть они из одного материала…
Внимательно слушавшая чувячника Айзгануш прихлопнула веками глаза и, уставившись невидяще лицом в собеседника, еще более затейливо, чем начал Андроник, ответила:
– Каждый бежит за своим доктором… Но и сам доктор тоже ищет своего исцелителя… И редко в этом мире, чтобы двое бежали навстречу друг другу, Андроник. Вот и получается, что чувячники жизни оживляют то, что все равно не соединится…
– Спасибо, оркур! Я тоже так думаю. – Андроник облизал губы и поник головой. – Об этом и в песнях поется.
Когда наконец выговорились собеседники, наступила тишина, которая и должна была развести этих людей хотя бы до следующего раза. И, боясь, что это произойдет перед тем, как Андроник успеет предложить подарок, он поднял глаза прямо на маленького Габо, глядевшего в упор разными глазами.
«Господи! Что это такое?» – дрогнуло сердце Андроника, и память увела его в детство – в деревенский дом, где у них была собака точь-в-точь с такими разными глазами. А сейчас мальчик-недомерок напомнил ему прошлое, и сердце содрогнулось и от жалости к ребенку, и к его матери, которую, несмотря ни на что, по-прежнему любил. И пока он разглядывал мальчишку и ворошил в памяти давно минувшие дни, Айзгануш дернула Габо за руку и повлекла его за собой. «Вот так… теперь обойдем еще кое-кого, и на сегодня будет вполне довольно… А то чешут языками, словно бабы…» – размышляла Айзгануш, довольная прогулкой.
Проходя мимо колхозных духанов, поднятых над землей на три ступени, в отличие от лавок ремесленников, Айзгануш мельком отмечала застывшие над прилавками фигуры с утра похмелившихся духанщиков, а потому насмешливо настроенных. Каждый такой духан был отмечен своим особым цветом. И Айзгануш знала не только каждого из духанщиков, но и принадлежность духана к тому или иному колхозу, возможности которого были налицо: одни были свежевыкрашены, другие же стояли облупившиеся, с чешуйками красок многолетней давности. Такие духаны, как правило, торговали только дешевыми фруктами и бочковыми сырами, пахнувшими волнующими запахами плоти. Забегали сюда в основном безденежные люди, и пили красное вино, и закусывали соленым сыром прямо из бочки, в которой уже плескался позеленевший от долгого употребления сыра рассол.
– Не извивайся червячком! – громко ругала маленького путешественника Айзгануш, чтобы пройти мимо духанщиков, оставив их без внимания. «Довольно с нас и города, – улыбалась про себя она. – В деревне предостаточно и своих новостей…»
Так, шаг за шагом, оставляя духаны и некоторые лавки за собой, Айзгануш приблизилась к лавке старого Панджо, чьи выпуклые рачьи глаза глядели маслянисто куда-то мимо всех и даже того пространства, в котором пребывал в данном случае, машинально играя пальцами на «арфе», трепля какую-то свалявшуюся грязно-серую массу не то из шерсти, не то из ваты, чтобы, расщепив старые страсти канувшей жизни, дать пространство для сцепления новым страстям и новому дыханью.
Маленький Габо, увидев столь забавную игрушку в руках старого человека, шумно засопел, кривя в улыбке клином вытянутое лицо.
– Калимера[4], Панджо! – произнесла Айзгануш и тягуче, нараспев начала говорить на греческом языке, чем доставила немалое удовольствие греку-трепальщику Панджо.
– Калимера, Аня! – ответил Панджо и, отложив свою «арфу», принялся внимательно разглядывать стоявших за порогом. – У тебя уже и внук? Откуда же он?
Айзгануш улыбнулась:
– Из бессмертия, Панджо!
Панджо тоже улыбнулся ей, вспоминая дни юности. Хоть они и промелькнули быстро, а он состарился вместе с Айзгануш, но тот аромат еще жил в нем, как тусклый свет ночника в громадной комнате, где утонули неясные предметы во тьме ночи.
– Почему ты, Айя, не пошла за меня замуж? – еще больше выпучив рачьи глаза, спросил Панджо, но уже весело, с дистанции времени. – Разве я был хуже твоего Геворга?
Циля, переминаясь с ноги на ногу, вырывалась.
– Куда ты? – громко, но по-матерински ласково журила Айзгануш Цилю. – Нет там ничего хорошего, девочка! Это мираж, обман…
Циля нахмурила лоб и заплакала бесшумно одними слезами, уже покорясь своей участи быть привязанной к старухиной руке.
Панджо, тронутый горем Цили, встал со своего стульчика, подошел к ней и протянул красную нить из пряжи.
– Повяжи вокруг шеи! Тебе это будет к лицу…
Циля тут же перестала плакать. Влажные ее глаза вновь наполнились радостью синевы.
Старик неуклюже, кое-как повязал вокруг шеи красную шерстяную нить на бантики и вернулся на свое место, едва сдерживая слезы…
– За что же ее так? – выдавил Панджо после продолжительной паузы онемевшим от чужого горя языком и остервенело принялся трепать трепку…
В это время к лавке подошли мясник с колхозного духана и базарник. Первый держал графин с красным вином, а второй – горшок с дымящейся фасолью. Горшок покоился на круглом лаваше.
Поздоровавшись с Айзгануш, которая с силой отдергивала Габо от лавки трепальщика, и с Цилей, не сводившей глаза с бантиков на вырезе платья, и мясник и базарник повернулись в сторону далекой теперь лавки чувячника, откуда доносились скорбные завывания тоскующего животного.
– Слышите, дядя Дзаку? – с ухмылкой спросил базарник, покачивая лаваш вместе с горшком, словно поднос перед собой.
– Ревет, подлец, на луну, как пес! – ответил мясник и поставил графин с вином на приступочек лавки. – Слышу, Саид-абхаза…
Базарник остался доволен тем, что мясник не стал в присутствии Айзгануш и Цили ломать его собственное имя, что часто проделывал мясник, чтобы вместо имени Саид получить «саит», то есть «куда?», поскольку такое смягчение окончания давало новое звучание на грузинском.
Айзгануш, наконец справившись со своими попутчиками, бросила какое-то слово Панджо и поспешно, насколько позволяли детские неустойчивые шажки, отошла от лавки. А спешила она еще потому, что не выносила дерзость Дзаку. Тут еще он, не переставая молоть языком, разглядывал лицо мальчика, особенно глаза, и подбрасывал брови, говоря: видите, у мальчика один глаз зеленый с веселым вкрапом оранжевых зайчиков, а другой – карий, как у банковского работника Ицхока?
Так удачно, как и не предполагала Айзгануш, закончилась первая вылазка в свет, что в какой-то мере раздосадовало Басю, не желавшую показывать «своего» уродца свету. Но дело было сделано, и, как показало время, своевременно, так как город, как и все небольшие города, долго ни удивляться, ни запоминать не в состоянии в силу своих неглубоких мозговых извилин…
И Айзгануш, как человек с большим жизненным опытом, дала городу ту естественную порцию для заполнения извилин-сот и на некоторое время вышла из игры, чтобы, появившись затем уже через неделю или две, идти без опасения в город, пристрастия которого, как правило, перерастали в паноптикум, выявляя в оскале жадного хищника готовность вкусить мертвечину…
А когда она выждала тот срок, который и должен был ей гарантировать безболезненное для себя и для тех, честь коих оберегала, гулянье, вновь вышла на площадь.
В привычном порядке – в середине Айзгануш, по бокам Циля и Габо – шествовали по однажды уже проложенному маршруту.
За дощатым забором как улей гудел рынок, а на площади, как и в прошлый раз, лавочники готовились отобедать небольшими группами, чтобы во время обеда обменяться новостями или шутками, кочевавшими из года в год и за время долгого кочевья утратившими и смысл и пыл. Но тем не менее, чередуя фасоль с мясным харчо, лавочники чередовали и иную пищу.
Проходя мимо лавки трепальщика, Айзгануш заметила Дзаку.
Тучный мингрелец с грязным передником мясника, подняв до ушей округлые плечи, а руки сложив на тугом животе, глядел крупными глазами в даль, ему одному видимую, выуживая там взращенную кем-то дерзость.
– Когда это случится, – услышала Айзгануш голос Дзаку, предвещавшего какой-то несусветный потоп – карачаевцы будут смеяться, глядя на гибнущую долину.
– Вай чкими цода![5] – молитвенно шептал Панджо.
Правда, в этой преувеличенной мольбе Панджо Айзгануш улавливала желание сказавшего драматизировать предсказание Дзаку и тем самым польстить ему за редкую способность читать мысли природы за несколько дней или часов до того, пока она станет доступной и ребенку.
«Что это он несет, этот мурзук?[6]» – невольно заинтересовалась Айзгануш и направила стопы – свои и чужие – к лавке Панджо, где шел предобеденный разговор.
Говорить в те годы, и говорить много, было правом мингрельца, поскольку два языка доминировали в этом городе: мингрело-русский и русско-мингрельский, а остальные языки, бывшие доминанты – турко-греческий и греко-турецкий, – лишь вливались отдельными словечками, как тусклый свет ночника в ночное пространство, чтобы подсказать человечеству преходящее значение доминантства.
– Здравствуйте, – сказала Айзгануш, вступив в черту той территории, которая считалась территорией трепальщика. – Не смогла пройти мимо, хотя наш маршрут сегодня должен был быть иным. И виноват в этом Дзаку!
Так как Айзгануш говорила на языках того доминантства, которые отмечены были богатством в результате слияния языков отдельными понятиями, то приезжему человеку могло показаться, что он имеет дело с совершенно новым языком.
Перескакивая с языка на язык, как птица перепархивает с ветки на ветку, легко и без напряжения, и теми же средствами получая ответы, воздух постоянно был в возбуждении, чтобы воспроизводить в пространстве рожденные в головах мысли.
А мысли, после того как влетали в уши и оставляли «соль», выпархивали из них обесплотившимися и соединялись с воздухом, став такими же эфирными, как и воздух.
– Я не ослышалась? – спросила Айзгануш. – Со старыми такое бывает…
Дзаку, делая вид, что не понимает, о чем идет речь, приставил левую ладонь к своему тугому животу, а правую вложив, как клинок, в нее, стал ждать объяснения.
– Слышала про какой-то потоп… – пояснила Айзгануш и добавила: – Не за себя тревожусь!
И как бы в подтверждение того, что Айзгануш не за себя тревожится, Габо устремил в небо разные глаза: левый, с хохочущим вкрапом, к высокому престолу богу богов – Яхве, а правый, с грустным налетом карего цвета, – к чертогу Иисуса, расположившегося этажом ниже, и заржал жеребенком, за что получил свой первый подзатыльник за дерзость отрешаться от земли в детской гордыне.
– Ох, не за себя тревожусь! – повторила Айзгануш. – Не приведи такому случиться!
Тут Циля, до сих пор стоявшая безучастно с милой улыбкой на губах, вдруг категорично заявила:
– Не надо, Айя! – и стала вырывать хрупкое запястье из тисков старушечьей руки, все больше и больше тяготясь и обществом, и топтанием на месте.
– Дай, девочка, поговорить с людьми! – с нежным упреком проговорила Айзгануш, но, повинуясь воле Цили, стала медленно, так и не узнав до конца всей сути страшного предвещания, отходить от лавки.
– Дзаку, Айя, – вступил в разговор Панджо-грек, давно утративший имперские права говорить важные вещи от своего имени, – Дзаку говорит, что карачаевцы разгневаны за осквернение лучшей кобылицы аракачским пастухом Карапетом, и они насылают на нашу долину потоп, чтобы смыть с лица земли долинных жителей за это…
Айзгануш остановилась и, обернув недоумевающее лицо к лавочникам, застыла всем корпусом.
Примкнувший к этому моменту к своим собратьям Андроник протестующе замахал рукой, краснея и за Карапета, и за тех, кто затеял столь щепетильный разговор.
– Неправда это, оркур, неправда! Тот нечестивец, запятнавший человеческий род осквернением необъезженной породистой карачаевской кобылицы, был зухденец Мамия Малашхиа…
Айзгануш облегченно выдохнула, поняв наконец первопричину предполагаемого Дзаку бедствия.
– Спите спокойно, ничего страшного не случится…
– А если кобылица по прошествии положенных, сроков того? – сказал Панджо. А поскольку он говорил без улыбки на лице, то трудно было понять, шутит или говорит серьезно. – У меня есть книга про такое… – И Панджо осекся, жалея, что затеял такой разговор, ибо такое касалось его прародины – Греции…
– Аэ! – подтвердил молодой абхазец-базарник, подошедший с вином в графине. – Там лошадь нарисована и, как положено лошади, – все четыре копыта, а с шеи человеческая голова. Зовут его Херон. Сам читали.
– Не Херон, а – Хирон! – поправил его Панджо и полез за книгой, чтобы показать остальным.
Дзаку прыснул счастливо:
– Значит, в Карачаеве будут иметь своего Хирона! – И, вынимая из «ножен» ладонь-клинок, он сверху вниз рассек воздух. – Смесь карачаевской кобылицы и аракачского Карапета! Надо будет спросить моего знакомого юриста, будут ли судить этого Карапета…
– За что же судить? – удивился Панджо, открывая книгу на той странице, где иллюстрировалась мирная беседа Хирона со своими подопечными из рода Зевесовых.
– Как за что? – удивился в свою очередь Дзаку и, выдержав свое удивление ровно столько, сколько того требовало предписание закона за такое содеяние, добавил: – За совращение! Есть такая статья!..
Айзгануш этих слов уже не слышала. Уверившись, что Дзаку просто дурачит Панджо, она продолжила свой путь к парку Сталина, где в центре был поставлен ему мраморный памятник во весь рост. Вокруг памятника был разбит цветник, а напротив цветника стояла большая скамья, оттуда можно было любоваться цветами и памятником одновременно. Но, проделав в сторону парка всего лишь сотню шагов, она невольно повернула обратно. Какое-то смутное предчувствие стало тяготить ее. На дне души, словно осадок, мутилось содержимое и вызывало неприятное ощущение. Однако что, она не знала, пока не всплыло в памяти сновидение, посетившее ее под утро.
Ведя за руки Цилю и Габо, Айзгануш шаг за шагом восстановила сон и содрогнулась от ужаса, связывая его с тем, что услышала у лавочников.
«Домой! Скорей домой!» – говорила про себя Айзгануш, силой увлекая за собой своих подопечных. Тут же пророчество Дзаку оформилось и зависло зловещей птицей над ней, а голос, предупредивший ее во сне сегодня не выходить на улицу, ознобом остудил сердце.
Не останавливаясь нигде, Айзгануш добралась до дома и, заперевшись в нем, стала наблюдать в окно за площадью, где люди привычно ходили – кто на базар, кто с базара.
Во второй половине дня наступило затишье: замерли вдоль площади камфорные деревья. Распластав над городом свои крылья, ветерок стал парить бесшумной птицей, высматривая свою «жертву». Лавочники, набившие желудки обедом и сдобрившие его стаканом доброго вина, разомлели, бездумно откинувшись на спинки своих сидений. Лишь в лавке Панджо по-прежнему оживленно спорили, превратив пророчество Дзаку в шутку, которая еще к тому же выявила скотоложца. И продлись еще этот разговор вокруг Карапета или Мамия Малашхиа, как вовсе бы предали забвению давешнюю тревогу, посеянную с предвестьем Дзаку. Но вдруг все разом переменилось: затишье сменилось тревогой, и люди, до сих пор беспечно ходившие по площади, руководимые чутьем самосохранения, сами того не сознавая, стали покидать общественные места и спешить в свои жилища. А только что мирно паривший над городом ветерок сделался шаловливым и, раскачивая верхи камфорных деревьев, непочтительно стал трепать их за челки.
Почувствовав приближение гнева господня и его карающей десницы, Дзаку приосанился, настороженно вслушиваясь в малейшие шорохи.
Все четверо к этому часу находились рядом: Панджо, держа свою «арфу», чтобы воспеть по примеру своих далеких предков надвигающуюся стихию в гекзаметрах, выглядывал из лавки-ладьи. Андроник, здорово побитый общественным порицанием за Карапета, сидя за низеньким столиком перед лавкой в окружении Саида и Дзаку, время от времени обсасывал обвислые усы-подкову и был в большой обиде на мясника, взявшего на себя роль прорицателя.
– Разгневались карачаевцы!.. – чуть слышно процедил сквозь сжатые губы Дзаку и задрал голову. – Уносите столик в мой духан. Там будет безопаснее.
Дзаку не без основания гордился своим духаном, поднятым над землей на высоту трех ступеней.
Саид взвалил обеденный столик, за которым они уже несколько лет кряду обедали, отнес и поставил в просторный духан Дзаку, где над прилавком с железных крюков свисали куски говяжьего мяса, покрытые ажурной «шалью» внутреннего жира, чтобы не позволить мухам засидеть, и снова вернулся к своей компании.
– Начинается… – снова процедил Дзаку и, побледнев от суеверного страха, заерзал на месте, не зная как поступить – идти к себе или оставаться тут.
На небе, словно бессчетная орда завоевателей в черных бурках, сшибались тучи, перекатываясь друг через друга, круша на пути свет и клубясь.
И лавочники, онемевшие от страха, устремили глаза, на тучи, яростно наползавшие на город. И тут на глазах у них стало меркнуть светило, еще недавно палившее сверху, а мир – погружаться в преисподнюю.
И в это время, когда живое жалось к живому, Андроник встал, пошел к своей лавке на ощупь-наугад, так как внезапно спустилась мгла, и через несколько минут известил о своем благополучном прибытии в собственную лавку душераздирающей тоской:
– Ах, сирум, сирум…
– Воет как зверь! – недовольно заметил Дзаку, как бы уходя от ожидания того, чего с любопытством жуткого страха ждали все. – Глядишь, скоро помешается…
А из густой, стелющейся уже по городским дворам мглы все отчетливее с настойчивостью безумца доносилась та же тоска:
– Ах, сирум, сирум…
– Вот видишь, дразнит карачаевцев… – снова проговорил Дзаку и скрестил руки на груди в тайной молитве к богу.
– Послушай, Дзаку, – вдруг торопливо заговорил Панджо, – может, телеграмму отбить карачаевцам?.. Извиняемся, мол, просим не гневаться за оскверненную Карапетом кобылицу. Готовы всем миром послать на предмет взаимного удовлетворения двух кобылиц самых горячих кровей…
Закончив свою устную телеграмму в Карачаевск на языке одной из частей доминантства, Панджо, сам того не ведая, допустил оплошку со словами «на предмет взаимного удовлетворения», что, конечно, не прошло не замеченным Дзаку, бурно отреагировавшим на эту оплошку, сразу же выросшую до христианских амбиций…
– Ты в своем ли уме, старик? – подскочил на месте Дзаку, ужаленный за самое больное. – Как можно позволить этим мусульманским выкрестам осквернять христианских кобылиц? Ни за что на свете!.. Лучше пусть смоет всю долину…
Буря, грохотавшая в жилах Дзаку, сменилась наскоком порывистого ветра, ветер – стрелами косого дождя. Затем на карачаевской стороне разразился гром, прокатившийся божьим гласом.
– Начинается! – прошептал дрогнувшим голосом Панджо, ощущая, как в жилах беспощадно стынет кровь.
– Аэ! – подтвердил Саид, устремляясь зоркими глазами в недвижимую даль. – Начинается! – И с этими словами неожиданно сорвался со стула и бросился в кромешную темь.
– Саит! – едва успел прокричать ему вослед Дзаку, желая не столько пошутить в этот час, сколько не изменять своей привычке. – Вот, шельмец, утек! – Он приподнялся на согнутых коленях, прижимая к заду стульчик, кое-как протиснулся в проем лавки и устроился рядом с Панджо.
– Начинается! – повторил обреченно Панджо. Но его слова утонули в грохоте разорвавшейся грозы.
На небосклоне, словно гигантский Кодори со всеми своими многочисленными притоками, вспыхнула молния, рассекая бесноватыми лучами темное пространство. Эта небесная «река» хрустнула всеми суставами, прошивая оранжевыми стрелами крыши домов, и обрушилась ливнем.
– Нана чкими цода! – простонал Панджо и, больно прижимаясь плечом к рядом сидящему Дзаку, плотно зажмурил глаза. Но и сквозь плотно пришлепнутые веки глаза успевали отметить вспышку новых «рек», теперь еще с большей устрашающей силой обрушивающихся на город.
Гроза, сминая крыши домов своей тяжелой поступью, наконец громыхнула на окраине, вонзилась в пучину моря и залегла в его глубине, чтобы накатывать со страшным грохотом валы на прибрежную жизнь.
– Что это, Дзаку?! – дрожа всем телом, протяжно простонал Панджо, видя, как в мгновение ока с холмов устремилась вода по беззащитным улицам и уже подбирается к лавке, норовя сместись ее со своего трона.
– Возмездие за тяжкий грех человека перед природой! – убежденно ответил Дзаку. – Наступил час расплаты, Панджо, и уже не минует нас десница карающего…
А между тем десница карающего из невидимой небесной прорвы неистово-зло крушила землю безудержным ливнем.
– Потоп! – выдавил из застывающей гортани Панджо, постигая смысл этого слова онемевшими губами.
– Потоп! – ответил чужим голосом Дзаку и тут же умолк, нашаривая между ног поднятую водой тряпку.
– Вава чкими цода! – запричитал трепальщик, словно оплакивая тех далеких предков человечества, кому суждено было пережить ПОТОП.
– Тише, Панджо! – оборвал его Дзаку и, уставившись в сторону невидимой площади, стал напряженно ловить доносившиеся оттуда звуки, держа в поле зрения чуть приметный огонек, мерцавший сквозь пелену ливня.
По мере того как перемещался огонек, мерцавший светлячком и тут же умиравший, с той стороны площади летели невнятные звуки, но, натолкнувшись на ливень, падали замертво и уносились завыванием ветра, порывисто слизывавшего подслеповатое пространство.
– Слышишь, Панджо? – с замиранием сердца спросил Дзаку, убежденный в том, что звуки и мерцание огонька принадлежат дому сестер Мунич.
– Нет, не слышу, Дзаку! – так же с замиранием ответил Панджо, подспудно понимая, что сейчас должно произойти что-то страшное, необратимое.
В это время, разрывая шум ветра и ливня, донесся зловещий крик Айзгануш.
– Ци-ля!!! Циля!!!
Сорвавшаяся со всех холмов вода теперь бешеным аллюром устремилась вниз полновластной рекой к бушующему морю.
За площадью по-прежнему мелькал неумирающий огонек, нагнетая тревогу.
Приковав внимание к чуть приметному дыханию огонька, Дзаку чутко навострил уши, но ничего похожего на голос Айзгануш не услышал.
По-прежнему толчками билась шумливая вода о торец лавки.
Стульчик, на котором сидел Дзаку, уже утонул по самые ножки в воде, и от давления снизу готов был выскользнуть из-под него и плыть по течению вниз, туда, куда увлекала все настойчивее нагрянувшая стихия…
Панджо, плотно прижавшись к Дзаку, тайно молил бога уберечь его старую жизнь вместе со старенькой лавкой, принайтовленной проводами к железным крюкам, вбитым в землю.
А лавка между тем, как пойманная птица, билась об железные крюки, тревожно звеня проводами.
Дзаку привстал, отчего подскочил и стульчик, на котором он сидел, и стал вслушиваться в стихию, чтобы выхватить из-за ее шума уже доносившийся до него голос Айзгануш.
Панджо, почувствовавший отсутствие только что сидевшего рядом с ним Дзаку, а между прилавком и собой – вертящийся стульчик, отчаянно закричал:
– Дзаку, не оставляй меня!
Но Дзаку в это время спустил с лавки правую ногу, а когда сбросил и левую, лавка качнулась и оттолкнула его по самые бедра в воду.
– Держись, Панджо! – выдохнул Дзаку и, оглянувшись на лавку, увидел, как она, скользя по поднявшейся воде, раскачивается на проводах. Потом ему даже померещилось онемевшее лицо трепальщика, но это было всего лишь плодом его воображения.
Медленно нащупывая устойчивую почву под ногами, тут же вымывавшуюся, Дзаку пошел на мелькание огонька. Огонек вспыхнет, погаснет. Дзаку шагнет, замрет и снова продолжает путь. И вот наконец он достиг развороченного двора сестер Мунич. Лишь настежь открытые ворота говорили о том, что двор когда-то был огорожен дощатым забором.
Низенький домик по лестничную площадку ушел в воду, а потому ступеней видно не было.
Дзаку ногой нашаривал под водой лестницу в дом, но, так и не найдя, постучал в окно, за которым бледно светилась керосиновая лампа.
– Айзгануш! Открой окно! Это я, Дзаку!
Но за окном лился лишь бледный свет лампы и слышался сиплый вздох женщины. Затем Дзаку услышал отчаянный плач уродца.
Ливень, обрушиваясь на Дзаку, стоявшего под стоком крыши, еще с большей силой готов был повергнуть его, но, к счастью, в окне он увидел Басю и заколотил еще сильней.
– Открой окно! – кричал он из последних сил, захлебываясь водой и ненавистью к глухим жильцам.
Бася невидяще взглянула на Дзаку и спросила:
– Не нашли?
– Кого? – удивился Дзаку.
Бася шумно заплакала и, содрогаясь плечами от смертельного озноба, проговорила:
– Во время грозы стояли с Цилей на площадке лестницы… Я держала ее за руку, но она вырвалась и выбежала за ворота… – Бася зарыдала и метнулась, в комнату, откуда долетал крик Габо, искавшего Айю…
Дзаку тут же отлепился от горем дышащего дома и, уйдя по бедра в воду, пошел вслепую вперед в надежде где-нибудь наткнуться на исчезнувшую Цилю.
Сорвавшаяся с северного склона вода в низину мчалась во всю прыть, толкая в спину и торопя Дзаку в сторону бульвара, за которым в зверином рыке вздымалось разгневанное море, вышибая мощными ударами валов пресную воду на прибрежные дворы.
Дойдя до водораздела и ухватившись там за ствол уцелевшего дерева, Дзаку обернулся назад и с тайной надеждой прислушался к шуму ливня, теперь уже огибавшего город и уходившего в открытое море, отчего тут же в разрывах туч забрезжила синева неба, подсвеченная сбоку солнечным светом.
Дзаку трижды перекрестился и выдохнул молитву:
– Господи, спаси нас, грешных! Дети твои!
И действительно, вскоре мингрельский бог Туташхиа сжалился над своими неразумными детьми и, видимо, переговорив с карачаевским, решил осветить мир светом своим.
Разом осветившийся город вновь засверкал обломками зеркал, внушая его жителям силу и власть всевышнего.
Оглядевшись по сторонам, Дзаку увидел, как мощно напиравшая сверху вода уже слабеет.
По широкому коридору улицы все еще продолжали плыть предметы домашнего обихода, обретшие вновь свою ценность. И люди, дотоле где-то прятавшиеся, высыпали в погоне за своими и чужими вещами.
Дзаку бросил взгляд в море, над которым тоже проливался свет небесный, и увидел лодкой раскачивавшуюся лавку Габо, а рядом с ней – целый выводок шапок. Затем за спиной у высоких кустов камфорного насаждения Дзаку услышал голос и самого Габо, стонавшего от нанесенного потопом ущерба.
– Дзаку, спаси мою лавку! Спаси мои шапки!
– Не скули, Габо! – сказал Дзаку и впервые за время потопа широко заулыбался, глядя на уплывающую вглубь моря лавку, а за ней шапочный выводок. – Дай телеграмму Шамону! Он встретит их на том берегу!
Габо тут же умолк, видимо, соображая, что ничего в мире не пропадает, и, тоже слабо осветившись улыбкой, слез с кустов и пошел к Дзаку.
– Мартали[7], Дзаку! Мартали!
Теперь они оба, обогнув половодьем ревущую улицу, пошли ее задами к площади, где изрядно поредело число лавок и духанов. И вот, ступив на крыльцо примыкавшего к площади дома, они увидели, как перевернутая навзничь лавка Панджо вместе со своим хозяином держится на плаву, вертясь вокруг прежнего места, удерживаемая одной струной проволоки.
Ослепленный страхом Панджо таращился рачьими глазами вокруг, не смея ни кричать, ни сопротивляться стихии, так удачно распорядившейся трепальщиком.
– Калимера, Панджо! – вдруг весело выкрикнул Дзаку сидящему, как в лодке, в лавке трепальщику. Но лавочка в это время развернулась спиной, и рачьи глаза перепуганного «лодочника» устремились в противоположную от Дзаку сторону.
– Непе![8] – снова закричал Дзаку, когда лавка развернула лицо своего владельца к Дзаку. Но Панджо, помелькав перед Дзаку, вновь развернулся спиной. – Слышишь, непе, затопили нас карачаевцы из-за своей кобылицы! Затопили безбожники!..
– Вай чкими цода! – застонал повернутый спиной Панджо, и от вернувшегося к нему ощущения жизни, от ее хрупкости Панджо заплакал, прикрыв натруженными руками лицо, заглянувшее в глаза смерти.








