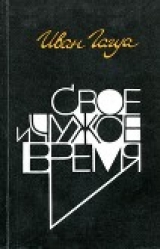
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Как у меня день рождения – у нее дежурство! Будто уж единственный врач во всей «скорой»! Папа, если позвонит Элла Моисеевна, – так она называла мать, – скажи, что я укатила к Ритке…
– Скажу, – весело сощурясь на мясные и рыбные паштеты и холодную закуску из копченой и вяленой рыбы, пообещал Соломон Маркович, терявший терпение.
И вот наступил долгожданный миг.
Воспринимая отсутствие жены как знак полной свободы духа и плоти, Соломон Маркович переместился за стол, усаживая и меня подле себя и начиная грузинское застолье с кутаисским акцентом, украшая тосты грузинскими изречениями, смачно врезавшимися ему в память. А вскоре, воздав должное внимание виновнице вечера, то есть Басе, он ударился в воспоминания, выуживая из далекого прошлого дорогие имена Михако Давиташвили и самой ненаглядной красавицы Нателы, отныне жены Како Уча, того самого, на свадьбе которого в тесном окружении приглашенных милиционеров отстрелял семьдесят четыре пули лучший друг Соломона Марковича. И не просто отстрелял, а всеми семьюдесятью четырьмя угодил в самое сердце. Но Соломон Маркович, несмотря ни на что, любил их и пил за каждого, сдабривая тосты подробностями. И я, поддаваясь настроению рассказа, да и Бася, любившая россказни отца за их романтический налет, шалели от соприкосновения с чужою тайной и млели. А неутомимый наш рассказчик сыпал из волшебных рукавов волшебные истории, напоенные любовной истомой, и понемножечку хмелел от вина и от рассказа, словно одолеваемый ностальгией по далекой чужбине, куда нет больше возврата.
– Что ты со мной делаешь, Михако – спрашиваю я, – сыпал Соломон Маркович, удивленно тараща глаза на мнимого Михако за столом. – Разве лучшие друзья стреляют семьдесят четыре раза и прямо в сердце?
Бася, должно быть забавляясь экстазом отца, вопрошающего после слов еще и глазами, ежится в сладостной жути. Но уже подуставший Соломон Маркович выходит из пике и продолжает устало, почти буднично:
– Клянусь любимой навеки мамой, – отвечает мой лучший друг Михако Давиташвили, – я влепил бы в твою честь и все сто, если бы Како Уча оказался на твоем теперешнем месте… Но Како на то и Како, что голыми руками прибрал к себе Нателу. Ты же, Соломон, ждал, когда птенчик оперится! Вот и имеешь то, что имеешь…
Так, закончив свои воспоминания, связанные с милыми его душе именами, с Кутаиси, проникшим ему в плоть и кровь, он перешел наконец и к другой программе, к танцевальной, предусмотренной, видимо, программою вечера.
– Маэстро Бася! – выкрикнул он и, молодо сорвавшись со стула, напялив на голову кахетинскую круглую шапочку, едва уместившуюся на макушке, подошел ко мне, увлек на самую середину комнаты, дурашливо завертелся с кутаисским задором: – Маэстро Бася, бей-ка нашу!
И Бася, несколько лет тому назад закончившая «бить» в училище имени Гнесиных, выскочила из-за стола, опрокидывая на ходу стулья, скользнула в соседнюю комнату, откуда сквозь распахнутую дверь проглядывал краешек пианино, и неистово «ударила».
Соломон Маркович, уже успевший раскинуть руки, одну положил мне на плечо и, выдыхая горячо, что непременно придумает что-нибудь такое, чтобы сделать существующий закон незаконным, а меня, стало быть, слить с рабочим классом, резко отпихнул меня в сторону и запел, переходя на плясовую:
Нам, грузинам, все равно,
Что Натела, что Тамро…
Джаная, джаная, джаная, джа-аа…
Вертелся волчком и я, подкручиваемый Соломоном Марковичем, и тоже орал несуразное, придуманное в хмельном бреду.
Кахетинский вино пьем,
Знаем свое дело…
Джаная, джаная, джаная, джа-аа…
Кружась вокруг собственных осей с раскинутыми в стороны руками, мы напоминали громадный подсвечник с подброшенными кверху чашами…
И тут распахнулась входная дверь и в нее вкатилась женщина в белом халате и колпачке, напоминая собою ярчайшее полнолуние.
Соломон Маркович, продолжая пляску, подлетел к ней и, как-то просительно улыбаясь, чуть слышно пролепетал:
– Гость у нас!
– Вижу! – прогремело в ответ.
– Из Кутаиси, – пояснил Соломон Маркович, делая сложный пируэт. – Ну как, похож на Михако Давиташвили? Ну?
– Наверно, похож, раз ты находишь, – отозвалась она, улыбнулась мне, источая радостное сияние, прошла в соседнюю комнату и, поцеловав дочь в щеку и вручив ей хрустящий пакет, торопливо покинула квартиру, оставив морозную свежесть и дух валерьяны.
С ее уходом расстроилось и наше веселье. Отяжелевшие от пляски, еды и питья, мы стали прощаться и продвигаться к лестничной клетке, поминутно пожимая друг другу руки.
Наконец, крепко ухватившись за перила, я пошел отсчитывать ступени, как-то особенно приплясывая на каждой, пока не оказался перед неистово целующейся парой.
– Пардон! – сказал я, сблизившись с парой и стремительно вываливаясь за порог.
В своей тускло освещенной ночником комнатушке я застал своих земляков, сбившихся на полу, словно рыбы в консервной банке. Ничего не ведающие тела, заполнив собою всю комнату, издавали коллективный храп под тихое мерцание ночничка.
– Которые? – спросил я жену, растроганный ее слезами.
Она сидела с вязаньем, не желавшим вязаться, и роняла слезы, остро переживая последствия перенесенной болезни…
Не в состоянии держаться на ногах, я сел подле жены и так и уснул, помня и во сне о замечательной привилегии класса на физический труд. Собственно, моя привилегия была призрачной, на что время от времени намекал Соломон Маркович, пока в один из дней не объяснил всю сложность моего положения.
– Так что же прикажете с ним делать? – хмурил брови Соломон Маркович, вызвавший на беседу с некой комиссией меня в кабинет. – Человек работал… Сколько ты проработал у нас? – как-то мягко спросил он у меня.
– Два! – коротко ответил я, понимая, что с двумя этими месяцами истекло мое право на временный труд.
– Так вот, – продолжал Соломон Маркович, – человек работал два месяца, а на третий, нате вам, пожалуйста…
– В управлении… – тихо сказала Капа, плотно сжав губы. – Они сказали, что на постоянную ни в коем случае…
Соломон Маркович тоскливо взглянул на Капу, а затем, переведя взгляд на меня, неуверенно сказал:
– Ладно, не печалься! В беде не оставлю! – повернулся к Капе: – Иди, ты свободна! – И, пошуршав, порывшись в бумагах, отыскал «свиток» и, развернув его и отступив чуть ниже от первой записи Бенедикта, стал нервно черкать ручкой, а закончив, заявил, что мне лучше на время перейти в проектный институт, возглавляемый его старшим братом, Марком Марковичем. – Такая на данный момент ситуация… – заключил он, грустнея от неизбежности нашего расставания. – Закрепишься там, зачислишься в категорию служащих с соответствующей записью, а там вновь возьму тебя, комар носа не подточит…
Я принял из рук Соломона Марковича записку. Сложив ее гармошкой, чтоб наложенным листом заслонить первую запись, вышел на крыльцо проститься с рабочим классом и приготовиться к переходу в другое качество, которое сулило мне, по словам Соломона Марковича, теплую комнату и тихое шуршание бумаги.
«Уважаемый Марк Маркович! – писал Соломон Маркович своему старшему брату, видимо, повторившему облик их отца, в честь которого и звался. – Помоги всем, чем можешь, подателю этих записок трудоустроиться в своем институте в любом качестве. С. М.»
Внимательно перечитав обе записи по нескольку раз, я затрусил к остановке и, дождавшись трамвая, поехал задами-закоулками Ново-Басманной в сторону Елоховской церкви, сочиняя про себя на случай провала любезное послание «племяннику» Соломона Марковича – Бенедикту. Благо он жил здесь неподалеку. Поэтому, прежде чем отправиться домой по Садовому, я мог легко забросить свое послание в его почтовый ящик.
На Бауманской я выскочил из трамвая и, чуть вернувшись назад, пошел мимо памятника Бауману, потом мимо Елоховской церкви, на паперти которой ветхие бабушки с младенцами скармливали голубям хлебные корки.
Любуясь сочетанием белого и голубого, я снова пересек улицу, нашел, поднялся в проектный институт и представился Марку Марковичу, ничем не похожему на своего младшего брата.
Марк Маркович, колоритная личность с мясистым лицом, сидел за длинным столом, заваленным аккуратно сложенными чертежами в кальке, и расплывчато взглядывал на меня сквозь толстые стекла очков, удивляясь форме записок.
– Я от Соломона Марковича! – сказал я зачем-то, хоть это было понятно и так и, совершенно глупея от дурного предчувствия, добавил: – Он сказал, что поможете…
Марк Маркович тем временем прочел записи, снял очки и, держа их за дужку в руке, с любопытством уставился на меня.
– А что вы умеете делать? – вдруг спросил он, поражая меня глубиной заданного вопроса, поскольку сам я никогда им не задавался.
– Мм, – замялся я, обнаруживая всю бездну своей непригодности и конечно же полезности тоже.
– Чертить вы умеете? – уточнил Марк Маркович свой вопрос. – Или вы собираетесь заменить меня?.. – Грузная фигура Марка Марковича заерзала на стуле, выказывая категорическое нежелание уступать свое место.
Я между тем продолжал молчать, во всем полагаясь на инициативу своего собеседника.
– Ну… вы имеете хоть какое-нибудь представление о специфике нашей работы? – поинтересовался Марк Маркович, поняв, что на его должность я не претендую. – Здесь мы стишками не балуемся! Для подобных занятий по праздникам направляем желающих в стенную газету… А любовных посланий не сочиняем… Даже строго-настрого запрещаем…
– Извините… – сказал я. – Не по своей воле пришел. – И потянулся к «гармошке», хотя игра на ней тоже, как мне казалось, шла к завершению.
– Ах, Соломон, он все еще во власти далекого детства, – пробормотал Марк Маркович и, чтобы смягчить свой отказ, приступил к очередной записи на третьей ступени «гармошки», а закончив сей труд, задал, видимо, последний вопрос.
– Гвозди забивать умеете?
Я неопределенно моргнул глазами.
– Вот, возьми! – с оттенком безнадежности махнул листком Марк Маркович, заканчивая наше знакомство на более близком «ты». – Тебе там помогут. – И «гармошка» раскрылась на третьей складке.
С легкой руки Марка Марковича, ознакомившись с мастерской по индпошиву обуви и ее руководителем, я пустился бродить по Москве, забегая то на Покровку, то на Ильинку, то в Китай-город, смакуя очередные библейские имена и мысленно беседуя с Бенедиктом, положившим начало моему знакомству с работодателями, расположившимися на манер Ветхого завета: «Бенедикт родил Соломона, Соломон Марка, Марк…»
«Любезный друг и собрат Бенедикт Гершвович! Благодаря вашим стараниям, а особливо стараниям ваших родственников, – упивался я дорогой, – я изучил такелажное дело, соприкоснулся с образом несравненной красавицы – кутаисской Дульсинеи Нателы – и мужественного человека, всадившего в кутаисское небо семьдесят четыре пули Михако Давиташвили, побывал в городе Кутаиси, оказавшемся в пределах «Грузии печальной…». Засим, уважаемый король газетных виршей, разлюбезный отпрыск Гершва, спешу сообщить вам, что я овладел мастерством проектирования, то есть научился забивать гвозди в башмаки местного производства. Стоял под ружьем в древнем Китай-граде, чтоб в поликлинику закрытого типа не совались подозрительные типы без специальных бумажек, учрежденных министерством здравоохранения… И еще, Бенцион Гершвович, изучил в кинотеатре «Ударник» билетерское дело. Отсюда путь мой лежит уж на гору Синайскую, чтобы сверзнуться с ее высоты. Да отольются тебе, тиран-сластолюбец, слезы терпеливца Иверия! А также твоему богу Яхве, ненавистнику других народов!»
Не жалея ног, ходил я со своей «гармошкой», принявшей после очередных записей вид веселой тальяночки, пока не прибился к высокому подъезду на улице Кирова.
Подъезд был чист и высок, соответствуя статусу учреждения. В кабинете, обитом красным деревом и уставленном книгами классиков марксизма, сидел человек стерильного изготовления. Состоял он из добротного лоска и крахмальной белизны. Тщательно проглаженного, без единого намека на складки воротничка белой в полоску рубашки. Пучеглазых запонок на белейших манжетах, то и дело стыдливо выглядывавших из-под рукавов темно-синего костюма, должно быть, приобретенного в сотой секции ГУМа, куда ведет затейливая красивая лестница, существование которой известно далеко не всем посетителям. И весь сиял, проглаженный нежной негой подкожного здоровья, застенчиво розовевшего на спокойном интеллектуальном лице. Он ждал меня в кабинете, аккуратненький, как бюст (некрупный, как всякий интеллектуал), и сиял, и сиял чищенными особой пастой зубами, промытыми синеватой тепленькой водичкой глазами. Ждал, ревниво охраняемый за дверьми кабинета, в предбанничке, молоденькою особой, то и дело подмалевывавшей глазки, на дню раз по сорок щебечущей «нет» и только раз по пять «да».
Лев Львович, так звался стерильный, встретил меня внимательным взглядом, держа мою тальяночку на весу и на расстоянии.
– Странная вещица, – сказал он, сдержанно улыбаясь влажно сверкающими зубами и косясь на вещицу, приобретшую форму студенческой шпаргалки.
Я подтвердил замечание кивком, подыгрывая тону Льва Львовича:
– Вся начинена обращениями… и места не осталось…
– Да и этажей выше нет! – скромно заметил Лев Львович, подняв глаза к потолку с лепными фигурками амуров.
– В этом, собственно, здании… – уточнил я.
– Долгий, однако, путь, – задумчиво сказал Лев Львович и, спохватившись, указал мне на стул.
Я опустился на него, понимая, что Лев Львович привык взирать на посетителей в профиль.
– Странно, – тихо, с какой-то тоже тихой печалью в голосе продолжал он, чуть-чуть обернувшись на книжные полки с классиками марксизма в малиновых переплетах. – Конституцией нам гарантировано право на труд, а она (должно быть, конституция) не срабатывает… – Лев Львович слегка сдвинул брови, как бы обещая в ближайшую пятилетку разобраться с этим, и, чуть повеселев от такой решимости, добавил: – Мы с вами сейчас немножко отвлечемся от вашей проблемы, тем более что я уже вижу ее решение в пределах этого кабинета… – Лев Львович дважды нажал на звонок, вделанный сбоку в стол, и, на минуту прервав общение с моим профилем, напомнившим ему о муках недоедания, взял в руки синюю книжечку с белыми разводами на мягкой обложке, с без труда читаемым названием «ИУДАИЗМ» и повертел ею перед собой.
Тут в кабинет влетела быстроногая секретарша, расплескивая по пути с очень тугих бедер шелковое платье. Смачно подмазанные подглазья и вычерненные брови и ресницы придавали вполне классическому ее лицу, столь редкому в наше неклассическое время, мистический оттенок.
Она подлетела к столу и застыла в ожидании указаний, слегка скосив на меня взгляд с налетом божественной грусти.
Лев Львович со сдержанным интересом поглядел на представшую и, отметив какую-то волнующую для себя деталь в ней, поднял два пальца.
– Обычную…
– Погорячее? – не выходя из кабинета, скрылась она в какую-то дверь, плотно прикрытую тяжелыми занавесками.
– Не злоупотреблю ли я вашим временем, если немножко задержу вас? – поинтересовался Лев Львович, после того как мы вновь остались одни.
– Что вы!.. – отвечал я учтиво, больше думая о жениной болезни, оцененной профсоюзом в пять червонцев, и других неприятностях.
Секретарша вынырнула из-за занавесок с подносиком, уставленным бутербродами и кофейными чашечками, над которыми стоял аромат знойного лета.
Поднос быстро проплыл по кабинету и мягко приземлился на стол Льва Львовича, чуть-чуть подавшегося назад.
– Замечательно вы это придумали, – нежно сказал он, обращаясь исключительно к секретарше. – И как это удалось раздобыть икру?
Трудно было понять сразу, чего больше в этом «как» – иронии над доставшей или насмешки над черной икрой. Но секретарша, давно, видно, привыкшая к образу мышления начальника, сперва улыбнулась, а затем промурлыкала что-то вроде «Что вы, Лев Львович!».
– Посмотри, кто у нас в гостях!.. – продолжал в своем излюбленном духе Лев Львович. – Ну конечно же ты права. Писатель!
Между тем секретарша поставила передо мной бутерброд с черной икрой, кофе и сок манго в высоком стаканчике.
Чтобы не задерживать внимания на себе, я взял с блюдца ложечку и стал помешивать кофе, не позволяя себе притронуться к бутерброду.
В минуту, когда жена, уткнувшись в подол не верящей слезам Москвы, сидела, что называется, «на воде», в крохотной комнатушке, куда время от времени набивались мои земляки, поднятые паломническим ражем в христианскую Мекку на поклонение вещам, я не мог позволить себе такую роскошь – бутерброд с черной икрой. А потому составил компанию Льву Львовичу, ограничившись лишь черным кофе.
– Надеюсь, – сказал Лев Львович, прожевав первый кусочек бутерброда с какою-то мышиной аккуратностью и запив его кофием, – ты закрыла дверь и нам не помешают побеседовать с гостем?
– Ну что вы, Лев Львович! Конечно, закрыла! – отозвалась секретарша, продолжая стоять чуть поодаль и мягко улыбаясь каждому слову начальника.
Я больше всего не любил интеллектуальных бесед. «Интеллектуалы» обычно лишены практического знания жизни, где нет места красивому разглагольствованию. Однако, становясь им в оппозицию, я не раз оказывался вовлеченным в такую беседу, за что потом ненавидел себя, что дал себе так неосмотрительно увлечься. Нечто подобное затевалось и на этот раз.
– Скажите на милость, – вдруг ни с того ни с сего обратился ко мне с неожиданным вопросом Лев Львович, утирая белоснежным платочком губы, – вы хоть как-то знакомы с постулатами иудаизма?
Я отставил чашечку и подозрительно взглянул на Льва Львовича, чтобы понять: не шутка ли все это?
Нет, Лев Львович не шутил.
– На постулатах иудаизма поднялся фашизм! – сказал я в лоб, начиная увлекаться. – Иудаизм, как и фашизм, строится на исключительности одного народа, бога над всеми богами. И если затем с молоком матери иудеем усваивается исключительность своего происхождения на земле, то легко понять другие народы, которые, живя в лоне своих богов, не захлопывают дверей перед «чужаками», обособившись в гордыне своего сознания, ибо они считают, что бог неделим и что все равны перед ним.
Я говорил еще что-то, торопясь и волнуясь, подкрепляя свои суждения страстной жестикуляцией, вскакивая и вновь садясь на стул, приводя какие-то высказывания относительно иудаизма, а в конце своей пространной лекции, уставясь чуть сердитыми и вопрошающими глазами на Льва Львовича:
– Вот представьте теперь на минуту, что бог Яхве действительно бог всем богам!..
– Браво! – тихо захлопал маленькими ладошками Лев Львович и, приглашая секретаршу в сообщницы своего восхищения, потянулся к стакану с манго.
Я, чтобы не соблазняться соком, выражая к плоти равнодушие схимника, отставил его, ощущая легкое головокружение…
– Пейте! – сказал Лев Львович, опорожнив свой стакан и улыбаясь чуть померкшими зубами. – Он хорошо бодрит!
Я ничего не ответил, но и притрагиваться к стакану тоже не стал.
Лев Львович, воспользовавшись временной паузой, потянулся к телефону и, набрав нужный номер, стал терпеливо ждать, когда на том конце отзовутся, но, не дождавшись, попросил секретаршу связать его сразу же после перерыва с отделом кадров подведомственного ему учреждения, а затем, словно обходя какие-то подводные течения, вывел ладью интеллектуальной беседы к большому острову – Толстому.
– Меня очень часто занимает, – признался Лев Львович, сияя от сформулированного им внутри себя вопроса и выданного с таким блеском мне. – На чем основано вегетарианство Толстого?.. Какая философская концепция лежит в основе?..
Признаться, я не ждал такого помпезного вопрошания, да и знания мои не позволяли судить о серьезных побудителях толстовского вегетарианства. А потому от неожиданного вопроса и смущения я стал глухо буксовать на невнятном слове. Но вскоре, собравшись с кое-какими соображениями, робко сообщил что-то вроде того, что-де Толстой устал от вида крови и в каждой пролитой капле физически осязал живое существо. И затем, завершая свой ответ, в несколько резкой форме добавил:
– Вегетарианство было результатом его долгих размышлений, и он избрал его для себя, а не для всего человечества… И никому не предлагал следовать за собой, как это принято почему-то считать.
– Замечательно! – отметил Лев Львович, вкладывая в это слово какой-то обидный для меня оттенок.
Во мне с каждой минутой что-то натягивалось, как бы испытывая на разрыв и растяжение. Подмывало желание покинуть кабинет и бежать куда-нибудь на мороз, чтоб не видеть больше ни Льва Львовича, ни его секретарши, но мое крестьянское воспитание, замешенное на учтивости и долготерпении, удерживало меня на стуле. А дела между тем шли к развязке. Час обеденного перерыва иссякал, иссякали и известные всему миру истины: не проливай крови!
Было что-то глубоко грустное и смешное в нашей затянувшейся беседе, поскольку проистекала она не столько из желания души познать непознаваемое в одиночестве, сколько из желания высветиться друг перед другом. И игра эта, поставленная на мелком честолюбии, то и дело натыкалась на хорошо скрытые подводные «рифы» Льва Львовича, должно быть, про себя итожившего сделанные им дыры на моем зыбком «суденышке», потому как его чрезвычайно забавляло мое толкование толстовского непротивления…
– Да! – горячо отстаивал я его, почему-то загибая пальцы. – Вот смотрите, что получается…
– Смотрю! – весело отозвался Лев Львович и, как мне показалось, подмигнул секретарше, но я решил не реагировать на обиду.
– Итак, – продолжал я. – Толстой, чтобы остановить неразумную грубую силу, призывает не отвечать на нее силой и, что еще важнее, глупостью… Это удел сильного, чтобы внушить тому разум и подвигнуть к раскаянию, а с раскаянием спасти его достоинство…
– В общем, он предлагает не противиться, если кто-то покусился на тебя, а дать ему измордовать себя, пока тот не устанет и с усталостью не снизойдет к нему раскаяние?.. – сказал Лев Львович, не скрывая своей улыбки. – Утопия, сударь! Утопия чистой кастальской воды… Возможно ли физически выдержать столько тумаков? Как известно, всякая неразумность сильна именно физически… Надеяться, что она поумнеет скорее, чем стоик умрет и, раскаявшись в своем деянии, упадет на колени своей жертве, – это уже, простите, глупость… – Лев Львович вдруг погрустнел, выказывая равнодушие к дальнейшей беседе. Затем поднялся со стула, обошел стол и, разминая ноги, стал изучать меня с другой стороны.
Ожила и статуя, расплескалась шелковым платьем по сторонам, что-то убирая и расставляя по прежним местам.
Невольно встал и я, повернулся к Льву Львовичу в ожидании той самой развязки, которую я предчувствовал в самом начале нашей встречи:
– Так как же со мной?
Лев Львович вскинул голову как-то неожиданно резко и переспросил:
– Как же с вами? – Он подошел к столу и перевернул откидной календарь. – Так-так… сегодня у нас вторник… Значит, зайдите что-нибудь во второй половине, ну, скажем, в четверг. Нет, лучше в пятницу! В пятницу! А сейчас мне нужно срочно на совещание в верхах! Простите, позабыл!..
– Как?!
Лев Львович отвернулся от меня и стал уходить по направлению к шторам, скрывавшим боковую дверь.
Я машинально сдвинулся с места, под отчаянный испуг секретарши нагнал беглеца и твердо окликнул.
Лев Львович, должно быть не ожидавший такого удивленно обернулся:
– Что вам непонятно?
Я взял его за лацканы и с силой развернул к себе лицом.
– Вы, Лев Львович, ничтожная гнида! – И так же с силой отпихнул на прежнее место.
Крашеные ресницы секретарши, частоколом ограждавшие два ясных неба на ее испуганно дрогнувшем лице, нервно затрепетали.
– Вы… вы… – Задыхаясь в своей молодой и красивой ненависти ко мне, она приблизилась вплотную, по-прежнему продолжая ненавидеть меня. – Вы… вы… знаете, кто вы?
Жил я в те годы исключительно разумением сердца, зачастую захлестывающим через край. Жил под горячечную его диктовку, коверкающую мысль и речь, постоянно платя беспристрастному рассудку тяжелым раскаянием и тайными слезами в подушку.
И вот теперь я был унижен и растерт собственным поступком. Я презирал свою озлобленность, преждевременную изношенность, неумение жить и ладить со временем.
А тем временем Лев Львович стоял на прежнем месте и невозмутимо разглядывал меня в упор, не выказывая ни чрезмерной брезгливости, ни чрезмерного удивления, и, выдержав классическую паузу, спокойно обратился к секретарше:
– Пожалуйста, проводите писателя!
Не давая исполниться воле Льва Львовича, я сам покинул кабинет, поспешно вылетел на улицу и, поеживаясь от внезапного холода и внутреннего разлада, направился к бульвару, чтобы, пройдя его до конца, выйти к Новокузнецкой, откуда рукой подать до моего переулка.
Бабушара,
1985—1987
РАССКАЗЫ

ГАДАНИЕ СТАРОГО ЗОСМЭ

Жил этот старик с клубничным носом на самом краю деревни у заброшенной мельницы.
Его деревянный дом с позеленевшей крышей стоял в середине большого двора под высокими лавровишнями. За домом, под кривой яблоней, изувеченной грозой, неустанно журчал родник, зазывая прохожих утолить жажду и посидеть в тени.
Неухоженная усадьба одним боком подгнившего забора упиралась в мельничную запруду, а тремя другими выходила на дороги, ведущие в соседние деревни. Этому дому сама судьба определила самое оживленное место на распутье, чтобы дать уставшему путнику стакан-другой ключевой воды и ободряющую свежесть прохлады с беседой старого хозяина.
Обычно старик сиживал на маленьком стуле перед домом и дремал с приоткрытым ртом, издавая клокочущие звуки. Дремал он чутко, как старые дворняжки. Стоило кому-нибудь ступить на пыльные дороги, как тут же захлопывался рот старика и открывались глаза. Углядев зорким оком бредущего путника, он поспешно покидал свое место и выходил за ворота, чтобы затеять с прохожим беседу.
А если случалось, что у кого-то приболела корова или еще какая-нибудь живность и, как всегда, помочь им не в силах были наши ветеринары, которые избавляли животных от страданий в основном отсечением головы, то обязательно бежали к старику. Зосмэ в таких случаях не отказывал никому, так как за приготовленное им снадобье полагалось уплатить на месте, и чем щедрее, тем вернее действие…
Зосмэ за его общительный характер и за знахарские мудрости уважали в деревне и за эти же мудрости побаивались. Во всяком случае, к нему обращались лишь в крайней нужде.
Лечил Зосмэ людей от многих болезней. Но охотнее и лучше всего избавлял он детей от дурного глаза.
Благодаря его усилиям и заботам родительниц от пагубного влияния сглаза была предпринята своего рода «прививка» – каждый ребенок нашей деревни носил на груди ладанку, приготовленную руками сердобольного знахаря. Но этим далеко не исчерпывались познания старика: его основным призванием, принесшим ему славу непревзойденного искусника, было гадание на куриных крестцах. Тут он был чародеем. Как поп евангелие, читал он крестцы, предсказывая судьбу… Одним словом, слыл очень талантливым гадальщиком. О силе его волшебства ходили самые невероятные слухи. Рассказывали, будто бы старец указал одной приезжей женщине, где и в каком доме следует искать мужа, канувшего темным вечером в невидимые провалы страстей… И всякое другое, чему было трудно поверить, но верили, поскольку не терпелось испытать магическую силу старика на собственном опыте.
Самыми добрыми почитателями таланта Зосмэ были старухи.
Шли они к нему из отдаленных районов. Только им была по-настоящему известна божественность его ремесла.
Когда какой-нибудь засидевшейся девушке не терпелось заглянуть в свою судьбу с единственной целью узнать, скоро ли, черт бы его побрал, явится за ней неторопящийся жених, она приглашала Зосмэ на зажаренную курицу. Но если женщина интересовалась судьбой мужчины, она должна была принести в жертву петуха – этого требовал закон гадания.
Однажды случай сделал меня невольным свидетелем одного гадания Зосмэ.
Перед самой войной из глубины Мингрелии к нам приехала погостить двоюродная сестра моей матери. Ее звонкий смех и бойкий характер соответствовали духу моих далеких предков, заселявших знойные долины.
Нашу гостью, как вскоре выяснилось, как и многих наших родственников, живших в горах, тянула к нам неодолимая страсть к чернозему. И если их желанию так и не суждено было осуществиться, то виной тому война, открывшая жителям гор всю неприглядность долины во время воздушных налетов.
В ту предвоенную пору мою засидевшуюся тетю интересовали не только плодородная колхидская низменность и море, но конечно же жених. Здесь она надеялась поймать быка за рога. А для этого нужно было узнать, где валандается тот самый бык. И вот в один из прекрасных дней мая тетя пригласила к нам в дом Зосмэ.
В отсутствие моих родителей тетя выбрала лучшую хохлатку. И теперь на столе Зосмэ поджидала подрумяненная курица с горячей мамалыгой и бутылка черного вина.
Мне показалось, что тетя не имеет права гадать на себя, принося в жертву нашу курицу. Честно говоря, меня это даже расстроило. И я решил помешать тетиной затее. Я жаждал справедливой мести. Во что бы то ни стало я хотел отомстить за курицу и тете и старику одновременно. Но когда все мои попытки съесть курицу еще до прихода Зосмэ не увенчались успехом, я решил припугнуть тетю угрозами рассказать обо всем отцу.
– Я все расскажу папе, когда они приедут! – погрозил я тете.
Тетя хоть и улыбалась на мои угрозы, но было видно, что ей не хочется краснеть перед моими родителями, уехавшими в город в надежде, что за хозяйством будет присмотрено.
И я, как бы давая ей шансы на обдумывание своего поступка, а также предлагая компромиссное разрешение инцидента, мягко, но требовательно сказал:
– Тетя, отрежь ножку!
Но тетя с упрямством воспитанницы гор решила настоять на своем, взывая к совести:
– Неужели тебе не стыдно? Пожалел для тети курицу!
– Отрежь мне ножку! – тянул я настойчивее.
– И это говорит мой племянник?! – удивлялась тетя, стараясь взять меня нежностью. – И тебе не стыдно? Ай, ай, ай.
Мне было действительно неловко за мелочность. Но я очень хотел курятины и, преодолевая стыд, хныкал:
– Хочу ножку!
Курица лежала на боку, прикрывая бесстыдную наготу краями глубокой тарелки, и томила ребяческую душу.
Но вскоре ключ ко мне был найден.
Тетя обещала вызволять меня из-под надзора моих родителей, никуда не выпускавших со двора.
За усадьбой лежали небольшие лужайки, а за ними начиналось море – синяя долина вод. И я хотел гулять на тех лужайках, трогать руками грозное море. Мне всегда казалось, что мир, в который замкнули меня родители, гораздо хуже того, что ждал меня в будущем. Теперь я каюсь перед ними, что слишком рано вырвался из-под их опеки и пустился в тот мир, в котором не нашлось ничего такого, что могло бы заменить мне родителей.








