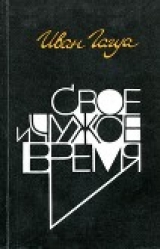
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
…В одном исподнем к нам ввалился вдруг Сашка косоротый, просительно поглядывает.
– Чего тебе? – передернуло Кононова.
Воспользовавшись паузою в его повествовании, я юркнул в постель. Изба выстудилась за ночь изрядно.
Моему примеру последовал Синий.
– Извиняюсь, – сказал Сашка, угодливо засматривая в лицо Кононову. – Слышу, не спите… наведаюсь, думаю…
– Сашка, – оживился Синий, – капустки у тебя не найдется? Жрать охота…
– Да как не найтись? Найдется! – обрадовался Сашка, зашлепал ступнями по полу, приволок миску капусты с хлебом и поставил на тумбочку. – На здоровьице!
Синий жадно запустил руку в миску, загреб пятерней капусту, зажевал с громким хрустом.
– Не тебе одному принесли! – недовольно проворчал Кононов и тоже принялся есть. – Гуга, тебе что, приглашение особое нужно?
Между тем, пока все мы втроем утоляли голод, Сашка ждал вознаграждения, трусливо поглядывая в сторону печки.
– Это… как бы моя не проснулась… – проговорил Сашка.
Синий дал ему бутылку:
– Пей!
Пока тот булькал, заливая горло вожделенною влагой, под окном вновь ожили чьи-то шаги.
– Слышишь? – обращаясь к Кононову, кивнул я на окно.
– Слышу! – внимательно вслушался и он.
– Авдеюшка, – хмыкнул Сашка, передавая бутылку Синему. – Ходит, Митрофановну ищет. – Сашка заливисто рассмеялся. – Она еще прошлой зимой померла, а Авдеюшка ищет: не верит.
– Ты-то чего ржешь? – осадил его Кононов.
– А того, – ухмыльнулся Сашка, – что Митрофановне житья не было от него… А померла, закручинился! Самому, что ль, срок приспел?
– Не болтай, чего не знаешь! – оборвал Сашку Кононов, потянулся к бутылке, отпил и, не выпуская ее из рук, грустно умолк.
Сашка постоял еще и, видя, что больше не предлагают, попятился.
– Ну, я пошел… благодарствую… Тарелки попрячьте в тумбочку.
В комнате вновь стало привычно – ночь без сна! Сон не предвиделся, поскольку Кононову не терпелось, как умирающему, досказать непременно сейчас.
Авдеюшка между тем продолжал искать Митрофановну, шаркая валенками по накатанному снегу.
Чтобы воочию увидеть столь странное существо, я раздвинул легкие занавески, прильнул к окну и сквозь заиндевевшую форточку разглядел старичка в тулупе с поднятым воротом. Он медленно топал по улочке перед частыми избами и постукивал валенками друг о дружку. А рвущаяся с крутояра метель осыпала старца крупой и уносилась стремительным сквозняком на площадь, в этот поздний час унылую и сиротливую.
– Вот и посумерничали, – сказал я, чтоб умерить пыл Кононова…
– Отоспимся на том свете, – откликнулся Кононов и глянул на Синего. – Откинул копыта…
– Ну а мамашу как, навестили? – спросил я, удобно устраиваясь в постели и, по примеру Синего, собираясь уснуть под неумолчное бухтение Кононова.
– Как же, навестили, да поздно… – отозвался он с чувством горького раскаяния за мамашу и благодарности мне за то, что вернул его к прерванному повествованию. – Пока мы с Веркой раскачивались, набирали барахла для деревни, доставали продукты, пришла телеграмма из Лук, да, видно, что-то на почте напутали, запозднились… Поехали, а мамашу уж похоронили… Съездили на погост, в голос с Димкой поплакали. «Скажи, Серега, отчего у нас жизнь такая? – спрашивает меня Димка. – Распихали нас по углам…» А что ответишь? Говорю, теперь, Дима, все так живут… А он – коли иначе нельзя, то вовсе жить не хочу… Ишь ты, какой умник нашелся! Ты кто, говорю, такой, чтобы жить не хотеть? Ты, что ли, жизнь придумал? А может, ты сам себе ее дал? Вот штука-то в чем. Жизнь-то надобно оберегать! Кто ж тебе погасить ее в себе позволит?! А коли так, выходит, жить надо! Вот, к примеру, зерно – легко ли ему? – и колотят, и мнут бока, иной раз ногами пройдутся, а в земле зароют – колоском взметнется! Опять возвращается хлебом, чтоб кому-то от собственного радения радостно стало… А я, говорит, тебе не зерно – второй раз на свет не приду! Злость на него берет, хоть возьми да и тресни. А нельзя, стоим на погосте, к тому же малых старшие не бьют из-за того, что не разумеют… Учить надо их! А кто научит? Во мне в самом, с тех пор как бока обкатали, доброты осталось чуть-чуть! Да и где возьмешь милосердие, ежели его не посеяли… Уехали мы с Веркой. На душе погано. Вроде бы все путем, но как задумаешься, что-то не «тае», как моя бабка говаривала. Хожу, в рукава дышу! Вроде бы человек, а живу в вечном страхе: вдруг заловят? Как-то спрашивает меня мой школьный товарищ: где, мол, сейчас живешь? А я коротко: за сто первым! А бабка какая-то рядом: дак это ж совсем рядом с Москвой… Я подалее вас проживаю, а в Москву катаю за маслом да колбасою… Так что не гневайтесь, молодые люди, близко живете… Мне уж за сорок, а еще жизни такой, какую себе придумали люди, не видел. Ментомания одолела. Увижу на улице или где-нибудь в помещении, так весь и вздрогну. Тут еще Иван Митрофанович: давай справку пришли, не то как тунеядца засудят… Ну да ладно! Не жить мне все одно нормальною жизнью… Нервы не те! Не по мне эта пакость… Пойду лучше в бродяги! Там-то все одинаковы. Стадно живут… Найдется место и для меня. Москва, считай, вымерла – ни одного знакомого… Народ весь чужой, ершистый. И речь-то заглохла московская. Выхожу, значит, на Павелецкой-товарной. Сошел с платформы и между путями иду. А в тупике грузин один, ну, замухрышка такой, сидит у цистерн с коньяком дагестанским. К нему друг за дружкой машины, а он коньяк в них качает. Шланг тяжелый, от давления так и подрагивает. Слышу, по-своему с дружками лопочет. Тут-то и углядел я то стадо, к которому собрался примкнуть. Словом, уголовные морды. Где попало ночуют. Кое-кто зимой на отсеки общественного туалета забросит поддон, какой-нибудь картонкой застелет и ночует там. Благо ночью, кроме дежурной бригады, нет никого. Милиция, коли нет кражи, не трогает… Посмотрел я на ребят, вроде знакомые. Известно, сторонятся меня, тряпок моих пугаются. Бросил два червонца замухрышке и говорю: налей-ка ребятам! А дождичек моросит летний, ленивый. Вокруг вонючие лужи, мочой отовсюду шибает. Один сгонял через пути в магазин, хлеба да колбасы приволок. А грузин дал ведро одному из ребят, а сам шланг в него опустил. Вскоре в аккурат полное налилось… Ребята потому тут и крутятся, что знают про хитрость: из шланга обратно в цистерну не пустишь, насос там стоит. Вот и ждут, когда работе конец, чтобы выклянчить. У каждого банка припасена. В общем, примазался я к ребятам. Они, оказывается, ждут какого-то Леонида Ароновича, когда он их с экспедицией от МПС в Микунь повезет на все теплое время. И я надумал с ними напроситься да поглядеть еще раз на Микунь. Шесть лет с того времени минуло… Мне уже сорок три, на календаре – семьдесят первый… Ночую по-прежнему дома. Так вот стою целыми днями, наблюдаю, как дагестанский коньяк грузины сгружают. Как-то под крышу овощной базы взобрался. Дождь лил, помню, сильный. Эта летняя база там же рядом стояла. Народ на базе расторопный, крикливый, взад-вперед бегают, глаз не спускают с посторонних, овощи и фрукты там ранние. А тот грузин-замухрышка широченный пестрый зонт вскинул над головой и под ним, как в теремке, на стуле сидит, ждет последней машины. Тем временем к нему то менты на своих машинах, то какие-то штатские подъезжают. Все как один с канистрами из пластмассы. Отправили последнюю машину. Ребята окружили «теремок», просят из шланга отлить. Но замухрышка улыбается и показывает на коричневую лужу: спляши, мол, и получишь. И вот, опережая друг друга, ребята лезут в эти коричневые лужи и неистово сучат в грязи ногами. Сверху льет… Закусил большой палец, дрожу от гнева и ненависти к ним…
Кононов говорил еще что-то о тех ребятах, но я его уже не слушал, так как случай свел всех нас вместе в экспедиции от МПС… К тому же, не в силах противиться навалившемуся сну, стал куда-то проваливаться.
Не знаю, что и как дальше происходило, но сквозь дрему мне слышалось хмельное ворчание, грохот, но я так и не смог пересилить себя, выйти из забытья…
Проснулся я поздно, спал, видно, некрепко, потому как, пусть смутно, но отпечаталось все: стон и шарканье старичка, возня Кононова.
– Твои ни свет ни заря на дорогу пошли, – сказала хозяйка ночлежного дома, прибирая кровати.
Я поднял голову, но рухнул снова, понимая, что это надолго, как тогда, в больнице.
– Катайся! – сказал я Кононову.
Кононов поднял на меня глаза и, поняв смысл сказанного, наглухо замкнулся.
Следующее утро началось с той же просьбы дяди Вани и Гришки Распутина, что и вчера. Как и вчера, им позарез нужны были все те же два червонца. Но на сей раз отсутствовал Синий. Он глухо стонал на тулупе, свернувшись калачиком, и вызывал не сострадание, а скорее, насмешку более благополучных товарищей.
– Подавитесь!.. – в сердцах выкрикнул Сергей Кононов и швырнул деньги прямо просителям под ноги. – Работнички…
Теперь наша полубригада, распавшись на части, ходила вразброд: дядя Ваня и Гришка Распутин вместе, Лешка сам по себе, а мы с Кононовым, как близнецы, – неразлучно. Вот только Синий уже принадлежал не столько себе, сколько полатям.
Умирая от тоски и безделья, мы с Кононовым вновь принялись за огород. На этот раз по всем правилам поднимали грядки, сдабривая их лесным перегноем.
В цеху, стоявшем в поле через дорогу, тем временем бражничали дядя Ваня и Гришка Распутин. А к вечеру, свалившись от дурноты в организме, там же отсыпались и лишь утром вновь приходили в избу просить денег.
Один Лешка, поладив с птицами, тешил их игрой на расческе, заменявшей губную гармошку.
И все это – бесконечный запой, игра на расческе, чужая изба, чужая жена, случайный прохожий с ней, огород, птицы, жгучее солнце, легкий ветерок, остужающий тепло, и время, будто бы раз и навсегда остановившееся, и ожидание, и еще что-то такое, что не переводится на слова, – казалось пережитым в другой, давней жизни. Тело и душа грузнели и оплывали от бремени неисчислимых лет.
Потеряв чувство времени и страха, в нарушение выработанного с годами устава, мы, как древние старики, дремали на завалинке, словно постигнув некую тайну бытия.
Дядя Ваня и Гришка Распутин, чуть-чуть помаячив в избе, выходили в деревню с утра и приспосабливали там к крышам вырезанных из жести, раскрашенных довольно яркими красками петухов, получая за это трешницу или выпивку. Платили старики и старухи, видевшие в петухах возрожденье былого: «Спасибочки вам, добрые люди…»
В магазин из-за долга дяди Вани и Гришки Распутина вход нам был заказан, и за хлебом и сигаретами приходилось посылать Стешу, тоже совестившуюся продавщицы.
Наша неплатежеспособность была унизительной, особенно для Кононова, человека, не стесненного отсутствием наличного капитала, и, выждав день-другой, он заглянул в магазин и прямо с порога изъявил желание погасить долг «своих».
Хотя слово «свои» Кононовым было употреблено в предложении рядом с другими, но оно явственно выпадало из них, потому что себя и присутствовавших при разговоре, то есть меня и Стешу, к слову «свои» он не причислял.
– Шестьдесят два рубля. Ровно! – отчеканила продавщица, глядя бесцветным зрачком на Кононова, полезшего в карман за японским бумажником из крокодиловой кожи, и, с минуту помешкав, вытащила из-под спуда тетрадь, раскрыла на последней странице. – Пожаловайте, вот, как есть!
– Благодарю, Лизавета Петровна! – сказал Кононов, отстраняя движением ладони тетрадь должников, и, легонько выдернув двумя пальцами с десяток розовых ассигнаций, отсчитал от них семь штук. – На сдачу пряников и сахарку, да еще дешевых сигарет для «своих».
– Отчего так сурово? – удивилась Лизавета Петровна, трогая в улыбке подкрашенные губы. – Разве они не ваши товарищи?
– Пожалуйста, – сказал Кононов, – если не хотите подавать на всесоюзный розыск, воздержитесь от торговли под карандаш…
К обеду, когда дядя Ваня и Гришка Распутин пришли, против всякого ожидания, к сроку, как на званый обед.
Кононов встретил их с усмешкой:
– Ах, вот они, работнички! Проголодались, наверно, после трудов… Не желаете ли, Григорий Парамонович, водочки да табачку? А ты, дядя Ваня? Чего уж стесняться! Делов-то – сто рубликов с гаком, да время с неделю…
Пристыженные бражники, пьяно водя глазами, кого-то искали в комнате, не сознавая в полной мере кого. Но тот, кто давно выпал из поля зрения, лежал на полатях и не подавал признаков жизни.
– Микола, дружки твои припожаловали, – сказал Кононов в приступе злого веселья. – Вставай, принесли бормотуху.
Микола не отзывался.
– Гуга, гляди-ка, может, уже и помер…
Синий, он же Микола, лежал на спине, сложив руки на животе, и молча, одними глазами, плакал. Редкие слезы катились по щекам и западали за ворот рубашки.
– Ну что – помер? – спросил снизу Кононов, но уже без прежней насмешки.
Отрешившись от нас, от самого себя и пав в полосу отчуждения, Синий жил уже другой жизнью, прерванной еще в ранней юности… И оттого, что она оказалась короткою и недоброй, он исходил слезами, оплакивая себя еще в прошлом.
Тронутый предчувствием смерти, я сошел со ступенек стремянки и задами двинулся в поле, где, взмывая стрелами в небо, звонили в свои колокольчики жаворонки.
Поздно вечером я тихо вошел в избу и, столкнувшись со взглядом Миколы, потупился. Спущенный с высоких полатей, Микола лежал на раскладушке, поставленной впритык к дивану, и пристально глядел на меня.
В изголовье его сидела Стеша со стаканом киселя и помешивала в нем ложечкой.
– Принял настойку столетника, – тихо проговорила Стеша, улавливая в глазах моих ужас. – А киселя вот не хочет… Ночь скоротаем, а утром в район за врачом…
Я увидел в окно спасительный огонек в помещении цеха и, не спрашиваясь у Стеши, торопливо вышел.
Кононов, чуть подавшись вперед, сидел на табурете за прессом, а Лешка на скорую руку кроил медную бухту, давая пищу прожорливому чудищу, шесть лет тому назад списанному одним московским заводом и с тех пор кочевавшему с нами по весям и городам.
Подхватив несколько пряников с подоконника, где рядом с кульком стоял и китайский термос, я и сам приступил к работе, рихтуя деревянным молотком раскроенную на пластинки медь.
Повидавший на своем веку пресс красовался на бетонной тумбе, вылезшей из-под пола возле самой двери. Сбоку падал на него свет мощной лампочки, высвечивая из густой мглы только Кононова. В глубине, на дощатом столе, где Лешка, раскручивая бухту, кроил цветной металл, я складывал аккуратной стопкой отрихтованное сырье и пододвигал его под правую руку Кононова, строчившего, как из пулемета, автоматическими ударами. Со стуком сыпались вниз наконечники, в которых радиотехническая промышленность испытывала острейшую нужду.
Для получения нужных заказчикам размеров мы располагали всеми необходимыми пресс-формами, наладчиками коих в нашей полубригаде и были Гришка Распутин и дядя Ваня. Люди пенсионного возраста, некогда отдавшие своему ремеслу на заводах многие годы, подряжаясь в полулегальные мастерские, продолжали свое прежнее дело, но с большей, нежели на предприятиях, выгодой для себя, потому что наладчики в нашем деле ценились по высшей ставке, за что не без основания их берегли, как генералов военного времени. От умения этих людей зависели и успехи, и неудачи. И все же, несмотря на высокое положение, наши стратегические генералы, в отличие от военных, не были свободны и от черновой работы. Засучив рукава, они трудились бок о бок с нами, чтобы успеть в короткие сроки – в десять – двенадцать дней – обеспечить бригаду полной зарплатой. Такая неумолимая тактика и была у нашего бугра главной. Нашими же руками наказывал он нас подобными заделами, механически отправляя в категорию «воздушников».
Сейчас, когда «генералы» дрыхли на топчане после очередной схватки с бормотухой, мы, их рядовые, вели рукопашную в цехе, строча из тяжелого пресса автоматными очередями и время от времени поглядывая на мерцающее ночником окно Стеши.
Пресс, сотрясая тупыми ударами бетонное основание, бубнил сердитую песню деревне, обещая с каждой выплюнутой штукой благоденствие, скрытое пока завесою мрака.
Вымотавшись за ночь до головокружения, мы отключили пресс и, выпив по стакану чая с пряниками, вышли из цеха. По дороге к дому, у проселка увидели Стешу. Она шла не поднимая головы и тихо и часто всхлипывала.
Кононов вырвался вперед, почти бегом припустил ей навстречу, поравнявшись, на миг замедлил шаги, но, ничего не спросив, прошел быстро мимо.
Синий по-прежнему лежал на раскладушке, но с раскинутыми в стороны руками, отвисшей вниз челюстью, заведенными вверх потухающими белками.
– Микола! – неожиданно для всех заревел Кононов и разом рванул в «темницу».
За ним поспешил и Лешка, оставив нас со Стешей наедине с Синим.
– Принеси белую тряпицу! – сказал я, пересиливая страх и отвращение к покойнику, и, поддев подбородок, ощутил еще теплую и податливую плоть. Перевязав челюсть и прибрав покойника, я вышел во двор. Пошел дальше, без цели, где-то на лужайке зарылся лицом в колени от отчаянного одиночества, от ощущения в правой ладони предсмертного чужого тепла.
Вечером Синего перетащили в цех, положили на рабочем столе в ожидании жены, по двое бодрствуя возле.
Наутро почтальон принес телеграмму из Балашихи.
Лаконичной телеграфного речью жена сообщала, что приехать не может.
– Сучка! – зло выругался Кононов, комкая телеграмму. – Все они до единой – сучки! – И, переждав, пока поутихнет гнев, отправился в соседнее Илькино заказать гроб и приглядеть на погосте место.
К полудню гроб привезли, подкатили телегу прямо к порогу цеха, где все еще покоился Синий, и, снарядив-таки его в последний путь, проводили на сельский погост по трясучей дороге, миновав сначала Федюнино, а потом и подлески, вытянувшиеся по-над оврагом, за которым нерасторопные, но усидчивые рачинцы строили длиннющий коровник.
Углядев еще издали процессию с дядей Ваней и Гришкой Распутиным во главе, строители прервали веселую песню и разом сорвали с кудлатых голов сванские круглые шапочки.
Поравнявшись со строящимся коровником, Кононов покосился на крышу, на которой в молчании, отдавая дань памяти вечному страннику, застыли строители, и прошептал мне едва слышно:
– Грачи прилетели…
Я и без Кононова хорошо знал «грачей», гнездившихся с ранней весны до глубокой осени в далеких северных землях, где особенно ценилось их ремесло.
На сельском погосте вместе с могильщиками, нанятыми по случаю, нас встретили и те, кто, прослышав про похороны, явились по доброй воле. Почтительно подождав, пока мы простимся с покойником, они подхватили гроб, понесли к яме и, обойдя яму трижды, поставили его на землю в ожидании речи. Но речи не последовало. Так ли уж незамечательна была жизнь Синего или не было среди нас того, кто мог бы что-то сказать, но мы постояли молча, пока все те же люди не подхватили гроб и не спустили его на веревках в яму. Посреди других невыразительных могилок, поросших лопухами, вскоре выросла и могила нашего собрата – Миколы, прозванного кем-то Синим, чтобы, слившись от роду сорока восьми лет с землей на чужой стороне, рядом с чужими людьми, стать их случайным спутником на вечные времена…
И вот теперь, собравшись за поминальным столом и выставив угощение – кутью и водку, в такой час особенно горькую, – мы молча просидели весь вечер, а наутро уже всей поредевшей полубригадой потянулись в цех и с остервенением приступили к работе, торопясь наверстать упущенное, изводя пресс и себя…
На четырнадцатый день нашего ожесточения к нам наведался бугор. Он был в своем неизменном сером в полоску костюме. Из карманов выглядывали свертки с обычными дорожными харчами – два-три вареных яйца да хлеб с солью.
Жадность, преследовавшая его, была столь велика, что у него, по свидетельству дяди Вани и Гришки Распутина, можно было выпросить все, кроме самой жадности. Она нужна была ему позарез, чтобы иметь деньги, которые доставались ему ценой унижений, порой вызывавших к нему брезгливое отношение даже у близких. Но и он, случалось, проявлял безмерную щедрость из любви к футболу. Пару раз он выбирался на матчи, надевая все самое лучшее, наверно, то, что обычно хранилось под строгим присмотром его молодой жены, и садился в гуще фанатичных болельщиков «Спартака».
Выбирался он, как правило, на матчи с братом, худосочным и колченогим Родионом, чтобы было с кем порадоваться на пару. А так как свои походы на стадион бугор всегда связывал только с победами, то поражения «Спартака» оказывались особенно огорчительными и происходили по вине Родиона, отвлекавшегося во время кульминационных моментов у ворот «Спартака» на постороннее. Такие выходки брата бугор называл изменой и, уходя после игры, проигранной «Спартаком», недовольно ворчал: «Знал бы я, Родя, что ты придешь целовать «Христа», ни за что на свете не пригласил бы!» Издержав целых три рубля – на себя и на Родиона, – не считая подорожных, бугор затворялся и не выходил на примирительные звонки брата. Но и эта сильнейшая его страсть к «Спартаку» меркла перед другой, материальной, побуждавшей его, снарядившись в дорогу и затолкав в карманы хлеб-соль и вареные яйца, с головой уходить в сложнейшие операции.
И сейчас, что-то, видно, задумав, он недовольно вышагивал взад-вперед, хмурился, чтобы, взбудоражив нас преждевременно, обезоружить к моменту борьбы, к которому мы и в самом деле «перегорали».
Угадывая неизменную его стратегию, «генералы» отмалчивались, давая страстям разыграться до нужного накала.
– Опять, Ваня, аспирин принимал? – с наигранной суровостью сверкал бесстрастными глазами бугор. – Выгоню к собачьим чертям! За две недели не приготовил ни черта!
Кононов, стучавший на прессе, а потому лишь угадывавший, о чем пошла речь, отключил мотор и, приглядевшись к бугру из-под прищура, заявил:
– Ну что, опять нас дергать приехал? – Он полез в карман за сигаретой. Курил, по обыкновению, самые дорогие… Зная это, бугор загодя протянул руку, хоть курил изредка. – Деньги когда будут?
– Будут…
– Это мы уже слышали! – сказал дядя Ваня, обильно потея лицом. – Да вот должок накопился, не знаем, как расплатиться… Подбрось маленько!
– Уволю, Ваня, ежели хоть раз услышу, что побираешься по деревне! – посуровел бугор, возвращаясь к прежнему разговору.
Кононов, затягиваясь первым дымком, перевел взгляд на дядю Ваню, с дяди Вани вновь на бугра, нисколько не веря сказанному. Ибо он хорошо понимал, зачем завещали дяде Ване, да еще инвалиду войны, такое рискованное хозяйство, как наше. Именно такой человек, как он, и мог увести хозяйство от возможного «погрома» с наименьшими потерями в живой силе, какую в первую голову представлял сам бугор.
– Не уволишь! – с веселой дерзостью возразил бугру Кононов, подливая масла в огонь. – Такого дурака, как дядя Ваня, на всем свете не найти…
Бугор нахмурил седые кустистые брови, сшибая их на переносице, поделенной бороздкой думающего человека, и, переглянувшись со всеми, перевел разговор в новое русло:
– Дуся доверенность вот на меня прислала… Говорит, не давайте Миколе, пропьет…
– Не может быть! – сердито насупился Кононов.
– Вот посмотри, – протянул бугор доверенность Кононову.
– Микола уже не пропьет! И кто же сварганил эту липу?
Бугор, не понимая, что происходит, протянул к Кононову руку, но уже было поздно – Кононов разорвал доверенность не читая.
– А где же он?
– Он там, где больше не пьют! – весело осклабился Кононов. – Дусе не денег, а рязанского кобелягу.
Бугор, он же Никифорович, растерявший имя в погоне за подорожною милостью, глупо выпучился на дядю Ваню, и тот, потея от натуги, жалостливо пояснил:
– Помер… Два дня тому похоронили…
– Ну, курва! – покачал головою бугор и, как бы вынимая буравчики глаз из бедной дяди Ваниной плоти, простодушно добавил: – Вот те бабы… Мужика схоронили, а она…
Гришка Распутин расписал Никифоровичу о мучениях Миколы, о похоронах, через слово поминая щедрость Кононова, оплатившего все, от обмывания до могильщиков.
– Вот кого и надоть благодарить, – заключил Гришка Распутин. – Пущай Серега и получает! Свое возьмет, а там дочке отдаст, она-то евоная…
– А ты откель это знаешь, что евоная? – огрызнулся Кононов на неприкрытую лесть Гришки Распутина. – Ты в ногах, что ли, у них стоял?
Гришка Распутин промолчал виновато. Как-никак перед Кононовым не вспылишь – нос в пушку! Лучше проглотить и ждать для мести нового случая! Пусть куражится!
Наступило раздумчивое молчание. Бугор, осмысливая услышанное, то и дело недоверчиво поглядывал по сторонам, словно ища взглядом Синего. С чего это Ване врать? А может, хитрость какая кроется и его надувают? Вроде бы стоял человек на своих двоих, и на тебе – нет! Вздор ведь какой-то!
– Хватит меня разыгрывать-надувать! – сказал на всякий случай Никифорыч с полуулыбкой на оплывшем лице.
– Да чего уж там, – обиделся дядя Ваня и скрипнул протезом в подтверждение сказанного. – Схоронили в соседней деревне.
– Да будет вам! – вдруг сердито выступил из угла Лешка, протирая руки смоченною соляркою тряпкой. – А насчет денег так: с каждого по двадцатке, не одному только Кононову, а и нам!
Бугор пристально вгляделся в Лешку, коротко поддакнул ему:
– А что, небось с вами работал…
– Ну, вот ты первым-то и гони! – сказал Кононов. – И с тобой ведь вкалывал в Дорохове, вместе рукавички шили!
– Ну шили! – насупился бугор, не желая вспоминать то прошлое, когда он и Синий в одной упряжке ходили.
– Ну и шили! Короеды вы все! Как беда – в кусты! Помрем все, только у какого дорожного столба – вопрос!..
Разговор об усопшем на этом и закруглился. Каждый думал о своем. К вечной муке и радости готовиться нужно умеючи. Где с кулаком, где и с умишком, пусть немудрящим, а все же своим.
Что задумал бугор? Какие силки приуготовил? Поди, не раскусишь! Поговорить бы, может, вылетит какое словечко. Знамо дело! Слово – не птичка, обратно его не загонишь! Вот и думай, на то башка!
Дядя Ваня и Гришка Распутин в канун получки всегда думали-рядили, прикидывали, а выходило не так, стало быть, по бугру. Это злило их, да и сейчас озлила хитрая разведка «верховного». Не зря ведь слопал целых три яйца по дороге, аж десны желтком залеплены.
– Ты чего, Никифорыч, явился-то? – спросил Гришка Распутин в лоб, не скрывая своего раздражения.
– Ты уж видеть меня, что ль, не можешь? – развел руками бугор, одаривая собеседника иронической улыбкой. – Потерпи, Гришка, еще с часок!
Зная коварство бугра, все насторожились. Теперь-то и начнется, наверно, долгая игра на нервах, проигравшему стоящая уступки, а с ней и нескольких кровных червонцев. Пока нам одержать верх не удавалось, но борьба с каждой получкой все обострялась и обещала сдвиг уже в нашу пользу. Он зависел от нашей сплоченности, потому что поражение одного вело к поражению всей полубригады. Но сплоченности-то и не хватало. Давно и так надоели друг другу, а тут еще Лешка! За ним глаз да глаз. Стало быть, единомыслия нет и не будет. Да где ему быть, когда кто-то из нас Иуда и не знаешь, когда и с кем расцелуется. Да ведь люди, да еще такие, что ни в одну графу из общеизвестных не вместишь… Стало быть, кочевать нам и кочевать до скончания века и умереть под забором вдали от родных и близких. А бугру-то! Бедолагами пруд пруди! Особый класс! Вышибленный из общего круга! Мотайся из конца в конец, неси свой горб за собой, отметив земное свое бытие красивым и древним, как мир, словом – бродяга! Бродяга что дворняга! Лает, а ветер носит! Нет, уступки больше не будет! Уступка – новое унижение! Довольно! Не допустим! Вот только бы кто-нибудь не поддался уловкам бугра и не затащил всех в силки! Ох, уломает нас, дурней, уломает! И мы, перегрызшись, как звери лютые, за три дня до получки, притопаем к кассе колхоза, как ягнята, чтоб безропотно уступить – где наша не пропадала! – и дорожные, и другие расходы, предшествовавшие нашим ездкам, хоть они должны были быть бугром нам оплачены. А там рассадят нас по углам, записавши в «воздушники», чтоб бросить нам как подачку за труд наш десять процентов! Расстарались! Работали впрок, да на кого?
Как теперь-то?
Мы или он?
Чередуясь друг с другом, полубригады давали продукцию вперед на три месяца. Но выплачивали за месяц, за работу на одну ездку. Накопление продукции выбивало нас в дальнейшем из числа «пятидесятипроцентников» в «воздушники», что оплачивалось десятью процентами общей зарплаты за вычетом дорожных расходов.
Мы перешли в наступление, в наступление осторожное, так как смельчака-одиночку ждала еще большая санкция – увольнение. По какому-то неписаному закону такого товарища оставляли на растерзание, не оказывая за смелость ни малейшей поддержки. Потому-то каждый сам осторожно пытался нащупать слабинку в привычной стратегии бугра.
– Как дела, Никифорыч, с зарплатой? – спросил я как можно небрежнее, как бы мимоходом, возвращаясь к прерванному разговору. – Обнищали…
Никифорыч, не снисходя до обиды на проявленную мною бестактность, торжествующе сообщил, что сдать продукцию и выставить счет удалось.
– Дня через три-четыре придет!
– Слава богу! – доверчиво подхватил Кононов, добровольно идя на уловку бугра, пришедшего расслабить наши ряды разногласиями и добрыми посулами.
– А ты покудова не спеши! – сказал дядя Ваня в гулкую пустоту цеха, ни к кому конкретно не обращаясь. – Может, еще и увязнет в банке-то.
– В банке не в банке, – сказал Гришка Распутин, – а Иуда еще может подгадить…
Интрига уже раздувалась, и остановить ее нельзя было при бугре, искусно развязывавшем языки. А как вдолбить каждому, чтобы помалкивал да в оба глядел?..
– А Иуде не дайте улизнуть ночью! – полусерьезно посоветовал бугор. – Не то под утро приведет переодетых ментов и зацелует каждого на свой манер в одиночку. А те на радостях и величать нас начнут «папашами».
– Это точно! – поддержал Кононов, собираясь припомнить эпизод из нашей практики с ментами, но в последнюю минуту раздумал, посчитав это очередной уступкой бугру.
В нашей практике случалось, что, наклепав продукцию в одном хозяйстве и не успев ее сдать потребителю, нам приходилось уходить задами-огородами в другое, таща за собой свои медные побрякушки… Но так, чтобы не успеть получить денег, выставленных потребителем, еще не бывало. И сейчас нам никто не гарантировал, что сможет достичь здесь большего, чем обычно, но сам факт сдачи продукции, если бугор не врал, был приятен, потому что приближал к долгожданной зарплате. Точнее сказать, к зарплатам…
– Будем надеяться, – сказал я, не проявляя восторга оттого, что наконец мы удостоимся кровных рублей, заработанных ценою немалого труда и ожидания. – Копейка в семью – деньги! – пошутил я, намекая на предстоящую борьбу за эти деньги.
Оформившись задним числом, то есть с первого февраля, мы ждали зарплаты за три месяца сразу по уже известному нашей фирме тарифу – пятьдесят процентов, если к получке бугор не изобретет новой механики по «расказачиванию» верноподданных.








