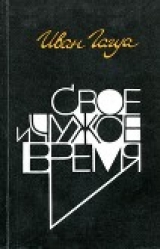
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Макс откликнулся на ответ Кононова улыбкой, но от слов воздержался. Вошел Тереха, положил паспорта с записями по каждому из владельцев.
– Спасибо, – быстро пробежал Макс листочки, после каждого поднимая глаза. Пробежав, откинулся на спинку стула и, посмотрев на меня долгим взглядом, выплеснул:
– Выходит, Максима Горького задержали.
Тереха весело подхихикнул:
– А говорил, банк ростовский ограбил.
– Ладно! – раздраженно перебил его Макс.
Неопределенность была тягостна и бесконечна, поскольку ни Макс, ни Тереха, вернувшийся за свой стол и машинку, уже ни о чем не спрашивали.
Хлопнула дверь, вошедший доложил внятно, почти по-армейски:
– Обмер показал границы в пределах нормы… В нулевом цикле также не наблюдается отклонения… – И тут же ушел, пропустив давешних молодчиков, теперь уже в новом облике, в куртках на меху, мало чем похожих на деревенских парней, несмотря на бутылки с портвейном и банки с маслятами.
– Максимилиан Прохорович, – воскликнул один, – куда же девать реквизит… Бойко на месте нет! А нам на занятия…
– Отнесите к Люсе! Будут целее…
Ребята покинули кабинет, одарив нас улыбками, на что Кононов ответил брезгливой гримасой.
Было очевидно, что облава не удалась.
Такого рода охота предполагала загнать в угол вожака нашей стаи, чтоб предъявить ему обвинение… Обвинять оказалось не в чем и некого. Вожак сидел в этот час в теплой квартире, а подставное лицо могло удовлетворить лишь честолюбивый зуд. А ведь, наверное, ставилось целью схватить мошенника во время сбора денег, что редко делалось на местах. Предусмотрительные бугры рвали свою долю из нас в следующие за зарплатою дни в назначенном месте и в назначенный час, хотя такой обычай был небезопасен Непринесший, правда, рисковал много большим – увольнением. А работу можно было получить лишь у бугра, потому что подобным нашему брату контингентом мало кто интересовался. Словом, буграм нужна была рабочая сила, а рабочей силе – бугры за отсутствием других предложений. Вот и ходили в одной упряжке чуть не враждующие стороны и не предавали друг друга даже в пору немалых испытаний, что никак не вязалось с логикой правоохранительных органов. И все же, несмотря на подобного рода предусмотрительность, многие бугры попадались время от времени. На это рассчитывали и в данном случае, но сорвалось.
Между тем время шло к вечеру. Дневной свет уступал силе электролампы.
Макс и Тереха время от времени перебрасывались шутками относительно того, что будто кто раньше сядет, тот раньше и выйдет… Шутки, хоть и казались безобидными, не были лишены адресата.
Но вот наконец мы все друг за другом вывалились из парадного – Гришка Распутин, Кононов, Синий и я. Наполнив легкие чистым морозным воздухом, вдыхали всю бездну свободы. Последним финишировал дядя Ваня, возбужденный от внезапной радости до опьянения.
– Вот что, – заговорил он, – вертайтесь втроем.. Надо срочно пресс вывозить… Видать, все перешуровали в колхозе… – Мы с Гришкой пойдем в соседний район, может, там до весны притулимся.
– Ладно, – сказал Кононов, сдавая ему полномочия главнокомандующего, и, досадуя на изъятие записной книжки, проворчал: – Зачем им мои телефоны?
Часа через два, кое-как добравшись до ближайшего поселкового центра на попутной машине, мы решили эту ночь переночевать в ночлежном доме, где не раз приходилось хорониться.
Забившись в комнатушку все втроем, мы заглушали неприятные последствия облавы, пока Синего не потянуло в сторону. Он сидел прямо под ночником, какой то неестественно малиновый, словно библейский персонаж, и лил откровение, такое ненужное в нашем обиходе барахло.
– Когда я работал в Воркуте… – тянул он.
– А что так далеко? – подначивал Кононов, не удерживая Синего от излияний. – Жил в Москве, а работал аж в Воркуте?
Но Синий не думал обижаться. Изобразив подобие улыбки, упорно продолжал:
– Будто не знаешь!.. Работа как работа, под стать нашему брату… Думаю, вот вернусь в Москву в свою коммуналку и заживу. В чужие дела встревать больше не стану. Культурно заживу, тихо… Может, и оженюсь на детдомовской девке. Сам-то тоже детдомовский. Стало быть, понимание между нас будет наверняка. На заводе как-никак площадь подкинули, как всем детдомовцам нашим в Москве, на Островского. Оконце на Пятницкую. Дом самый высокий на улице, а этаж самый последний. Сижу у окна вечерами и баранки с маком пожевываю. Любил. Жую, значит, эти баранки и на Пятницкую гляжу. А через крыши – на белый дымок «Рот фронта». Шоколадный запах курится над улицами, будто в саду барыбинского детдома…
– Ты лучше расскажи, как тебя Дуся охомутала… – подколол Синего вконец повеселевший Кононов. – Не нужно автобиографию…
– Погоди, Серега, может, это в последний… Успеешь и ты напрокудить, – отмахнулся от него Синий с обидой в голосе, потянулся к бутылке, отпил. Хотел закусить, но передумал. Занюхал хлебом. – Прошло три года… Сам знаешь, что значит зона. Пространства много, а жизни нет… Все тобой командуют. Во всяком бараке вор блюдет законы лагерной жизни. Все как подо льдом – нету продыху. Надзиратели не мешают. Управлять им так вроде лучше… – Входя во вкус, Микола продолжал изливаться, посвящая нас во все подробности коммунальной драки, из-за которой пришлось ему оставить вид из окна на Пятницкую, на трубу «Рот фронта» и изведать во всей красе лесоповал в Воркуте. – Думаю, вырвусь из этого ада и буду жить тихо. В бога верить там стал. Ночами с ним разговаривать. Крест мне один удружил, не так, не задаром… Теперь, думаю, дадут по щеке, так другую подставлю, пускай себе лупасят. А попал я тогда за потаскушку, что жила в нашей коммуналке… Не разобравшись, можно сказать, солидному человеку, бухгалтеру, скулу набок свернул. Кричу на него: как ты смеешь женщину так оскорблять! Говорю, она и так одинокая, а ты ее принародно… А он мне: человек, мол, ты свежий, не знаешь, что она мне в кастрюлю кидает! Одно правда, она все в их сторону морду воротит и вопит на всю квартиру. Ну, излупцевал я его от всей, можно сказать, души. А он бухгалтером секретного завода оказался. Ну, пошло-поехало: протокол, участковый, свидетели. И что же? Потаскушка тоже в свидетели. Говорит, сама видела, как детдомовский невоспитанный хам человека до смерти бил… Обратите внимание, говорит, что у него воспитание – ноль! Грубит всем, да еще тунеядец… И правда, месяц как я не работал, поругался с начальником цеха… В общем, вернулся я оттуда в Москву, а в Москве жэковские не принимают, говорят, ты, мол, не наш… таким в Москве делать нечего! В комнатушке моей какая-то бабуся живет… Кроватку мою вместе с тумбочкой в подвал откатили… И мне сказали: катись! А куда катиться – в милиции объяснили… Пошлялся по областям, ехать-то некуда, тетушек нет, братьев тоже. В детдом – стыдно, уже вроде большой. Так хорошо бы снова мальцом да сиротой к ним – к своим – в тепло. В Дорохове прибился к художнику. Он не то что там жил, а так – мастерская-дача. Сам-то в Москве. Поговорил со мной со вниманием и говорит, живи, в ус не дуй. Приеду, говорит, пропишу! А не прописали. Рядом с дачей цех стоял по пошиву рукавичному. Смотрю, ребята там крутятся. Зашел. Покормили, по-собачьи оскалились на мой рассказ и сказали, куда и к кому податься. Живет, мол, под Александровом Степан Семенович Кушкан. Вот, мол, прямехонько к нему и иди. У него там таких, как ты, аж четыре проколоты… Проколет и тебя. В месяц червонец! А кто ж он, спрашиваю, такой? Отвечают: «Стукач в отставке…»
Кононов при упоминании Кушкана поерзал, должно быть, восставая против сословия.
– …Потаскал меня по ментам этот Кушкан, со всеми за ручку здоровался, как собачка собачку, обнюхивал, смеялся глазами. Неприятный тип, однако помог, проколол, деньжат за три месяца вперед запросил. Спросил, где искать, если появится надобность, и все такое, что неприятно. Ну, я все же сказал. Даже адрес художника дал. К нему-то захаживал часто. Он все больше сидел на порожке дачи и не спеша мыл кисти в растворе. Разложив их на терраске сушить, звал в дом коньяком «баловаться». Пил и сам иногда по-черному… Ну, говорит, Микола, покеросинили ж мы с тобой давеча, и сердито выпуклый лоб наморщит – умный дядя, – и про себя глухо кого-то ругает, расхребетили, говорит, русского человека.
Кононов потянулся к бутылке, отпил, булькая. Уронил голову на подушку, матерно в нее выдал.
Синий, переждав его приступ, снова двинул рассказ медленным шагом.
– Микола, раз говорит, помоги деликатное дело сообразовать, за помощь, мол, заплачу. Надо, говорит, прах родителей сюда, на местное кладбище, перенести. Лучше к ним буду наведываться, чем эту гадость глотать, от которой лучшие люди мерли в России. Поехали. У него «Победа» с тентом была, уже старая – дребезжит, как лоханка, но катит ничего, с ветерком. Родители похоронены в Балашихе, считай, в самом центре. Художник узнал, что кладбище через несколько лет ликвидируют, а на месте его что-то построят. Не хочу, говорит, Микола, чтоб на костях их сидела эта махина! Разгородили мы захоронение. Ограду он свез, а мне деньги сунул, пойди, говорит, пообедай. Ну, пошел я в столовку. Захожу, а на раздаче девчонка в чепце. Она сразу мне приглянулась. Глядит темными сливами. Лицо детское, неотступное. Гляжу, значит, и не вспомню никак, зачем сюда заглянул. Народ – туда-сюда! Она и сама – нальет тарелку и смотрит. Пошел я мыть руки. Вернулся. Хочу сказать слово, а оно застревает. Поняла она, что я так ничего и не скажу, и спрашивает: «Что будете?» А я молчок, хоть убей! Наливает она тогда молочного супу, а на второе – гуляш. Молочный суп я с детства любил. Второе менял на него, чтоб еще слопать тарелку. Думаю, вот хорошо. Помаленьку оттаивать стал. В кармане пусто, да на душе густо. Стал дважды на дню в столовку ходить. Вот, думаю, пойду и скажу, что дорогой мечталось. А не могу. Погляжу – и молчком обратно. Хожу день, другой, хожу неделю. А она выйдет, глянет пронзительно и на первое суп молочный нальет, а на второе гуляш положит. Ем и смотрю. В голове жарко, и в горле слова так и плавятся… В общем, трескаю, как говорится, морду нагуливаю, а более ничего. Начали мы могилки раскапывать. Сперва отцову. Сразу после войны помер от ран… Художник сердитый такой, лоб наморщит, слезы стоят в глазах, а лопату не отдает. Здесь, говорит, я сам… Тихо-тихо выгребает суглинок, совочком подкапывает. А над ямой, над самой бровкой белая холстина разостлана. Боюсь. Думаю, вот-вот гроб покажется… А он сгнил – одна щепа, как кость, в суглинке торчит, все в нем перемешалось. И вот, Серега, череп… Маленький. Вместо глаз – пустота… Художник вытер череп платком, рукой погладил и в слезы ударился. Плачет и косточки на холстину к черепу приобщает, снова в них ковыряется… Я бегом в столовку. Выворачивает меня наизнанку, рвет в сердце постромки. Увидела моя в окно, что я такой вот, и стрелою ко мне. «Что с тобою, миленький? Кто это сделал?» – платочком мне лоб утирает. Просидел я весь день возле столовки, а есть не могу. Курю и на художника поглядываю. Жалко его. Он ничего не предпринимает, сиди, мол, ежели худо… Я поднялся, пошел к нему через силу. Холстину он узлом завязал, положил на сиденье сзади, два ведра черно-красной землицы принес. «Спасибо, Микола! Я один бы не справился! Мужик ты, – говорит, – настоящий!»
Стояло лето.
Мы с художником после этого дела крепко накеросинились. Сидим и пьем молчком аж до утра. Через четыре дня поехали еще раз. Теперь уж мамашу копать… Считай, недели две ездили. Ездили и когда могил уже не было. Ямы закидывать. Вроде бы все. А художник голову свесит и глядит прямо в землю. А мне вроде бы радоваться грех, да, прости господи, весь одурманен счастьем, оттого что снова Дусю увижу, а может, и словцом переброшусь. И впрямь! «Знаешь что?» – говорю. «Знаю, – смеется. – В кино пригласить вроде хочешь…» Сходили. Показывали про свинарку и пастуха, а может, наоборот, уж не помню. Помню, весь фильм пропели они вдвоем, а в конце поженились… По правде сказать, мы плохо смотрели, все больше друг к дружке льнули, за что на нас сзади шикали. Ну, что там тянуть, подружились…
– Дак ты не тяни! – в нетерпении бросил Кононов, сердито вертя глазами, облитыми малиновым светом.
– Работаю в цеху, рукавички крою, а сам дождаться не могу, когда другая смена подменит, чтобы к Дусе смотаться. Жить вроде стало интереснее, легче. Кушкану аккуратно деньги вожу, отвечаю на вопросы его хитроумные. Не один теперь – и не страшно! Живу у художника, кое-чем помогаю. Случается, поворотит меня спиной к речке, стянет рубашку и малюет карандашами, потом красками, дак картина выходит. Да вот однажды, когда художника на даче не было, вваливаются менты и говорят: собирайся! И пошло: кто? зачем родился?.. ограбить его хотел или мстил?.. «Не хотел! – отвечаю. – То есть – не знаю!» – «Что не знаешь? Зачем угрохал?.. Признавайся! Там вот свидетели в коридоре сидят… Тогда будет хуже…» Подержали три дня и на улицу выгнали. Угостили пинком напоследок, и так обидно… Через этот пинок расхотелось и к Дусе ехать… Потом-таки поехал, не утерпел… Она как увидит меня в окно – на улицу! Бежит и плачет: «Разве ж так можно, миленький? Разве ж так можно?..» – «Да какой я «миленький»? Уголовник я, уголовник!» – отвечаю и тикать от нее обратно. Да она догнала, хватает за руку, удерживает. Ты, говорит, судьбой мне назначен… Вместе огорчаться, вместе и радоваться нам бог положил… Зря, мол, не рвись, не отпущу… Я, конечно, одумался. Походил-побродил по поселку, на пруд пошел глядеть, как пенсионеры плотвичку из него тянут. А вечерком, как уговорились, к Дусе. Жила она с матерью, состарившейся не по годам, в комнатушке, чуть большей, чем моя прежняя на Островского. Гляжу – две кровати, а между них занавески, наполовину раздвинутые. «Здрасьте, мамаша, – а сам к стене жмусь, неловко. – Дуся меня пригласила…» – «Вижу, – отвечает, – что Дуся… – Старушка неприветливая, губами сердито чмокает. – Коли, – говорит, – пригласили, так будьте, – говорит, – любезны садиться! Сидючи время быстрее катится…» Вредная женщина! Не понравилась, но терплю. Не к ней пришел, к Дусе. Сажусь, а Дуся носится, на мамашу просительно выстрелит, при случае что-то шепнет. Та ей в полный голос: «Взрослая! Небось сама себе голова! А знай, что я противная этому делу… Хоть бы в Никольское, что ли, съездили да на боженьку поглядели, дозволит он вам срамоту али нет…» Разговор мне непонятен, а нутром чувствую, что и меня он касается. Попили чайку с кагором, потом – еще, но уж без кагора. Время склонилось за лес, темень упала. Пора и мне честь знать. Засуетился я, за угощение благодарю. А тут мамаша входит в Дуськину половину с подушкой. Дуся мигом на кухню. А мамаша в полный голос: «На этой ты будешь спать, на той – Дуся!» Гляжу на подушки, и стыд пробирает. Осерчал я на Дусю. Думаю, вот потаскушка! Стиснул зубы, жду, что, думаю, дальше! Терять-то мне нечего! А за Дусю обидно… Мамаша зашторила две половинки и, видать, легла у себя, свет погасила. Дуся над кроватью ночник засветила, а в глаза мне не смотрит. Да и я головы не поднимаю. «Микола, спать уж пора», – и свет выключает. Признаться, с бабами давно не водился, а тут – на тебе баба! Зашуршала Дуся, и я то же самое. Лежим и помалкиваем. А там, на той половинке, мамаша молитву шепчет, богородицу поминает. Потом притихла. А молитва, как картофелина, в ушах у меня печется, будто бы на крутом откосе детдомовского огорода… Пролежали до утра, но уважения к себе не потеряли да слуха мамашина не осквернили. «Доброе утро, мамаша!» – сказал я на рассвете. «Здравствуйте, коли доброе!» – И засуетилась, заспешила в дорогу. Я и сам засобирался. Тут Дуся вцепилась, не отпускает, маманя, говорит, сейчас к сестре пойдет в Салтыковку. И впрямь мы с Дусей на пару остались, оробели пуще прежнего от свободы… Тычется в грудь мне и говорит: ты-де богом мне определен. – Синий грустно рассмеялся. – И сейчас не понимаю, что такое оно – первородный грех… А в Дусе вместо ожидаемой бабы честь сбереженную встретил… Понесла она и родила дочку – свет жизни! А только прежней радости мы друг к дружке лишились… Поди разберись, кто виноват. Живем – каждый для себя, хоть все вместе это семьей прозывается… – Синий умолк, затем встал, вышел в сени, принес оттуда воды в большом деревянном ковше.
Учуяв шаги Синего, служитель ночлежного дома, косоротый Сашка, забормотал за печью, препираясь с женой.
По горнице перекатывался жаркий дух, лишая нас сна.
– Вот Синий Дусю тут поминал, – начал Кононов, должно быть и сам подбитый к откровению. – Вот он все тут о Дусе, а ее, может, этим часом кто-нибудь своим теплом припекает… Все бабы без разницы – что твоя, что моя… Такая природа их сучья! – Кононов весь набухал ненавистью к такой природе, заглядывая в тайное тайных своей души.
– Слышишь? – обратил я внимание Кононова на шум за воротами.
Кононов, не уловив лукавства, прислушивался.
Кто-то без устали ходил под окном по снежному насту.
– Метель! – сказал Кононов и вернулся к рассуждению о женщинах, тихонько подталкивая рассказ на себя, приправляя его, в отличие от Синего, густою и горькой иронией. А дойдя до курьеза с гречневой кашей, лихо тряхнул вихром. – Суд закончил слушание и предоставляет мне возможность публично покаяться. Не хотите ли, подсудимый, что-нибудь сказать напоследок? Как же, хочу, говорю! И, отыскав глазами серое пятнышко, Верку, кричу во весь голос: «Верка! Хочу гречневой каши!» – Зал загудел… заерзал… Хохочет, улыбается, становится на глазах живой плотью. Вижу, серое пятнышко жалко свернулось, сделалось маленьким, плачущим. Сломалась ее комсомольская прыть. А я как заладил – Верка, хочу гречневой каши, – так и кричу! Зал от веселья дохнет: во, мол, Серега дает напоследок… Вот его как наградили, а он народ потешает… В общем, мент, который стоял за спиной, получает сигнал, давит мне на плечо, сиди, мол, помалкивай, развлекать будешь, видно, иного зрителя…
– С чего это тебя потянуло на кашу?
Кононов вслепую пощупал пятернею бутылку, обхватил ее, но к губам не поднес.
– А-а… какая там каша… Это я ей за то, что забыла, с чего у нас начиналось! Мне тогда исполнилось восемнадцать. В армию скоро идти. А Верке шестнадцать. Зашла как-то утром. Воскресенье. Прямо к завтраку угодила. Ели гречневую кашу. Крупу тетя Нюра прислала из Лук. Братья уже свое слопали, а я тихонько смакую. Отправлю в рот пол-ложки и давай молотить. Тут-то и Верка явилась, а мамаша моя: «Кашу будешь?» – «Буду», – и садится напротив меня. Мамаша моя чуть не плачет… Каши-то больше нету. Братьев как ветром сдуло. А мамаша мне: поделись, мол.. Дала она Верке ложку, а я своей провел в миске бороздку, мол, что ближе к тебе – твое, а что ко мне – мое! Так и едим эту гречневую рассыпную, на воде, без масла и молока Верка поначалу придерживалась бороздки, а потом, гляжу, нарушает. В общем, загребает с моей стороны. Щеки надуваются, а глаза хохочут от озорства. Думаю, дам ей подзатыльник и никто не увидит. Мать вышла. Стало быть, в самый раз. Да смекнул, что от этого не выиграю ничего. Придвинулся к Верке лицом и говорю: «Отсыпь-ка мне каши!» – и лезу ближе. А она не противится, и пошли мы целоваться, замирая от восторга и нежности. Тут застукала нас мамаша… Как треснет меня моею же ложкой, чего, мол, девочку глупостям учишь… С того раза мы с Веркой ни разу гречневой каши вместе не ели, а про тот случай не забывали. Пять лет мы с Веркой дружили, а на шестой поженились. Брат мой, который постарше, к своей бабе жить переехал. У нее своя комната на Тимирязевке была. Младший – Димка – уехал к тете Нюре в деревню. У той дочка на выданье удавилась… Мой отец и муж тети Нюры, дядя Жора, свояками приходились друг другу. Оба в тридцать шестом загремели.
Насторожившись, я прислушивался к шагам под окном, к беспокойному хрусту…
– Да это метель лупит по ребрам избы… – успокоил меня Кононов и заглянул в лицо Синему. – Ты что, как таракан, глазами по столику бегаешь?
– Жрать охота, – лениво отозвался Синий и, подцепив что-то малиновое из остатка в тарелке, мерно задвигал челюстями.
– После ремесленки на завод определился… Учили так себе, несерьезно. А вот на заводе пристроили к инвалиду, так тот обучил слесарному делу! Работаю, в армию не берут, из года в год переносят. А год-то уже пятьдесят второй. Мне уже двадцать четвертый идет. Живем с Веркой в смежной с мамашиной комнате, задыхаемся в страсти, света белого стесняемся и лампочку не включаем, неловко. Верка очень стеснительная была… В общем, привыкали друг к дружке. И вот тебе на!.. Жили тогда возле Новослободской, в Косом переулке. Верка с Пашкою, моим другом, в одном доме, я в другом, но в одном дворе. Пашка первый открутил эти вешалки и отволок домой. Потом и другие стали откручивать. И все по паре… Оставалась одна. Так и зацапали на проходной! Давай обзывать и так и эдак… Все возмущаются, и даже те, кто благополучно миновал проходную… Припаяли, в общем, и отправили с пересыльного. Народ всякий. День везут, ночь везут, а России конца и краю не видится! Душе тесно, хочется на простор, пусть лагерный, но скорей… Чего уж говорить, все знают, что это за изюм. Год промаялся, а потом притерпелся. С клопами да вшами. Вроде полегче. Писать никому не пишу – осерчал. Правда, мамаше иногда пару слов. А она мне вязаные носки пришлет, еще кой-чего, да все отбирают – народ, мол, выносливый, не подохнете… И не передохли! Тут амнистия, да у меня нарушения были, и не коснулось. Сказали, корми дальше вшей, а тогда будем решать что к чему. На шестом году Верка выклянчила, видно, адрес. Спрашивает: ждать или нет? А у меня к ней и жалость, и ненависть… Предала нашу гречневую кашу! Думаю, пусть себе поступает как хочет, не отзовусь! Развернул письмо, читаю – роман, не письмо. Правда, местами черной тушью аккуратно целые строчки вычеркнуты. Раскаивается за свою дурость… Мол, украшения эти и у Пашки имеются, а он живет себе и горя не знает… А в конце: спасибо, мол, комсомолу, что он глаза на правду открыл! И просит простить дурость, потому как только со мной хочет есть гречневую кашу… Упал я на нары и захрюкал от боли, от своего и чужого свинства… Писать, однако, Верке не стал. Думаю, чего уж – каша небось давно уж прокисла! А вот упоминание о Пашке за живое задело. Народ за это время успел оплакать и осудить Сталина! Стукнуло тридцать один, и я снова родился – вышел на свет! Думаю, все позабуду, назло всем буду жить гордо! Спешу в Москву, начинать новую жизнь. Залетаю под вечер в родной Косой переулок. Дворовая мелюзга подтянулась. С замиранием души – прямо к двери. Подходит мамаша, открывает, рыдает навзрыд. В комнате кровать свою вижу. Смежную, в которой мы с Веркой привыкали друг к дружке, заколотили, а из коридора пробили. В общем, медсестра в ней какая-то поселилась. Поплакала мамаша, все по порядку порассказала, а напоследок: не ходи, просит, к Верке, чужая она нам… Наутро рванул я к старшему брату на Тимирязевку, не обрадовался. Зачуханный, лицо немытое, пьяное. Жена того хуже – усохла, ужалась, сама, видно, пьет. «Зачем же ты, – спрашивает, – вернулся домой? Засекут в квартире, да и мамашу выселят!..» – «Не выселят, – говорю, – нет таких прав!» Он улыбается: «Узнает Пашка, что вернулся ты, – выселят… Он теперь участковый и к Верке примазался… Разменялась она с родителями, одна на Покровке…» Я расстроился. Стал домой приходить ночами. Подойду со своим ключом да на цыпочках, а чуть свет… Прибился тоже в Дорохове к рукавичникам, с Синим там познакомился. Он меня по соседству с Кушканом прописал. А жить негде. Запил. Свои пропью, угощает Синий. Тут дядя Ваня с Гришкой с цеховскими ребятами подружились. Жили по той же дороге, в Давыдовке. Руки у них всех умелые – все наладчики. Наладят машинки, а там и гужуют с нами. Приехали как-то под вечер. Повозились с машинками, чтоб ниток они не тянули – не рвали, а за это Парамон, наш бугор – его поезд потом сбил, – их угощает. Выпили и мы с Синим. Зима. Вечер молочный, стало быть, ранний. Домой меня потянуло. Добрался, вставил тихонько ключ, открываю, а он, Пашка, уже ждет, на табурете у телефона сидит. Гладенький, шею нажрал. При форме. В звании младшего лейтенанта. Заработал, пока я там вшей своей кровью откармливал. «Здорово, Пашка!» – говорю, вроде в дружках ходили, в одном дворе живем, ремесленку опять же вместе заканчивали. Только я попался, а он – нет! Пашка сидит как сидел и говорит, мол, я вам, гражданин Кононов, не Пашка, а Павел Иванович Сухоруков! Думаю, шутит, подлец. Ан нет! Встал, обстукал все двери в квартире, пригласил всех соседей и спрашивает: «Вы этого человека знаете?» Те, конечно, хором: «Знаем!» Тогда Пашка и говорит: «Хорошо, что знаете. – И протокол составляет. Пишет сноровисто, а закончив, сует на подпись соседям: «Распишитесь, что гражданина Кононова распознали, нарушителя житья коммунального…» – «Да ты чего, Пашка, я уйду! Слышь, уйду и больше сюда не приду! Зачем мамашу-то подвергать?..» – «Не я ее подвергаю! А вы, гражданин Кононов!» – отвечает Павел Иванович Сухоруков из-за спины мамаши. Морда у Павла Ивановича круглая, жирок выкатился под подбородок, щеки точь-в-точь как у мясника. Думаю, не Пашка, а в самом деле мясник. А может, наоборот, мясник вырядился в мента? И от этой дурной мысли потянуло меня на смех. Улыбаюсь и говорю: «А вешалки-то у тебя висят, Павел Иванович Сухоруков!..» А он: «Гражданин Кононов, вы в нетрезвом состоянии… Предупреждаю, если через минуту не покинете сами квартиру, будет вызван наряд… А если еще раз обнаружу нарушение квартирного режима – пущу эту бумагу в ход…»
– Откуда это у нас берется хамье? – проговорил Синий и крепко приложился к бутылке. Выдув хорошую порцию, выдохнул. – Жрать охота, Серега.
– Значит, скоро помрешь! – отозвался сердито Кононов, подступаясь к рассказу.
Изба уже выстудилась. Умерли шаги под окном, а Кононов продолжал свою повесть без прикрас, какими обычно изобилуют воспоминания.
– Ушел я тогда… Но про себя положил с Пашкой где-нибудь встретиться и как следует поговорить по душам… Навел справки. Узнал Веркин адрес и пошел по Самотечной к Покровке… Спешить некуда – нигде вроде не ждут, да и время совсем не в цене, чтоб особенно торопиться. Иду, всякие мысли обкатываю, а мороз их крепко прихватывает. Шапки нет. Кепь драная. Миновал Харитоньевский, прошел дальше и – сиг во двор. А во дворе длинный дом в два этажа. Отсчитал на первом четыре окна слева направо. Есть, горит! За занавесками тень. Постоял, покурил, и в подъезд. Думаю, про-верю-ка, как там каша, не прокисла ли? Под кнопкой звонка и моя фамилия значится. Вроде бы меня нет, а вот, поди ты, живу. Даю четыре звонка. Открывает женщина, но не Верка. Впускает меня и говорит: Верка в ванной, мол, а рукой указывает на приоткрытую дверь. Вошел. Тепло после улицы, свет глаза слепит. На тумбочке – наша свадебная фотография. Молодые, глупые… Входит Верка. На голову полотенце чалмой накрутила. Смотрит и плачет, с места не сдвинется. И я стою, не двигаюсь. Изменилась или не изменилась? По старым порядкам мне бы полагалось спросить: как жила? И если скажет: не одна! – лупцевать всей мужицкой правдой. Да уходил-то я не на заработки, стало быть, прав у меня – никаких! Баба есть баба! Что кошка, любит тепло. Коли своего нет – к чужому потянется… – Кононов ненадолго умолк, унимая старую ненависть в горле. – В общем, до утра… Грудь слезами обмывает, не отпущу, говорит… Куда ты, туда, мол, и я. Не боюсь, говорит, выселения… Утром выскочил, а она за мною: «Придешь?» – «Не приду!» – отвечаю, бегу, а у самого в горле першит. Думаю, пусть досыта настрадается, иначе какое там понимание… Прошла неделя… То у старшего брата переночую, то у Гришки или у дяди Вани. У дяди Вани, хоть он добрый, но реже, жена нелюдимая. Говорит, изба вам не съезжая, чтоб кажного пускать ночевать. Дядя Ваня, понятно, молчит. Он пришлый в этих местах, сам кое-как прилепился. Своей хаты под Ставрополем после войны у него не стало. Фрося – баба дородная, властная! Что-то она в Кунцеве строила и пригрела своего инвалида. Тогда Давыдково деревня была. Колхоз. Обошел всех по разу, кого и по два, а дальше куда? Не домой же? И вот тут-то решил еще раз наведаться к Верке. Она тогда ключи еще мне дала, ты мне муж, говорит, а не хахаль какой-то. Я и пошел. Во дворе огляделся – никого, ни души. А мороз проклятый кусается, когтит шкуру. Иззяб. В местах переломов (подарки лагерной жизни) так и свербит, хоть вой! Отпер тихонько и прокрался к Веркиной комнате. Вставил на ощупь ключ. А из комнаты мужской голос: входи, говорит, открыто… Ну вот и встретились, думаю… На кровати Пашка, ноги в сапогах ментовских по полу разбросаны, китель на стуле висит. В общем, ждет Верку. Ночничок, как лампадка, тлеет в углу. Пашка вскочил и к кителю. «Стой, не спеши, Павел Иванович Сухоруков! Тебе той квартирки мало, так сюда подобрался…» Бросился и подмял его, то бишь Павла Ивановича. Перевернул мордой к полу и о дубовый паркет хряскаю. Это тебе, говорю, за мамашу, это тебе за Верку, а это за вешалки… И снова по порядку… И такое удовольствие получаю, словно пасхальные куличи сладким чаем запиваю… Да недолго удовольствие длилось. Соседи прослышали и, оказывается, позвонили… Ворвались к нам, скрутили меня, а по дороге за своего сотоварища ребра мне пересчитывали, покуда одного не лишили. Протокол тот, понятно, пустил в ход. Стало быть, суд. На суду обвинительный листок хорошо поставленным голосом прочитали. «Находясь при исполнении служебных обязанностей, младший лейтенант Сухоруков Павел Иванович…» – и так далее и тому подобное. Мой защитник, плюгавенький человечек в детских очках, попискивает. «Прошу учесть, что младший лейтенант Сухоруков Павел Иванович не мог находиться на чужом участке при исполнении служебных обязанностей! Я прошу суд…» – и красненьким носиком-клубничкой уставляется в зал. Зал, конечно, хохочет. В цирке за клоунов деньги платят, а тут – бесплатно… «При исполнении!» – отвечают ему. Тут мой старший брат не утерпел и прямо с места: «При исполнении каких обязанностей?..» Зал пуще прежнего хохочет. А баба ему на морду ладонь, как узду, чтоб молчал, не лез куда не просят, сами, мол, разберутся. В общем, вынесли восемь за попытку к убийству младшего лейтенанта. Верка, однако, опротестовала решение, на кассацию подала, а кассация три скостила. Ну, думаю, не рожден я для свободы, а свобода для меня. Знать, в тюрьме мне подохнуть… По правде говоря, где она, воля, если в рукава дышишь от страха: туда нельзя, сюда не полагается! А все одно в колонию не хочется. Народ на вольной жизни не очень сочувственный, а в колонии и подавно! Укатали меня с другими уголовными мордами из пересыльного, чтоб окончательно ожесточился сердцем на человека, на порядки, которые будто бы самые мудрые люди придумали. Теперь, думаю, только бы выжить, чтоб остаток жизни как следует употребить… Надо, думаю, перво-наперво заколоть Павла Ивановича, а там поглядим, что дальше делать! И мысль шальная покоя все не дает. А что, если каждый, кто из заключения выйдет, своего Павла Ивановича порешит? Справедливо? Справедливо! Но вскоре понял, что в мыслях моих есть какой-то изъян. Но какой? Привезли на лесоразработку в Микунь, в тот самый, куда мы с тобой в семьдесят первом с экспедицией поехали… Мне там в аккурат тридцать два года исполнилось. Зима. Холод. Выходит, и года не погулял. Летом Верка там навестила. Навезла гостинцев лагерному начальству, свидание организовала. За время, которое я Верку не видел, она успела обабиться. Веселые девичьи глаза сделались грустными, а щеки остались такими, какими были, только чуть тяжелее. Ты, говорит, Серега, теперь не убивайся, все путем сделаю: работа у тебя будет легкая и почет тоже особый… Жили, говорит, мы не так. Поговорили о том о сем, и спрашиваю про своих, про мамашу. А Верка голову опустила, в глаза не глядит. Думаю, мамаша померла. «Рассказывай, что с мамашей?» Мамаши, говорит, твоей в Москве уже нету – выселили ее из-за тебя… К сестре и Димке уехала в Луки. Я большой палец сунул в рот, прокусил его до костей. Что это за жизнь, что кругом перед всеми виноватый? «Ладно, – говорю, – мне теперь все одно не жить, а ежели и выйдет жить, то кое-кому уйти из нее придется…» – «А кое-кто, – отвечает Верка, – и без твоего пострадал: семь ножевых ранений в грудь получил, еле жив остался, на ладан дышит…» – «Жаль, что кто-то меня упредил, – говорю, – я бы одним ударом сердце нашел…» Уехала Верка, а меня, как обещала, на легкую работу определили: кручусь-верчусь в зоне, одна видимость… А наш брат тем временем вкалывает на разработке… Иные копышатся, день убивают… В общем: какая кормежка, такая работа. Кручусь-верчусь в зоне, а все одно человеком себя не чувствую. Стала Верка чаще наезжать с полными сумками, угощает всех, кого надо… Где подарками, где деньгами откупит мое эдакое легкое существование. Хлопочет о досрочном освобождении, но зря. Считай, со срока срок схлопотал! Пошел последний год. Выпускать меня из зоны стали, хотя тогда Микунь то же, что зона. Все только мечтаю из нее выпрыгнуть. Даже деревья в городе не сажают, не украшают. Пылища кругом! Бежать – не убежишь! Кругом охрана. Даже с моста охранники наблюдают за идущим товарняком с лесоматериалом, чтоб кто-нибудь не улизнул из большой зоны. Приедет Верка, комнату снимет опять же у лагерного служаки, и мы целых пять дней на улицу не показываемся – друг на друга растрачиваемся, как в молодые годы. Вроде бы ожесточение маленько пожухло, и жизнь ключом во мне забила. Теперь как вспомню про Пашку, аж жалко становится. Хороший ведь малый был. Детство вместе с ним провели. Непонятно даже, что его так скрутило. Как подумаю, что не жилец, дух перехватит: ни жены, ни друзей, да еще без звания оставили, видать, за очередное паскудство… Теперь и не поймешь, кому легче, мне или ему. Я хоть без золотой рыбки остался, да при разбитом корыте с какой-то надеждой на перемену… А у него? Шиш с маслом! Приехала за мной Верка в теплой шубе. Морозы трескучие. Барахла мне теплого навезла. Костюм югославский, сапоги теплые на меху, полушубок, шапку-ушанку ондатровую. Отмыла-отскоблила, сама же побрила, вот только волосы не отросли. Слава богу, что сохранились. Напоследок попойку в честь моего освобождения лагерным жлобам устроила. Дали бумажку мне, и – айда! В поезде, в котором все шныряли охранники с овчаркой и пистолетами на боках, Верка мне говорит, что комнату свою разменяла на квартиру в Бирюлеве, мол, никто про то, что ты отдыхал в Микуни, не знает и знать не будет. Живи-де человеком, вот только проколись за сто первым… Сыграли мы с Веркой, можно сказать, снова свадьбу – три дня гуляли, пока подруги ее каблучки вконец не разбили. А потом начали поглубже в «себе» оседать, устраиваться, чтоб поменьше соприкасаться с чужою лозунговой жизнью. Мы по горло были сыты ее подгоревшею корочкой… Отбарабанит Верка в магазине и – домой! Дома чай с вареньем, а то и вино сухое грузинское с сыром. Верка директором в овощном работала, копейку хорошую делала. Людей своих подобрала – комар носа не подточит! И на пролетарской базе тоже знакомцы: осетины вперемешку с грузинами да армянами. Словом, крепко работают. А если что невзначай случится, так и на этот случай у них свой Женька имелся. Живем, вроде о лучшем мечтать нельзя… Крыша над башкой, барахло, и еда, и свобода во всю ширь, насколько зренья хватает! Живи, радуйся! Да не тут-то было, фиг с маком! Нету ее, этой радости. Вся вышла. Скучно жить: еда, тряпки, вино-пиво! Те, что сильно заскучали, в потеху ударились! Верка вроде бы и не рвется, а скучает жестоко. На работе вроде бы весела, при деле, дома – не то! Год прошел, другой, а я пристроиться не могу. Ребят не слышу! В Дорохове цех раскулачили, ребята – все врассыпную! Ищи ветра в поле! Синего искать ринулся. Кушкан надоумил, ищи, говорит, Миколу у трех вокзалов, там они (не сказал: бродяги)! Хожу день-другой, неделю, но зря. А тут возвращаюсь на электричке, гляжу – на товарной движение. Народ по повадкам знакомый. Думаю, погляжу-ка вблизи. Наутро оделся, взял портфель, как на работу, чтобы соседи чего не подумали, и на электричку. Задремал в ней и проехал товарную, вышел на Павелецкой. Ну и ну, коли так, решил, съезжу хоть погляжу на свой Косой переулок. Доехал до «Новослободской» и иду, давешний сон вспоминаю. Что ни шаг, тем все четче. Стоит, значит, мать над моей кроватью, я еще маленький, и гладит: ты, говорит, Серый, прости этому Пашке, сдуру он, по незнанию жизни тебя обидел… пойди помирись, пока он сам не осерчал, что ты не сумел простить его… Иду и грустнею от этого сна. Так уж и быть, помирюсь с Пашкой, а на неделе к мамаше поеду, может, что и подброшу. Зашел во двор, во дворе люди чужие, утекло мое время с родного двора, другие зато подтянулись и в свое время живут. Им конечно же не грустно, они со своим временем в союзе, вместе идут! А мое – утекло! Душа болит, будто все мое вымерло. Даже деревья кажутся чужаками. Не простили разлуки, тепло глаз моих выстудили, другим отдали, живите, мол. А мне-то куда? Стоит молодежь во дворе, нахальная, дерзкая, буравчиками буравит. Один подходит и спрашивает: «Вы кого же здесь ищете?» – «Где здесь Сухоруков Павел Иванович проживает?» Тот рукой указывает на подъезд и почему-то ехидно посмеивается: «Только он теперь помирает…» Поднялся по знакомой лестнице. Нажал на звонок. Пашкина сестра отпирает, но меня не признает и ведет за собою в комнату Пашка лежит без движения, только часто с ленцою позевывает, а глаза убежали под лоб и там кувыркаются, светясь пожелтевшим белком. «Здравствуй, Пашка! – говорю я тихо и становлюсь над ним. Он высох. От прежнего Пашки ничего не осталось. – Узнаешь меня?» Большой онемевший язык ворочается во рту, но сказать ничего не может. Кое-как промычал: «Узнаю». Темными зрачками уставился на меня. «Ну вот, Пашка, я и пришел. – Пашка моргает, вижу, мол, что пришел. – Пришел помириться. Прощаю тебе, Пашка, все… Я за доверчивость свою уже заплатил, да и ты – за свою! Выходит, мы квиты!» Постоял еще немного – и прочь. Следом Пашкина сестра семенит. «Да ты ли это? – интересуется. – Неужто же ты?!» – «А что со мной сделается! Стало быть, я!» – «А маманя где ваша?» – «Померла в прошлом году…» Я сбежал вниз и замер под тополями. Не могу понять, что происходит… Молодежь весело скалится. Детвора носится с криком. На душе погано. Никогда теперь другого Пашки не будет! Обидно, что не смог облегчить ему уход. А как облегчишь? Словами? А где эти слова взять, если все так вот перемешалось, перебродило, но еще не отстоялось?.. Рванул я в Хотьково к Ивану Митрофановичу. Проколот был у него. Кушкан не захотел таким подарочком, как я, обзаводиться, к Митрофановичу направил. Деньги вперед ему на год привез, накупил гостинцев, вина, чтоб не осерчал ненароком за то, что справку ему не предъявил с места работы. А где ее, эту справку-то, брать, если все только отмахиваются. Подарки и деньги принял, а про справку все равно напомнить не забыл. Гляди, говорит, парень, как бы тунеядство не вышло… Тунеядства для полного комплекта мне не хватало. Через два дня съездили с Веркою к Митрофановичу. Неделю пожили. Она, видно, подбросила деньжат для того, кто справкою допекает, пока я пристроюсь. Довольный Иван Митрофанович поручения сделал всякие Верке. А я все отыскиваю Синего. Думаю, куда ж вся республика застопервокилометровая провалилась? Неужели квартиры все получили, работой обзавелись, с прежнею жизнью не знаются?»








