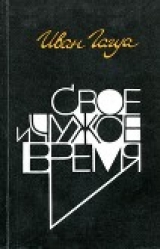
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Как хорошо сидеть среди моих добрых односельчан, постоянно спорящих о политике, простых житейских невзгодах, о любви и смерти!
А вот и Давид, веселый грешник земли. Вот и Иорика, совестливый и честный служитель кладбищенской тишины… Он слюнявит пальцы, чтобы потуже закрутить концы своих белых усов. Наверное, причиной этому все тот же неугомонный Давид.
Вся жизнь наша – лавка да кладбище!
Москва,
1969
ПО ДРОВА

С утра разразился сильный дождь. От этого неуемного осеннего дождя в деревне стало зябко и грустно. За колхозным садом заходило море, обдувая окрестность туманной сыростью. Как-то сразу размякшие жители попрятались в дома и оттуда, из окон, глядели на улицу, на случайных прохожих с такой грустью, что, казалось, конца этой осенней непогоде не будет.
Во дворе небольшой усадьбы, перед кирпичным домом стояла, задрав рокочущую морду и мерно подрагивая, грузовая машина.
Молодой паренек, водитель этой машины Жоржи, весь перемазанный маслом и промокший до последней нитки, копался в моторе, время от времени смахивая со лба мизинцем щекочущие капли дождя, набегавшие с армейской фуражки.
Его мать, вышедшая во двор, с огромным черным зонтом над головой и в выцветшем пестром халате, – вид у нее был свирепый, какой, наверное, бывает от постоянного напряжения слуха у глухих, – распекала сына густым мужским басом, приводя в неистовое движение свободную руку:
– Сукин ты сын, не с тобой ли мать разговаривает, чего морду в сторону воротишь? Отвечай же наконец, когда в нашем доме будут дрова, чтоб ты сгорел на костре?! Видишь, как горы припорошило снегом? Чтоб тебя припорошило и занесло, окаянный! Мерзну, как бездомная собака, чтобы ты окоченел бездомной бродяжкой! Сколько мне еще ждать? Ишь ты, он и ухом не поведет, как будто не мать с ним разговаривает, а собака воздух травит…
Жоржи, пропуская слова матери мимо ушей, продолжал копаться в утробе машины, заставляя ее то выть зверем, то таинственно шептаться.
Но женщина стояла во дворе и накаляла воздух страстью глухой и безудержной родительницы, потерявшей от боязни холода ощущение пространства и времени:
– Люди сердечные! Выходила я этого негодяя без отца, выучила и в люди вывела. А он, вы посмотрите на него, как с матерью обращается… – Она выпалила все это на такой высокой ноте, что из некоторых домов выглянули соседи узнать, что там такое приключилось. – Убирайся со двора, чтобы глаза мои тебя здесь не видели, сукин ты сын! Не смей позорить мой двор! – не унималась она, отворяя ворота и повелевая жестом руки очистить двор.
– Ну, мама, куда же в такую погоду? – попытался было Жоржи разжалобить мать.
– В хорошую погоду и без огня прожить немудрено! – отрезала она.
И Жоржи ничего не оставалось делать, как тотчас же повиноваться матери и, выехав со двора, лететь во весь моторный дух по разбитой проселочной дороге, подбрасывая на ухабах кузов.
Ехать в такую погоду было рискованно, поскольку в дождь дороги размывались и становились скользкими, но иного выхода у Жоржи не было.
«Человек наступает на природу…» – Жоржи вспомнил чьи-то слова, услышанные то ли по телевизору, то ли на лекции. – Совсем еще недавно за дровами не нужно было никуда ехать… И она в свою очередь мстит человеку за безрассудство…» – невольно наплывали обрывки мыслей как подтверждение тому, что человек безрассуден…
Выехав на магистраль с нехорошим предчувствием, потягиваясь и зевая, Жоржи поглядывал по сторонам, на бегущие по кюветам дождевые ручейки. Затем, вспомнив вчерашний вечер, когда он почти против своей воли впервые в жизни сделал признание в любви очень хорошенькой учительнице, заметно повеселел. «Хорошая девушка! Была бы она хоть на год младше, не раздумывал, обязательно бы привел ее в дом. А то ведь старше меня на целых три года! Ребята засмеют, точно, засмеют. – Он достал папиросу, закурил, сплюнул в окно и улыбнулся. Потом с неохотой свернул налево, в переулок, и пошел трястись по булыжникам к подножию гор. – Хоть она и учительница, но дура, что так быстро позволила себя поцеловать. Что ж так быстро-то, а? – Жоржи сладостно зевнул, заново переживая приятную для себя минуту. – Нет-нет, она мне не пара! Может, переболею – и все, точка… – Он болезненно поморщился от этих мыслей. Было совершенно очевидно, что, думая так, он не желает переболеть очаровательной учительницей. – Пока подожду, а там время покажет…» – успокоил себя, хотя знал, что противостоять своему влечению не сможет – втюрился!
А дорога постепенно уводила выше и выше к горным деревням, поворачивая то налево, то направо. Потом она незаметно пошла по ущелью вдоль небольшой реки, и впереди сразу же показался густой зеленый лес, покрытый свинцовым маревом дождя.
Жоржи знал, что это только начало леса, а ему предстояло ехать вглубь, пробиваясь в чащу по бездорожью к избушке лесника, с которым доводилось видеться еще до армии.
Машина, буксуя и ревя, кое-как преодолела подъем и, выкатившись на ровную колею, тихо, обходя колдобины и валуны, покатила по деревне, поднимая собак с насиженных теплых мест. Наконец, проехав и этот рубеж под вой голосистых волкодавов, достигла места, где дорога круто сворачивала в сторону и стремительно падала вниз, петляя между кустарниками к густому лесу, четко обозначившемуся впереди.
Придерживая машину на тормозах, Жоржи медленно съехал и, проделав еще несколько трудных верст по низине, подкатил к избушке лесника и заглушил мотор.
Из приоткрытой двери избушки валил густой дым, лентой вился, курчавясь над купами ближних деревьев, и уносился вдаль. Трещавший в избушке костер время от времени жарко освещал грузную фигуру лесника, застывшего в проеме двери, веселыми всполохами огня.
Жоржи торопливо выскочил из кабины и направился к избушке, оглядывая окрестность – нет ли заготовленного топлива, – но, не найдя ничего подобного, втиснулся в дверь.
– Ну и погода! – сказал Жоржи, вкладывая в эти слова всю безнадежность своего положения, и прошел мимо посторонившегося лесника к костру.
Лесник, не расположенный к разговору, в особенности о погоде, только угрюмо взглянул на пришельца и, что-то раздумывая про себя, сел на длинную скамью и уставился в костер.
«Плохи дела…» – подумал Жоржи, глядя на лесника сверху оценивающим взглядом, и тихо проронил:
– Видно, зря притащился!
Он достал из кармана брюк промокшую пачку «Космоса», протянул хозяину леса.
«Что теперь мне делать – ума не приложу… Гиблое дело – совсем без дров остались!»
Лесник, не глядя на Жоржи, принял сигарету, медленно просушил ее над костром. Затем так же не спеша прикурил от головешки и, продолжая о чем-то думать, часто сплевывая в костер, спросил:
– Чей будешь?
Жоржи незамедлительно ответил.
– Не слыхал такого!
– Всех невозможно упомнить – людей на земле много! – пошутил Жоржи, стараясь разговорить лесника. – А положение у меня и впрямь безвыходное! Мать очень уж…
– Живому не следует тужить! – перебил его лесник, оттаявший немного. – Потому как у живого голова на плечах. – Он сделал несколько крепких затяжек и, выпуская дымок из прокуренных ноздрей и рта, после длительной паузы добавил: – Есть дрова, но трудно туда проехать по такой склизи… не знаю, как и помочь!
– Машина у меня, – зверь, по любой дороге пройдет! – горячо подхватил Жоржи. – Не сомневайтесь…
Мужчины покинули избушку и поехали по размякшей колее к заготовленным дровам. Получив каждый свое, они расстались на перекрестке дорог: лесник пошел к избушке, а Жоржи поехал домой.
Довольный своей удачей, а больше всего сознанием, что наконец-то отдохнет от каждодневного распекания матери, Жоржи благополучно преодолел крутой подъем в деревню и теперь осторожно тянул машину по извилистой и разбитой дороге, чтобы не ухнуться в колдобины. Машина, натужно ревя от бремени своего груза, медленно ехала по горной деревне, тревожа все тех же волкодавов. Еще два часа езды, и Жоржи, считай, дома. Он на какое-то мгновение размечтался и чуточку прибавил газу; машина вздрогнула и покатила нервно, ухаясь разом – правой и левой сторонами – в колдобины и, как зверь с перебитым хребтом, стала тут же оседать.
– Приехали! – грубо выругался Жоржи, подтягивая перебитое существо из металла к чьему-то двору.
Он был жестоко наказан за оплошность – с двух сторон полетели рессоры. Поняв это сразу, дал отчаянный сигнал бедствия.
Если бы Жоржи знал, что сигналом бедствия навлечет еще и новую беду на свою голову, он никогда бы не давал его, а сидел бы себе смирно в кабине до утра в ожидании случайной помощи. Но тогда он еще не подозревал, что дом, в который он послал сигнал, лишит его свободы…
На тревожный сигнал Жоржи быстро откликнулись. В доме, из которого ждал он помощи, отворилась дверь и вышел мужчина преклонного возраста, но еще крепкий и ладный.
Когда этот человек подошел поближе, Жоржи разглядел, что одна щека у него недобрита, помешал, как видно…
Мужчина обошел машину. Потом внимательно оглядел Жоржи, уже успевшего совершенно раскиснуть, и, цокнув языком, деловито скомандовал:
– Давай-ка, парень, вылезай! – И сам, ловко взобравшись на кузов машины, стал сбрасывать дрова, весело пересыпая пословицы и поговорки, как золотистые кукурузные зерна с ладони на ладонь счастливый сеятель.
Жоржи волоком тащил дрова во двор и, складывая там в штабель, ругал себя за оплошность в дороге:
– Поспешил – насмешил! Голова ты соломенная!..
А мужчина с недобритой щекой ловко сбрасывал дрова и грустно думал о своей дочке…
Почему бы человеку не подумать о дочке и не помечтать о хорошем зяте, глядя на такого паренька, как Жоржи, если у него мало шансов заполучить такового вообще?
Дело в том, что дочка у этого человека была уже взрослая, но совсем худая – одни стропила, – и не давала она ему покоя… Засиделась в девках… Сохла по мужской ласке! Замуж бы ей, да вот беда – мужчины отворачивались, не замечали, словно совсем ее и не существовало в этом мире. А родители, сколько ни старались, ни приданым, ни другими посулами не могли подыскать жениха. Слишком много вокруг хороших девушек!
Выйдет она к калитке и долгим взглядом печальных глаз смотрит на случайного мужчину, гася свои страсти горькими слезами.
А если какой-нибудь парень ненароком бросит на нее взгляд, вспыхнет как зарево, то потом медленно тлеет, как летний день, стыдясь себя и страдая одновременно…
Каких только дум не передумал отец, пока сбрасывал дрова на землю, а Жоржи их складывал, выказывая исключительный интерес не только к пословицам-поговоркам, но и к кое-чему серьезному…
Но Жоржи было не до пословиц-поговорок. Знай себе тащи да мокни под холодным осенним дождем. Пусть себе мелет, кому это во вред? А вот рессоры – как с ними быть? Как утихомирить мать? И вообще как жить, коль столько несчастий выпадает в этом мире на одну голову? Жоржи с грустью и болью думал о том, что ему еще раз нужно будет приехать сюда. А этого он никак не хотел!
– Не унывай, мужчина! – вдруг весело выкрикнул гостеприимный хозяин, как бы читая мысли Жоржи. – Все уладится! Давай-ка теперь загоняй машину во двор, а то кто его знает, что может случиться за ночь…
Жоржи обошел разгруженную машину, еще раз осмотрел рессоры и, убедившись в том, что они подвели, сел в нее и через несколько минут стоял уже за штабелями дров. То, что ему не уехать сегодня, было ясно. Да и ничего лучшего в этом случае придумать тоже нельзя. Промокший за день, он уже дрожал от озноба. За стеклом машины по-прежнему шумел дождь. Бежали мелкие по склонам ручейки, размывая глинистую дорогу и устремляясь в низины…
С наступлением ранних сумерек в горах становилось тошно от промозглого порывистого ветра.
В деревне в эти часы то здесь, то там на изгибах длинной дороги уже вспыхивали мерцающие огоньки, маня к домашнему очагу и уюту.
– Порядок! – сказал хозяин с сознанием выполненного долга, закрыв ворота и ведя своего случайного гостя в дом. – Ничего, парень, сейчас погреем кости.
Жоржи ничего не ответил. Шел он следом с ленцой обреченного: холод и голод так въелись в душу, что ворочать языком было лень.
Они поднялись по деревянной лестнице на широкую веранду и, отряхнувшись здесь, вошли в дом, где пахло сухими дровами и каминным дымком.
– Есть тут живые? – весело крикнул хозяин в пустоту комнаты, шаркая мокрыми ногами у порога.
Вскоре за дверью боковой комнаты послышался голос. Потом из нее выглянула полная женщина, должно быть хозяйка, и жестом руки пригласила мужчин в комнату, где в камине занимался огонь.
Мужчины вошли. Сняв головные уборы и повесив их на стене на проржавевшие гвозди, опустились на низкую скамью у камина.
– Ладо, может, ты добреешься? – сказала хозяйка и увлекла его с собой в соседнюю комнату.
Оставшись наедине с собой, Жоржи достал промокшие сигареты и принялся их просушивать у огня. С мокрой одежды стекала вода прямо под ноги; пригретое костром тело оживало, разливая сладостную негу полудремы. Чтобы не уснуть, Жоржи взял одну из сигарет и, оглядываясь по сторонам, стал ее раскуривать. И очень удивился, когда в глубине комнаты увидел девушку с вязаньем на подоле. Жоржи чуть-чуть привстал и поклонился ей, на что девушка ответила кивком, не сводя с него долгого взгляда.
У самых ног девушки, развалившись на спине, играл пятнистый котенок, по-глупому выпучив глаза и норовя поймать собственный хвост.
– Кис-кис! – позвал его Жоржи, маня пальцами.
Котенок повернулся набок, вытянул мордочку с белым носом и уставился на Жоржи, словно раздумывая, стоит идти к нему или нет. Потом он мягко подпрыгнул, выгибая спину горбом, и пошел к нему бочком, а приблизившись, стремительно бросился в сторону, объявляя начало игры.
В это время за домом, в небольшой пристройке, несмотря на отговоры хозяйки, Ладо вздернул отборную овцу и теперь с привычной сноровкой разделывал ее.
– С ума, что ли, спятил? Резать такую овцу ради этого шалопая! – убивалась хозяйка, глядя на увесистый курдюк. – Можно было бы и курицей отделаться…
– Курицей никак нельзя! – спокойно отвечал Ладо, стаскивая парную шкуру через обезглавленную шею, как рубашку. – Курицей-то никак нельзя такого гостя!.. Ты бы, чем здесь кудахтать, шла бы за соседями, да стряпней занялась! – Ладо измерил жену лукавым взглядом и улыбнулся, отчего та, чтобы не вскрикнуть, прикрыла платком рот и замахала рукой. – Ничего, ничего, отправляйся! Гость у нас необыкновенный!
Хозяйка, онемев от догадки, ушла прочь, затем, припав лицом к деревянному столбику пристройки, горько заплакала от щемящего стыда.
За ужином у Ладо собрались соседи. Их было человек пять – мужики-выпивохи, ровесники хозяину Как и полагается гостю, они не задавали лишних вопросов. Сидели и с достоинством молчали, хотя распирало любопытство.
Ужин был приготовлен на славу.
На тарелках большими кусками дымилась баранина в жемчужинах жира. В избытке стояли фрукты и овощи А над всем этим витал приятный запах только что подоспевшего сациви.
Гости сидели в зале у вновь растопленного камина, играющего алыми языками огня.
Жоржи, как самый почетный гость, сидел спиной к камину в пиджаке с хозяйского плеча. С места ему было видно, как мать с дочерью хлопочут в соседней комнате. Видел он отсюда еще и то, как, помогая матери раскладывать мамалыгу, хозяйская дочь украдкой расстреливает его взглядом.
«Чего все они так на меня уставились?» – подумал Жоржи и от неловкого своего положения почувствовал себя скверно.
– Такой хоро-оший, мама! – услышал он затем и шепоток из соседней комнаты и покраснел, поняв, что хозяйская дочь сказала это о нем…
Наконец, когда все уже было на столе, Ладо встал и спокойно, с достоинством хозяина, пояснил:
– Дорогие соседи, сегодня бог послал нам дорогого гостя, и мы не вправе не отметить это событие так, как это делали наши предки…
Витиеватость этой речи была налицо, но проголодавшиеся желудки да запахи на столе делали ее вполне приемлемой и ясной.
– Гость и бог, – сказал один из гостей и первый отщипнул от мамалыги, – равны на нашей земле! Так восславим же, товарищи, их! – Он обмакнул мамалыгу в сациви, проглотил первый кусок в честь гостя, второй – в честь господа и, поднимая полный бокал вина, встал.
За ним последовали остальные, славя гостя и бога, и осушили стакан за стаканом бело-розового вина целомудрия.
Застолье постепенно набирало силу, витиеватость – дух, а дух – материю. И вскоре, как водится, все превращения – силы, духа и материи – городили неразбериху, завязались ожесточенные споры. Сторонники силы методично и настойчиво ставили вопрос: что же все-таки происходит? Сторонники духа, напротив, – если что и происходит, значит, так оно и нужно. Третьи же – если так нужно, мол, то кому и в каком количестве?
– Убей меня бог, если я хоть что-нибудь смыслю!
– Какое тебе до этого дело!
– Я должен знать, что сколько весит и стоит!
Но вскоре все противоречия исчезли.
Закуска оказалась настолько вкусной, что гости, оставив все принципы в покое, разом умолкли, всецело отдаваясь нарастающему аппетиту, присутствие которого бывает так ценно в гостях.
Если аппетит, как говорится, приходит во время еды, то хорошим настроением мингрелец прежде всего обязан первому выпитому стакану доброго вина или же забрезжившему из-за гор солнцу, так как и вино, и солнце стремятся посвятить его в тайны своего зенита…
Как водится за столом, после первого штурма гости немного поостыли и начали подшучивать друг над другом и хохотать, хотя смешного рассказывали мало. (Но секрет вина как раз состоит в том, чтобы несмешное сделать смешным…) Затем, похвалив хозяина с хозяйкой, а вместе с ними и их дочь, они стали беспокойно ерзать на стульях в ожидании какой-то перемены. Тем более что радушие хозяина было полностью возмещено вниманием и добрыми пожеланиями… И теперь, когда пришло время наконец-то разобраться в происходящем здесь (одни считали, что идет помолвка, другие – более того – свадьба), гости, в меру своего понимания дела, решили спеть песню, соответствующую обряду. Тут и произошла неувязка, оказалось, что затянули разные песни. А поскольку так не могло продолжаться долго, загнали песни обратно в гортани и затеяли длинный спор, что именно сейчас надлежит петь за столом… Сторонники силы считали нужным спеть песню походно-боевую, сторонники духа – «Славь господа на небеси!», а сторонники материи – «Пребудет вечно земля наша!». Спор хоть и шел на очень высокой ноте, не привел ни одну из сторон к взаимопониманию и грозил перерасти в скандал. Но неожиданно на выручку застолью пришел сам виновник торжества, считая, что пора и ему внести свою лепту в общее дело.
– В моем гараже, – начал он медленно, но достаточно громко, чтобы всем было известно, что в «его гараже» завгаром – Сахокиа Георгий Иванович. Зато в парикмахерской, напротив того же гаража, парикмахер – Гохокиа Иван Георгиевич. Рассказывая о каждом из них, Жоржи называл и завгара, и парикмахера уважительно по отчеству.
– Хорошо, хорошо! – перебил его Ладо в нетерпении, не в силах выслушивать непоследовательный рассказ о каких-то совершенно не идущих к столу людях, и, подозвав к себе дочку, велел ей постелить гостю в маленькой комнате. – Приготовь и воду для ног! – сказал он в заключение.
Дочка, одетая по случаю высокого гостя в зеленое платье, – другое, наверное, ей не подошло бы, – быстро вышла в соседнюю комнату, объявляя матери, сидевшей у камина, «какой он хоро-оший», и принялась греть воду, предвкушая радость, что наконец пришел в их дом такой гость, которому она с удовольствием вымоет ноги.
И тут вот разошлись и соседи, и сразу же каждый из них затянул свою песню, стараясь перекричать другого.
Потревоженные ими собаки тоже мощно залаяли со всех концов, поднимая ночь на дыбы…
Поддерживаемый хозяином Жоржи был выведен во двор, где дул промозглый ветер с дождем, и оставлен на попечение громадного дуба…
Душа девушки, потревоженная ожиданием Жоржи, вспыхивала как ночной костер, раздуваемый ветром, и пылала пламенем высокого горения…
Возвратившись в комнату, где его ждала подогретая вода для мытья ног, Жоржи опустился на край постели и, морщась от электрического света, тут же уронил голову на подушку.
Вошедший за пьяным гостем хозяин подбросил в камин дрова, помог дочери разуть гостя и выключил свет.
– Мешает уснуть!.. Здесь достаточно светло от камина. – С этими словами он поцеловал дочь в темя, словно благословляя ее на женское причастие, и вышел вон.
Она с замиранием сердца слушала удаляющиеся шаги отца и дрожала от безысходной тоски разрывающейся жизни… Вскоре до нее долетела перебранка: мать протяжно и громко ругалась с отцом, но расслышать слов она не могла. Она ощущала клокотание негодующего сердца матери, и от смутного, но горького чувства у нее застывало дыхание…
Жоржи, обхватив руками плечи девушки, моющей ему ноги, бормотал свои пьяные признания, принимая ее за хорошенькую учительницу:
– Вот видишь, пьян… Ты не сердись! Я ведь хотел тобой переболеть! Глупый! Где еще такую я найду…
В соседней комнате все еще грозно шептались… Приглушенные голоса сердито бились в темноте ночи, но, смертельно устав, вдруг неожиданно потухли.
Горячо трещал камин, освещая комнату трепещущими бликами.
Жоржи надкусил плод и ушел в мерцающее тепло чужой жизни… А когда к нему возвратилось померкшее сознание, вместо своей хорошенькой учительницы он увидел рядом с собой хозяйскую дочь.
Жоржи встал в мрачном настроении и тут же, не дожидаясь помощи со стороны хозяина, от которого теперь ничего хорошего не ждал, бросился к машине и принялся перевязывать проволокой рессоры…
А в это время и в доме перевязывали узлы, но бельевой веревкой, готовя их в дорогу…
Когда Жоржи кое-как справился с рессорами и запустил мотор, перед ним возник хозяин.
Лицом он был добр и благожелателен:
– Что ж так рано-то? – И, не дожидаясь ответа, он повернулся к дому и крикнул: – Чего это вы там возитесь?!
Жоржи стало ясно, что его уже ничего не спасет, не спасет никакой мотор в жизни…
Через несколько минут с лестницы спустилась хозяйка, неся на подносе графин с чачей и легкую закуску.
«Благодарствую! – сказал мысленно Жоржи, видя безысходность своего нелепого положения. – Мы уже вдоволь и выпили и закусили! Извольте не беспокоиться!»
– Чего так рано! – сказала хозяйка, смущенно поздоровавшись с Жоржи. – Поставила варить мамалыгу. Может, подождете…
– Что вы, спасибо! – неожиданно для себя быстро пролепетал Жоржи. – Я и так злоупотребил вашим гостеприимством… – Однако рюмку пришлось одолеть и ждать своей дальнейшей участи, поскольку кругом был виноват.
– Насчет дров ты не беспокойся! – твердо заверил хозяин, как только хозяйка скрылась с подносом за дверью дома. – Я сам привезу! Не сомневайся! – И, задрав голову, озадаченно добавил: – Такой муравейник на небе, что не скоро все это кончится…
Жоржи тоже задрал голову, хотя несчастья он ждал здесь, на земле: несмотря на то что шел едва заметный дождь, все небо было обложено тучами и нигде признаков скорой перемены не наблюдалось.
– Ну и погода! – двусмысленно протянул Жоржи и сел в машину, тревожно косясь на дом. – Теперь никогда ее не будет!..
Хозяин, уловив в интонации Жоржи смертельную грусть, выдержал паузу и затем пояснил в своей излюбленной форме:
– Надкушенный плод – самому доедать! Иначе никто на него не позарится… глядишь, и пропадет! – Он тепло улыбнулся Жоржи, складывая губы ятаганом, и спросил: – Не так ли, парень, а? – И с этими словами сунул в кабину только что подошедшую дочь с узлами. – Ты не обижай ее… Будет тебе она и заботливой и верной женой. – И быстро пошел отворять ворота, у которых как память о неудаче были сложены в аккуратные штабеля дрова.
В дороге Жоржи молчал, глядя перед собой, и упорно не замечал свою спутницу, злился на мать, заставившую его выехать… Потом, вспомнив про свою учительницу, грустно улыбнулся: «Вот такие-то дела у нас, сударыня моя… учительница… Приятное воспоминание проносилось в голове, как далекий сон счастливого детства. – Переболел… дурак пеньковый. Теперь ребята засмеют, точно засмеют…» Он посмотрел направо и, встретив пронзительный взгляд своей спутницы, прищелкнул языком. Во взгляде девушки, полном благодарности, любви и преданности, сквозило материнское чутье, проснувшееся с первым опытом любви…
Жоржи остановил машину у своих ворот и в сердцах дал длинный сигнал, какой дают на мингрельских свадьбах перед воротами жениха, когда привозят невесту.
Соседи тут же высыпали на улицу, потревоженные таким сигналом, и застыли на месте, не зная, к добру или к худу то, что они видят.
Кузов машины был пуст, но зато в кабине, рядом с Жоржи, сидела большеглазая девушка с заостренными от страха чертами лица и боязливо озиралась по сторонам в ожидании близкой беды.
А беда уже приближалась к машине, не замечая того, что видят другие, и, сокрушая кулаками воздух, глядела на пустой кузов.
– Нет, вы посмотрите! Мой сыночек пожаловал! Глядите, матери дрова привез, чтобы он сгорел в костре и ветром его развеяло… Любуйтесь, люди, вот он, мой дорогой сыночек, чтобы глаза у него выкатились до следующего воскресенья… Как ты посмел, ирод, ехать с пустыми руками домой? Где дрова, сукин сын? Я спрашиваю или собака воздух травит, отвечай?! Он еще и выйти из этой рухляди не хочет! – Она подошла к кабине, отворила дверцу и дернула сына за рукав. – Скажи, ирод окаянный, как зиму зимовать надумал без огня! Расскажи соседям…
В это время соседи увидели, как с другой стороны кабины открылась дверца, из нее спрыгнула девушка и, раскланиваясь стоящим на улице, отчего те поспешно пустились бежать подальше от греха, направилась к матери Жоржи.
– Тише, мать! Ведь на улице стоим, – успокаивал ее Жоржи, глядя на приближающуюся к ним спутницу, которую еще не видела мать, и тихо добавил: – Пойдем в дом, там поговорим…
– Что мне улица, негодник! Я спрашиваю: где дрова? – не унималась глухая.
Тогда вышедший из себя Жоржи спрыгнул на землю и крикнул в сердцах:
– У меня есть дрова! – и кивнул в сторону уже подошедшей к ним девушки. – Вот дрова! Значит, будет и огонь, а ты как знаешь! – Он смачно сплюнул под ноги и твердой походкой пошел отворять ворота…
Москва,
1967
НА ЗАРЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ

Всей своей плотью и сердцем молодого существа я любил одну девушку по имени Джулия. Но ей не нужна была моя любовь.
Жила она в семи километрах от моей деревни в поселке нового типа – ни то ни се – в деревянном особнячке с ярко-красными ступеньками.
Жизнь в этом особнячке с резными лошадками на фронтоне, с матерью и бабушкой со стороны матери, протекала на виду у всего поселка и волновала кровь его жителей черной завистью.
Из приоткрытых дверей особнячка с охрипшей иглы патефона постоянно лилась лукавая мингрельская песня, сообщая соседям по небольшому поселку о благополучии и достатке.
Бабушка Джулии, миловидная старушка с голубыми глазами блудницы, сидя на крашеной ступеньке, целыми днями читала библию, шевелила помертвевшими губами и после каждой прочитанной страницы, вытянув тоненькую шею, вглядывалась в силуэт поселка, чтобы сравнить соответствие божьего слова с действительной жизнью, открывавшейся ее глазам. Сама в свое время изрядно погрешившая и застившая смерти глаза плодом девичьего греха – красивой дочерью, у которой теперь была своя дочь, появившаяся на свет аналогичным путем, вне брака, – она заранее знала, чем кончится судьба ее внучки Джулии, но, не веря в смысл чужого опыта, молчала. Убежденная в том, что результатом того или иного шага являются не столько внешняя сторона жизни, сколько заложенные в крови задатки, она время от времени, поднимая грустные глаза на Джулию, вздыхала:
– Каждого по жизни водит своя кровь! У каждого – своя ноша!
Произнося эти слова, которые я тогда приписывал влиянию Библии, а не опыту ее лет, старушка как бы выражала сожаление, что весь ее клан унаследовал этакую кровь… Боясь, что эти задатки, идущие издалека, могут втянуть в драматические события и постороннего, предостерегающе шептала:
– Не ходи сюда! Джулия бессердечная девушка!
Но в то время я был обворожен ее внучкой, белозубой хохотушкой, и поэтому предостережения старушки не могли остановить меня.
Обольстительная наружность Джулии сводила с ума не только моих сверстников по вечерней школе, где мы с ней и познакомились, но куда более искушенных и опытных по возрасту ребят.
Не скрывая своих намерений, все эти ребята увивались вокруг Джулии и, сладострастно пялясь на нее, со вздохом закатывали глаза, разгоняя по жилам знобящую мужскую похоть…
Придя в вечернюю школу в расчете на педагогическое снисхождение из-за некоторых предметов, туго дававшихся мне, я скоро понял, что участи быть причисленным к неуспевающим не избежать и здесь. Мой ум не был устроен для решения математических уравнений, для геометрического расчета и всевозможных периметров и параллелей. Теперь, лицом к лицу с теми же трудностями, что и в дневной школе, неприязнь к этим предметам усугублялась волнующим дыханием Джулии, сидевшей под боком на одной параллели.
Теряя на уроках всякое чувство времени, я по уши увязал в молитвенной красоте Джулии, время от времени вздрагивая от открывавшегося мне смысла о параллелях.
Чтобы изменить общеизвестную истину о них, я всячески старался перехлестнуть наши с Джулией судьбы и тем самым привнести нечто новое в геометрию.
Аккуратно покрывая семь километров в школу и чуть более обратно, так как доставлять Джулию в сохранности домой было моей первоочередной задачей, я не жалел ни сердца, ни ног. И продолжалось это на протяжении целого года, пока моя тщетная попытка внести поправку о параллелях не закончилась полной неудачей.
Следуя по пятам за Джулией ее собственной тенью, я купался в лучах девичьего магнетизма и был этим горд.
Встав на путь самостоятельности, я копил деньги. Работа колхозного библиотекаря давала мне небольшие авансы.
Библиотека, постоянными читателями которой были два человека – председатель и я, – давала помимо трудодней еще и моральное право думать о женитьбе.
С колокольни шестнадцати лет жгучая мечта о ней питала меня, и я креп душою и телом.
Провожая Джулию поздними вечерами из школы домой, я развлекал ее рассказами, заимствованными из прочитанных книг. Иногда, чтобы представить ей широту накопленных познаний, пел с глухого голоса песни римских центурионов. Но главным оружием в покорении Джулии я считал стихи, которые сочинял в соавторстве с самим председателем. Они, как правило, были на предмет неразделенной любви, и не все их строки принадлежали исключительно мне. Но Джулия, как хитрый и сильный зверь, знающий силу своего превосходства, не одергивала меня, а наоборот, вступая в своеобразную игру, подпускала на ту дистанцию, которая была еще более мучительной из-за следовавшего за нею табу…








