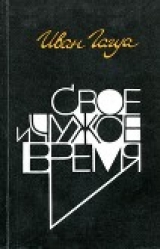
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Так вот…
Стояла эта девушка в тени того самого широколиственного авокадо в легком ситцевом платьице, из которого вылезали округлые плечи, и, вытянув вперед беленькое лицо, обсасывала сочащийся плод сладкого персика. Ее волосы, посветлевшие от густого солнечного света, перебирал порывистый ветерок.
Когда девушка, обсосав мякоть, решила запустить коричневой косточкой в сторону ежевичных кустов, она увидела моего старшего брата. Точнее, они увидели друг друга.
От такой неожиданности брат окаменел. А когда прошло оцепенение, он сунул револьвер в карман и открыл рот…
Но она, измерив его быстрым взглядом, повернулась и зашагала к дому, волнуя ситцевое платье.
Брат невольно последовал за ней. Из приоткрытого рта его сыпались раскаленные угли знойного сердца и обжигали девушку. Когда же она остановилась, он протянул к ней руку…
Опыт, приобретенный на кирпичном заводе, оказал ему услугу…
– Эльвира, – ответила она мягко.
И тогда брат, глядя на нее, совершенно ясно понял, что разлучить его с ней может только гроб, который с удовольствием сделал бы для него Габриэль.
С этого дня начались тайные встречи моего брата с Эльвирой. Но брату эти встречи казались недостаточными; ему не терпелось знать, как себя ведет и чувствует она в часы разлуки в габриэлевском доме. Подмывало любопытство подглядеть состояние ее души. Но фланировать мимо усадьбы гробовщика он стеснялся. К тому же его могли уличить в желании подглядывать за девушкой соседи. Да и много ли можно было увидеть при всем желании за разросшимися деревьями во дворе Габриэля?..
Я сидел на ветке высокой черешни, наблюдал, как томится мой старший брат, и тихонько прыскал, понимая истинную причину его томления. Мне с верхотуры черешневого дерева хорошо было видно все, что делалось там, во дворе Габриэля. Я ел черешню и упивался страданием брата, выплевывая коричневые косточки на благодатную почву в надежде, что когда-нибудь из них потянется на свет молодая поросль…
– Лови, – крикнул я брату сверху и, отломив веточку, усыпанную спелыми плодами, отвел в сторону руку в ожидании. В голове у меня зрел любопытный план.
Брат, стоявший в глубине двора и не знавший, что я сижу на дереве, вздрогнул от неожиданности, но потом лениво пошел под дерево и протянул руки:
– Бросай!
А когда он поймал веточку и принялся обрывать черешню, я удивленно воскликнул:
– Вот это да-аа!..
– Что? – спросил он заинтересованно.
Я нарочно молчал, внимательно уставясь во двор Габриэля, хотя во дворе никого не было.
– Что ты там видишь? – томясь ожиданием, не выдержал брат.
– Аэродромное поле, – не сразу и несколько уклончиво ответил я, еще больше интригуя брата.
– Прекрасно! – почему-то обрадовался брат. – А что ты видишь ближе?
– Тебя и Белку!
Брат мучился. Он не хотел унижаться до признания своей слабости передо мною. Поэтому, страдая, но в то же время как бы превращая свое страдание в шутку, спросил:
– Что там делает наш гробовщик?
– Гроб, – сказал я. – Его не видно… но зато вижу учительницу…
Это было то, чем можно было врачевать сердце моего старшего брата. Но я, не дожидаясь следующего вопроса, стал спускаться. Это была уловка, с помощью которой я собирался прибрать томящегося к рукам.
В тот же день брат разрешил мне поиграть с револьвером в саду. И вот с этого молчаливого соглашения сторон – ты мне, я тебе! – мы и стали честно выполнять наши обещания, насколько это было возможно в условиях подозрительности и недоверия.
Теперь, чуть ли не ежедневно загоняя меня на дерево, на котором уже давно кончилась черешня и с которого начали облетать листья, он требовал от меня информации о событиях во дворе Габриэля, где ничего особенного не происходило. Мои репортажи с высоты дерева больше походили на арии, распеваемые на подмостках театров, где драматические перипетии подчеркиваются песнопениями. Распевались они по принципу что вижу, то пою. Именно такой метод передачи реальных событий и устраивал моего брата. Отправной строкой к моим импровизациям (мне не оставалось ничего другого за отсутствием событий) были одни и те же припевы из мингрельской песни, что заранее предопределяло насмешливый настрой. И самое главное – они уводили от любой подозрительности. Благодаря этим припевам все это занятие приобретало характер озорства. И, чтобы окончательно уверить в этом возможных слушателей, я еще и подменял собственные имена местоимениями, что гарантировало безопасность моему брату.
Затея начиналась примерно так:
Дидоудо нанина, дидоудо нанииа…
Вижу: ходит там одна… нанаиа-нанина.
Чтобы придать некоторую правдоподобность моим репортажам, я включал в свои песни предметы домашнего обихода, иногда, за отсутствием творческой фантазии, мои песни опускались до грубейшего натурализма, что резало и оскорбляло слух моего старшего брата, охваченного нежным порывом умиления к предмету своего сердца…
Дидоудо нанина, дидоудо нанина…
Стоит с гробом наш сосед. Нанаиа-нанина.
Случалось и так, что мои наблюдения оказывались напрасными, а любопытство моего брата неудовлетворенным. В такие дни он ходил сумрачный и не разрешал играть с револьвером, хотя моей вины в том не было. И тут мне стало ясно, что честное выполнение нашего соглашения зависит от сторон. И если одна сторона пренебрегает им, то незачем из кожи лезть и другой… Залезая в очередной раз на дерево, чтобы гарантировать себе обещанную мзду, я начинал безбожно врать, подавая нужную для нежного сердца брата информацию, бодро и весело выкрикивая:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина…
Груши ест в саду она. Нанаиа-нанина…
Хотя Эльвиры и не было видно в саду Габриэля, но я продолжал, чтобы таким способом получить неустойку, которую не признавал брат:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина…
А теперь пошла к кустам… нанаиа-нанина…
Затем, сам того не замечая, я оказывался в плену собственного языка:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина…
Вижу, как в кустах: пи-пи… нанаиа-нанина…
Брат тут же прерывал мою песню и приказывал спуститься с дерева. И потом долго и нудно объяснял мне, что можно включать в свои песни и чего нельзя.
Я выслушивал его длинные нравоучения и пожимал плечами, говоря всем своим видом, что любое подсматривание, с какою бы целью оно ни велось, постыдно и чревато неожиданными последствиями.
Конечно, встреча с такой девушкой, какой Эльвира виделась моему брату, была большой для него удачей. Теперь, чтобы осуществить свою мечту, ему нужно было проделать всего-навсего несколько уверенных шагов в сторону гор и стать героем. Путь к Золотой Звезде лежал через перевал, откуда частенько докатывалась артиллерийская канонада.
И грош цена была бы моему брату, если б он отказался от высокой воинской чести даже во имя такой очаровательной особы, развлекаясь в саду Габриэля.
Однако будем последовательны.
Со дня состоявшегося знакомства мой старший брат не пропускал ни одного удобного случая, чтобы не завернуть в сад Габриэля. Здесь влюбленные грызли орехи, рвали сливы и, осторожно выбравшись из усадьбы, колхозными садами выходили к морю. На берегу они строили шалаш из ольховых веток и забирались в него, а отсидевшись там до наступления густых сумерек, пускались в обратный путь. И как ни старались пройти незамеченными, нет-нет да натыкались на группу по задержанию и разоружению диверсантов, которая почему-то неотступно поворачивала своих лошадей и следовала за ними. И было совершенно очевидно, что во всех этих действиях группы чувствовалась рука самого предводителя; желая вскружить голову девушке, он бросал ей ослепительную улыбку, порой довольно прозрачно намекая на то, что, мол, ежели приспичило влюбиться, не пора ли сделать выбор настоящего кавалера… Но ослепительную улыбку со всеми обольстительными оттенками девушка отвергала молчанием. А на нескромные вопросы относительно выбора кавалера отвечала приступом хохота, что само собой подтверждало всю нелепость этих вопросов. Затем, чтобы окончательно расстроить самонадеянного нахала, девушка вешалась на шею брата и осыпала его звонкими поцелуями. Оскорбленный в своих лучших чувствах предводитель, откашлявшись, круто разворачивал лошадь и временно отступал… временно, ибо он вскоре еще раз столкнулся с влюбленными и довольно убедительно продемонстрировал свое превосходство над братом, что в свою очередь подхлестнуло того пуститься в путь, который должен был завершить поединок с предводителем в его пользу.
Случилось это так.
За несколько дней до того, как открыться школе, мой старший брат с Эльвирой решили осмотреть ее, поскольку она должна была разместиться в бывшей птицеферме… Собственно говоря, школа-то у нас была, но в ней давно квартировала морская авиация. И птицеферма тоже была, но в ней уже не квартировала птица. И должно быть поэтому, в целях использования свободного помещения колхозные руководители пришли к выводу: открыть в ней школу, чтобы школьники могли получить возможность высиживать знания, как некогда здесь куры яйца. Имея за спиной длительный и вынужденный перерыв в учебе, мы нисколько не испытывали необходимости возобновлять ее. Но, к нашему несчастью, вышеупомянутая школа была найдена. Точнее, изыскано помещение под нее.
Стояла она на стыке двух деревень у безымянной речки.
Чтобы добраться до нее, нужно было прошагать через всю деревню, поднимая непрерывную цепь дворняжек, несших честную службу своим хозяевам.
Поэтому, избегая собак и встречных, брат с Эльвирой пошли к школе задами. Именно такой путь гарантировал безопасность нарушения издавна сложившейся традиции наших деревень.
В те времена не принято было парню с девушкой появляться на улицах вместе. И хотя этот закон остается в силе и сейчас, но молодым все же удается провести взрослых и влепить друг другу где-нибудь на табачном поле такой звонкий поцелуй, что, узнай об этом взрослые, наградили бы их за это не менее звонкими оплеухами.
Придя на бывшую птицеферму и будущую школу, где все еще стоял запах куриного помета и пыли, брат с Эльвирой, или моей будущей учительницей, как вам будет угодно, осмотрели помещение и вскорости вышли к речке. Простояв здесь до наступления темноты, они пошли улицей. И вдруг посреди дороги, когда до дому было рукой подать, перед ними выросла группа по задержанию и разоружению диверсантов.
Выстроенные в один четкий ряд лошади раскачивались под веселыми седоками, нетерпеливо хрумкая удилами.
Такая встреча не сулила ничего хорошего моему брату.
И он, сообразив это, смело пошел на сближение с неприятелем… Однако пройти сквозь конный ряд ему оказалось не под силу: лошади, учуяв недобрые намерения брата, свирепо преграждали путь.
– Довольно! – резко бросил брат конному оцеплению и крепко стиснул в своей руке руку Эльвиры.
Один из всадников засмеялся.
– Неужели, барышня, – продолжал смеявшийся, – вам так-таки никто не приглянулся из нашей группы? Может, есть среди нас такой счастливчик и он не знает об этом, а?..
– Довольно! – погрозил брат, но в этой угрозе было больше отчаяния и неуверенности, чем предупреждения пресечь злой замысел. – Что вы прицепились?.. – Это было совсем глупо. Потому что после этого он еще раз решил порвать оцепление. Но лошади сердито зафыркали на него.
– Неужели, милочка, – допытывался тот же всадник, – нет среди нас того счастливчика? Я имею в виду не этого мальчика, – указал он едва уловимым движением руки на брата.
Это уже было слишком. За такое следовало бы пустить этакому наглецу пулю в лоб. Но, к сожалению, револьвер моего старшего брата был пуст…
Предводитель, привстав в стременах, с высоты своего положения улыбался и правой рукой покручивал ус.
Во всяком случае, в такой ситуации он должен был держать левой поводья, а правой – покручивать ус.
– Хорошее оружие, парень, так же опасно, как и хорошая женщина! – сказал кто-то из всадников. – Поскольку и то, и другое способно поразить в самое сердце…
Тронутый таким тонким сравнением, предводитель поддержал сказавшего:
– Правильно, Гизо!
– Начальник, – не выдержал брат, – кончай этот глупый балаган, не то, клянусь богом, вышибу кому-нибудь мозги… – И, нащупывая в кармане револьвер без пули в стволе, подобный женщине, лишенной чести, побледнел от гнева и извлек его на свет.
В это время и прозвучала четкая команда предводителя:
– Задержать и разоружить!!!
Два проворных всадника из группы по задержанию и разоружению диверсантов моментально исполнили приказ начальника, показывая на деле навыки, приобретенные на ученьях.
Так был задержан и разоружен их первый диверсант в нашей деревне.
– Ну так как же, барышня, насчет того счастливчика? – хохотнул предводитель, пряча в карман кителя отобранный у брата револьвер и трогая лошадь.
Как потом выяснилось, в этих словах скрывалась та непоколебимая уверенность в победе, о которой не подозревал тогда мой старший брат.
Это было первое крупное поражение моего брата. Первое, но, естественно, не последнее.
В ночь перед открытием школы, гонимый чувством мести, мой старший брат сделал то, что он должен был сделать рано или поздно.
Вырвав из моей тетради, предназначенной для русского языка, лист, он нацарапал несколько слов карандашом и, сложив его треугольником, сунул мне под подушку, наказав завтра же вручить учительнице, когда она будет вести урок в нашем классе.
Видно, такое решение моего брата прежде всего было продиктовано желанием еще выше подняться в глазах любимой. И в то же время причинить ей боль неожиданностью решения. Боль должна была служить ей напоминанием о любви, о доблести, о чести…
И вот, не простившись ни со мной, ни с матерью, он вышел в глухую ночь и ушел добывать на поле брани воинскую честь.
После его ухода я долго ворочался в постели и не мог уснуть: мне чудились его уходящие шаги и долгие смачные поцелуи у ворот Габриэля. Потом все это сменилось тяжелым бегом лошади, отдаленным лаем собак и душераздирающим криком ночной птицы. И с грустью думалось о невозможности попасть на фронт и заставить страдать по себе учительницу, к которой я ревновал брата… И всякое такое, о чем не полагалось думать тогда мне по возрасту…
Утром, узнав о происшедшем, мать смахивала рукавом слезы.
А я, гордый за своего брата, вышел со двора и направился в школу, чтобы поразить неожиданным сообщением о брате мою учительницу.
Признаться, я не хотел, чтобы она больше думала о брате, чем обо мне. Записка лежала у меня в кармане. Я прочел ее. Она была совершенно неотразима своим содержанием и формой.
В ней говорилось что-то про любовь, что-то про единственную. И, кажется, еще про гробовую доску… А в конце было выведено – это извечная жажда всех влюбленных – «целую».
Я еще раз перечитал записку по дороге в школу и, довольный тем, что у брата хватило мужества сбежать на фронт в то время, когда некоторые мужчины нашей деревни поступали наоборот – бежали с фронта и потом моральную кривизну подпирали палками, – я вошел в класс. И здесь совершенно неожиданно пришло смелое решение – уничтожить записку. Вернее, переписать ее, а потом подписать своим именем и бежать вослед брату на фронт. Но тут я вспомнил, что в колхозе не осталось мало-мальски пригодной лошади, чтобы добраться до того места, откуда ухала артиллерия.
Пока я был занят этими размышлениями, ко мне подошла учительница и увидела в моей руке записку.
Мне ничего не оставалось, я протянул к ней руку с сочинением моего старшего брата.
Учительница, двигаясь между партами к своему столу, развернула лист и, шевеля губами, принялась читать…
Судя по тому, как она тут же села за стол, записка произвела сильное, как того желал мой брат, впечатление. Только большое усилие помогло учительнице сдержать подступившие слезы.
Спустя три месяца после этого тяжелого для нас испытания мы получили первое письмо от брата. В нем не упоминалось ни о битвах, ни о медалях и прочих делах. Было похоже, что он на своем подслеповатом уроде развозит то, за что не дают медалей или пока не дают. А к приходу второго письма положение моего брата пошатнулось и здесь…
Во-первых, группа по задержанию и разоружению диверсантов задержала колхозного сторожа, укравшего в ночное дежурство кукурузу из охраняемого амбара. Во-вторых, предводитель группы получил две какие-то награды, которые очень уж шли к его черным усам. Ну а в-третьих, он стал слишком часто появляться на противоположном берегу речки и с излишним любопытством смотреть в открытое окно нашего класса. Но самое позорное и непростительное в этой истории то (о, женское коварство!), что и моя учительница стала к нему проявлять интерес.
Однажды я уличил ее в измене.
Случилось это по прошествии всего лишь года с момента бегства брата на фронт.
Я сидел в классе и не мог дождаться, когда прозвучит звонок, чтобы пулей сигануть во двор и как следует отплеваться. Кислило во рту и слегка подташнивало. И вдруг я заметил, что на том берегу под кизиловым деревцем маячит знакомая фигура всадника. Он, как и прежде, интересовался нашим классом. Я встал из-за парты, не замеченный учительницей, подошел к окну и высунулся. Всадник продолжал стоять на виду и нахально таращиться на окно. Мне это не понравилось. И я показал ему рожки, на что он ослепительно улыбнулся, принимая это за игру. Я хотел показать еще и кукиш, но, узнав в нем предводителя группы по задержанию и разоружению, воздержался. Не знаю, видел ли он кулак… потому что моя учительница так быстро отстранила меня от окна и заняла мое место, что он мог и не заметить его. Зато я хорошо видел, как она любезничала с ним. А тот все посылал ей какие-то знаки. Она их повторяла, позабыв о том, что находится в окружении учеников. Вскоре все это кончилось тем, что она совсем бросила нас и через узенький мостик побежала к всаднику.
В это время, как грозное предупреждение, в горах ухнул тяжелый артиллерийский снаряд и так тряхнуло, что наша школа едва удержалась.
А учительница, широко раскинув руки, бежала, не чуя ног под собою.
Я отвернулся от такого зрелища. Это было слишком! Полное оскорбление семейной чести и, наконец, предательство… Нет, этого нельзя было оставлять так. Только лишь месть могла смыть пятно позора!
И я, мстя учительнице, перестал бывать на уроках, в чем вы можете легко убедиться теперь сами.
Что было дальше?
Лучше бы набрать в рот воды и молчать.
В начале сорок пятого, без всяких наград на груди, к моему великому разочарованию, вернулся мой старший брат с загипсованною рукою. Как выяснилось позже, это было даже не фронтовое ранение. Оказалось, что во время одного сложного перехода через перевал брат упал и разбил кисть правой руки. Теперь рука беспомощно висела как награда за нерасторопность и ничего хорошего не сулила.
Такого позорного исхода я не ожидал.
По всему было видно, что мой старший брат уже не может соперничать с предводителем. У того был бравый вид, резвая лошадь лучшей масти и пышные черные усы, к которым так шли две блестящие медали.
Но, должно быть, все влюбленные немножечко сумасшедшие!
Потому что, не принимая во внимание неотразимых преимуществ своего соперника, брат продолжал торчать на улице, стремясь любой ценой склонить мою учительницу на свою сторону. Иногда, чрезмерно усердствуя в своих стремлениях, он ставил себя в унизительное положение, что, честно говоря, бесило меня! Будь я на месте своего старшего брата, не раскисал бы так из-за девушки, предавшей жестоко… Но, видно, такова была участь моего брата. И он страдал, как последний слюнтяй!
Видя, что прогулки мимо габриэлевского двора не приносят ему желаемых результатов, он решил прибегнуть к хитрости… Вытащив со дна армейского вещмешка потрепанную гимнастерку, побывавшую во фронтовых переделках, брат надраил на ней пуговицы до золотого блеска и, прикрепив к левому карману чайную розу как свидетельство непреходящей любви, вышел. Упомянутая гимнастерка и чайная роза должны были выручить моего старшего брата. Выручить или погубить окончательно. И теперь он ждал удобного случая.
Вскоре такой случай ему представился.
Под вечер следующего дня брат навел блеск на сапоги, надел гимнастерку и вышел проводить меня на мельницу.
Я нес небольшой мешок кукурузы и насвистывал какую-то мелодию.
Мне хорошо было известно, что брат увязался проводить меня не потому, что очень соскучился по мельнице. Я-то знал, что он хочет поразить мою учительницу воинской доблестью и другими достоинствами.
Проходя мимо ворот Габриэля, я нарочно опустил мешок с кукурузой на край дороги и принялся его перевязывать, хотя он был отлично завязан.
А брат, делая вид, что вовсе не интересуется двором Габриэля, достал здоровой рукой армейский кисет и попросил свернуть цигарку. Однако, когда я протянул ему готовую цигарку, то заметил, что ему не раскурить ее. Он смотрел туда, где верхом на лошади посреди двора маячила моя учительница.
Ее плотно обтягивали кожаная куртка и синие брюки галифе.
Рядом с лошадью под лавровишней лежала черная дворняжка и нетерпеливо колотила хвостом о землю, время от времени радостно взвизгивая. Под зонтом крыши, на деревянной ступени, сидел предводитель группы и о чем-то говорил с Габриэлем. А Габриэль, заложив за спину костлявые руки, смеялся беззвучно, одними губами, стоя боком к собеседнику.
И тут, к своему удивлению, я увидел, что Габриэль в минуты душевного подъема благополучно выползал из сумрачного обличья гробовщика.
Брат, так и не раскурив цигарки, посмотрел на меня грустными глазами, словно желая спросить: не пора ли идти.
Лошадь, развернувшись к нам довольно непочтительно, крутила хвостом, как бы отгоняя непрошеных свидетелей чужого счастья…
Я поднял мешок и взвалил на плечи.
Брат бросил на землю нераскуренную цигарку и поник.
– Аллюр, Сатурн! – послышалась команда предводителя.
Но Сатурн, вытянув недоумевающую морду на своего хозяина, отрывисто всхрапывал, дробя копытами землю.
– Аллюр, Сатурн, аллюр! – настойчивее командовал мужской голос.
Наконец, повинуясь желанию хозяина, лошадь пошла описывать круг, высоко подбрасывая наездницу.
Мы молча переглянулись с братом и взяли курс на мельницу.
Лениво и грустно опадали потревоженные лепестки розы… А в глубине сада какая-то птица пела о любви, о доблести, о славе…
Москва,
1968
«МОДИСТКА»

В то лето нам с братом было по двенадцать, но из-за неимоверной худобы мы больше походили на восьмилетних, а может, и на еще меньших.
Распластавшись голыми костлявыми телами в тени умирающего инжира, мы убивали томительный голод и зной, ловя в безнадежно исчезнувшей прохладе остаток бодрящего дыхания.
Стонала и горела земля в ознобе засушливого лета. Дымилась и опадала вымершая трава, обнажая прах сухого песчаника с чахлыми фруктовыми деревьями на нем, питавшимися остатками младенческой влаги сморщенных завязей. Поднятые жестоким голодом люди, местные и пришлые, сновали по деревне в поисках пищи. Но деревня бедствовала и не могла прокормить их. Упала вода в колодцах; ее едва хватало для того, чтобы утолить жажду да сварить то жидкое варево, которое замешивалось изредка для откровенного обмана вспухающих животов.
Мы дремали с полуоткрытыми глазами, ощущая голыми телами едва уловимое дыхание моря, отчетливо сознавая, что все это не мучительный плод длительного полусна-полужизни, а самая что ни на есть лихорадящая явь. Чтобы не соприкасаться горячими телами друг с другом, мы лежали в разных концах тени и постоянно помнили об этом; полуспящие глаза регистрировали жизнь в нашем дворе и сами жили в этой работе, но не влияли на ее устои; задремавшего сознания хватало на то, чтобы мысленно делать работу, которую надлежало бы делать в обычных случаях, и тут же – снова впадать в обморочную невесомость. Душа легко и свободно витала над павшей в немощи плотью и хранила ее от случайностей лихолетия.
Трещала под нами земля, готовая рассыпаться в прах, обдавая дыханием смерти.
– Хозяин!
Глаза, подернутые полусном-полусмертью, смутно отметили у калитки высокого человека в длинной шинели, оперевшегося на костыль.
Наше сознание полетело к нему и померкло в пути.
– Хозяин! – Настойчивый, но вежливый окрик человека у калитки вновь вернул нам померкнувшее в пути сознание.
И мы, преодолевая слабость плоти, поднялись на ноги и поспешили к зовущему. Но и это оказалось лишь работой рассудка, а не физическим движением.
– Хозяин! – Магическая сила голоса подняла нас с земли. И, механически разглаживая на себе костлявыми пальцами вылинявшие трусики, мы пошли к калитке, опираясь раскаленными телами друг на друга.
Высокий человек в длинной шинели стоял у калитки, опершись на костыль, и внимательно разглядывал нас серыми водянистыми глазами. Когда наконец мы подошли на расстояние досягаемости слова, человек сказал что-то. Несмотря на чужеродность этих, никогда не слышанных слов, смысл их постепенно стал доходить до нашего сознания. Вернее, не смысл слов, а ощущение их смысла – тепло и надежность. Еще минута, и великая догадка, как разряд молнии, воплотилась во вспыхнувшем в нас слове.
– Модистка! – выдохнули мы с братом, ощущая значительный прилив сил.
Это волшебное слово – модистка! – в наших деревнях тех лет, стирая половые различия, объединяло всех, кто хотел и умел шить.
– Модистка! – воскликнули мы, узнавая приятный вкус этого слова из счастливого довоенного времени, так долго плутавшего по дорогам войны.
Через несколько минут к нам присоединилась и мать.
Изнуренная голодом и непосильным трудом, она едва носила себя. С ее бледного лица скорбно глядели черные глаза. Оглядев недоверчиво незнакомца, она тихо заговорила с нами.
Человек, внимательно слушавший ее грудное бормотание, не спускал с нее глаз, должно быть, по голосу определяя значение того или иного непонятного ему слова. Когда мать закончила с нами, она повернула голову к незнакомцу и спросила его:
– Чего вас надо?
Вопрос на ломаном русском оживил незнакомца.
Он выставил вперед костыль и принялся терпеливо и вежливо повторять те слова, которые были сказаны нам еще недавно.
– Модистка? – испуганно переспросила мать, прикрывая рот ладонью, словно боясь этого слова и запихивая его обратно.
Как всякая женщина тех лет, мать, знавшая цену вещам и питавшая к ним особую слабость, от невозможности подобного счастья всплеснула руками.
Обшивать деревню, пообносившуюся за долгие годы военных и послевоенных лихолетий, было в ту пору фантастической мечтой. И мечтать об этом могли только безумцы.
Мать разглядывала этого безумца откровенно и, тоже охваченная безумием, густо краснела.
– Модистка! – сказал человек, внося ясность в безумные глаза матери, поверившей в возможность такого счастья.
– Модистка! – прошептала мать и указательным и средним пальцами изобразила ножницы, словно режущие бахрому дорогого отреза. И, ничего никому не сказав, заспешила в дом и вскоре показалась вновь с отцом, бухающим по выжженному двору непослушным протезом.
Из разговора взрослых запомнились лишь: голод, засуха, смерть. Говорили в основном отец с матерью. «Модистка» же понимающе слушал их, глядя ясно и чисто, как утренний свет. Во всем облике этого человека жило неутраченное достоинство: он не унижал и не унижался до просьб.
– Живи! – сказал отец и открыл калитку.
И он вошел во двор с небольшим чемоданом и стал жить у нас.
Постель ему вынесли на веранду и постелили на деревянной тахте. Там же поставили стол. На стол – швейную машинку «Зингер». Затем все сбереженное добро вывалили на пол; армейскую шинель с отцовского плеча, испытавшую всю тяжесть керченской бойни. К шинели добавилось черное суконное пальто матери, как живое свидетельство молодости и силы. Теперь эти вещи, как их владельцы, были тусклы и ветхи, и казалось, никаким чудом не оживить их. Но «модистка» трогал эти вещи длинными исхудалыми пальцами, и вещи оживали, приобретая первозданный вид. Вывернутые наизнанку, а затем вычищенные тщательно щеткой и сшитые со вкусом, вещи веселили душу каждого, наблюдавшего за руками «модистки».
– Прекрасный материал! – хвалил «модистка», взяв в руки очередную старую вещь.
И мы с братом пороли эти «прекрасные» вещи, занимая сердце и ум работой и отодвигая засуху с ее невзгодами на задний план. Мы больше не валялись в тени, а крутились возле «модистки», учась у него гладить и наметывать заготовки. И вот первые радости – матросские брюки из перелицованного пальто матери. Они были сшиты по всем правилам: без ширинки, книзу клином, с пуговицами на боках.
«Модистка» постоянно хвалил нас за умение гладить свои вещи, за бережное отношение к ним. И в самом деле, наша одежда была всегда тщательно вычищена, проглажена. Нас никогда не покидало чувство новизны. Да, мы любили свои вещи, любили, как только любят то, с чем не расстаются даже во сне.
Обедали мы все вместе: «модистка» садился между мной и братом, а напротив нас – отец с матерью. Садились за стол торжественно и празднично, словно наш обед состоял из сплошных разносолов. Несмотря на неизменный суп из незрелых груш, варимых на разбавленном молоке, обед нам казался вкусным. Вылавливая вконец сморщенные в кипятке завязи, мы отправляли их в рот и потом долго и смачно жевали, словно довоенные вкусные куски жаркого.
Открытая веранда, на которой мы дружно обедали, хорошо просматривалась с улицы.
Вид благополучного семейства у военнопленных венгров, шатавшихся по деревне в поисках «уборки» – огурцов, – вызывал тихую зависть. Им было невдомек, что, съедая неизменный наш обед, мы одерживали победу над собственной судьбой, укрепляя дух, а стало быть, и тело. И хоть продолжалась беспощадная засуха, мы двигались, что-то делали.
Однажды, после долгих споров «за» и «нет», я был спущен в колодец для поиска водоносной жилы. По предположению «модистки», жила должна была проходить ниже. И я углублял колодец, выгребая из него сантиметр за сантиметром каменистый грунт. И вот под моими ступнями запела вода, журча и играя пузырьками. Она стремительно заполняла пустоту колодца живительной прохладой. Уровень воды рос с каждой минутой и покрывал уже колени…
Через полчаса мы всей семьей поили огород серебряно звенящей водой. На наших глазах скрученные листья ботвы начинали распрямляться и влажно шуметь. Вода в колодце резко падала, но тут же поднималась, давая возможность вечерами обносить ею и фруктовые деревья. После частых поливов огород наш красиво зазеленел; зацвела картошка, дали завязь огурцы и помидоры. И выхоженные общими усилиями овощи стали наливаться жизнью.
– Теперь скоро подоспеет картошка! – сообщил отец, проверяя мотыгой молодые клубни…
И действительно, спустя недельку мать варила в большом чугунке картошку. Разварив ее окончательно, она в это картофельное пюре нарезала молодого сыра и на шумящем огне перемешала всю эту массу, получая новое блюдо под громким названием – эларджи. И хотя этот эларджи не тянулся, как тянется приготовленный на кукурузной муке, но все же это было непередаваемо вкусно.








