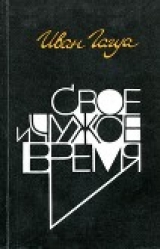
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Теперь Ивери белую корову мясники нашего рынка купили у меня но убивать дома я им не разрешил. Ее подняли на кузов и повезли а она все время оборачивалась и жалко мычала. Зачем же бог лишил ее языка. Тогда может быть она смогла бы нашим ветеринарам объяснить что и где болит.
Теперь Ивери мать говорит что если ты приедешь без жены домой не пустит. Она говорит в твоей глупости чужой человек не виноват. Не виноваты и другие жены если наши ребята потеряли свет в глазах. Так что приезжайте.
Теперь Ивери в Москве в протезном заводе говорят делают хорошие легкие протезы из слюды. Узнай все какие нужно иметь документы чтобы и мне разрешили взять такой протез. И еще не забудь про лезвия и очки. Насчет пенсии пока ничего не слышно. Говорят прибавление будет в тринадцатой пятилетке. Дай бог ворону дожить до тех лет!
Теперь Ивери из Ленинграда приезжала белолицая девушка и спрашивала тебя. Неделю жила у нас и во всем помогала матери. Даже научилась доить и сулугуни варить. Мать говорит какая хорошая девушка но мне она не понравилась потому что наравне со мной вино выпивает и все время говорит о тебе. А когда молодая и такая красивая девушка много говорит о мужчине с его родителями портится ее красота. Она оставила письмо говорит когда приедет Ивери скажите что я была и дайте это письмо.
Теперь Ивери Мина устроила стол своим райкомовским работникам. Приехали они на трех машинах с личными шоферами и много-много говорили о политике и хвалили хачапури и сыр сулугуни который мать для тебя сушила. Конечно они все очень умные люди но нам столько умных людей на такое маленькое количество дураков плохо что маленькому количеству приходится кормить большое количество. Когда я это сказал Мине она сказала что не удивится если меня когда-нибудь арестуют. А я ей говорю что я все равно что арестованный. Чтобы получить бесплатные путевки которые мне полагаются надо писать в Кремль. А там глядишь и Кремль откликнется даст указание райисполкому а райисполком местному Совету а местный Совет колхозу а колхоз депутату а депутат обратно местному Совету а местный Совет райисполкому а райисполком в Кремль что меры будут приняты в ближайшее время. А тут начался новый год и новая переписка. Я уже ничего не прошу только одно прошу чтобы молодые которые растут учились не только красиво говорить но и красиво работать и любить Родину не за стаканом вина а то заговоримся и забудем что у нас есть Родина за которую мы проливали кровь и ложились в землю и тогда на этой Родине вырастут большие болтуны пока мы будем слушать их. Успокойся папа советует Мина ты говорит живые клетки растрачиваешь а клетки не восстанавливаются береги мол их жизнь не укорачивай себе. А я на это скажу Ивери так. Наплевать я хотел на эти клетки если я еще при жизни на все глаза закрою чтобы жить как ворону долго. Если все молодые работники будут так рассуждать то мы не только коммунизм а такой какой пока есть социализм не сохраним на деле а только на бумаге. Эх сколько мы еще будем улыбаться друг другу Ивери и хвастать что обгоняем всех если еще стоим там откуда надо начинать путь.
Теперь Ивери я прощаюсь с тобой и говорю что старость грустная станция дальше которой начинается забвение. Эй гиди дуниа!
Пиши и Мину поругай за молодое хамство которому она сообща с другими научается.
Пишет твой отец сын Степана».
Поезд, раскачавшись, мчался во весь дух, стуча тяжелыми колесами на стыках рельс, неся свое разгоряченное дыхание вдаль, обогреть на какой-нибудь тихой станции заждавшихся ожиданием радости.
Выскочил я на безлюдном полустанке и пошел по гречишному полю, вдыхая лесную тишину предвечерья.
Идя к деревне, я устремлял взгляд к дальнему лесу, к его острым верхушкам, обжигаемым сейчас дыханием зари, темно рдеющим на огненно-красном горизонте.
Легкий душистый воздух с розовым отливом лился с ближнего мелколесья, просвечиваясь в листву и устремляясь к низким облакам у противоположной полосы горизонта, уже охваченного свечением угасающего дня.
Воронье отдельными большими стаями, снявшись бесшумно с полей, вновь падало на них, неся на своих крыльях иссиня-розовый цвет заката.
В отблесках зари пылали окна федюнинских изб, притихших в раздумье, и не позволяли проникнуть в себя взглядом.
Перед некоторыми из них сидели кроткие старики и подслеповато разглядывали окрестность, утопая в дыхании заката, переливающегося над головами.
Выйдя на улочку, я спустился к калитке и, толкнув ее, вошел во двор, где в конце его треугольника слышалось необычное оживление.
Дядя Ваня и Сергей Кононов, сидя на завалинке, весело переговаривались с молодым человеком. Пшеничные усы его, лихо подкрученные кверху на манер дерзостных моряков, являли собой презрение к собственной и чужой жизни перед смертельной атакой.
Незнакомец, засучив рукава серой рубашки, потрошил петуха. Золотистое оперение хвоста, загнутое серпом, дышало под рукой у незнакомца, напоминая жалкое подобие того, что еще два дня назад носило имя одного из цезарей Римской империи. Да, это был Октавиан… Один из самых коварных и хитрых петухов двора. Теперь наполовину ощипанный «император» был жалок, как все живое, застигнутое вероломством смерти. Вчерашний сластолюбец был принесен в жертву другому сластолюбцу. В общем, мне его было жаль.
Между тем незнакомец, увлеченный страстью гурмана, проворно работал пальцами обеих рук, продолжая разговор на той замедленной ноте, на какой поются северные медлительные песни, сходя к разговорности. Правда, то, о чем говорил незнакомец, не было бы песней, но сама манера говорить нараспев все же напоминала ее. – С Буя-то в аккурат и приехал, – говорил он, растягивая слова, как отварные макароны, перед тем как отправить их в рот. – Что, не знашь такого?
– Не знам! – отвечал Кононов, охваченный приступом веселья. – Откель мне знат, коли из Москвы уж сто лет не выезжам?
Собеседник, хмыкая, пояснил:
– Под Костромой-то в аккурат и будет…
– Большой? – интересовался дядя Ваня, моргая белыми ресницами, словно схлопывая с высоты лба снежинки.
– Поболее маленьких городов…
Тут я, стоявший обок, вступил в треугольник двора, и разговор на время прервался.
Дядя Ваня, не ждавший столь скорого моего возвращения, вопросительно поднял глаза с застывшими на них снежными хлопьями и замер изуродованной корягой.
– Не ждали?
Дядя Ваня протер глаза и улыбнулся:
– Отчего так скоро?
– В помощь вам! – ответил я, намекая на то, что будем перевозить пресс на новое место, да и самим надо определяться там же. – Вам одним-то не справиться!
– Не справиться! – поддакнул дядя Ваня и погас. – А куды Лешку дел?
– Договаривается с центурионами! – зачем-то сказал я в сердцах.
– А это что за собаки? – спросил дядя Ваня.
– Стерегущие дом… – объяснил я ему.
– Да ну вас… – обиделся дядя Ваня и умолк.
Незнакомец, держа в руке желудок Октавиана, набитый едой, с удивлением разглядывал меня, шевеля пшеничными усами, из-под которых угадывалась улыбка, вызванная моей принадлежностью к очень загадочному роду-племени.
– Джарбажанец? – осененный догадкой, наконец обнажил он мелкие зубки полевого грызуна и брызнул васильковыми глазами. – У нас под Буем джарбажанцы два коровника поставили… А в соседней деревне Чевилево грузинцы тоже ставют… Здорово ребята деньгу имают! – с каким-то восхищением и скорбью в голосе пропел буец.
– А что же вы не имаете? – так же весело спросил Кононов, подмигивая мне. – Что у вас, с мозгами, что ли, не в порядке?
– А-а, известно почему… с утра топор не держится, а к обеду не до него… А эти, что грузинцы, что джарбажанцы, чуть рассвело – топорами стучат… Те, что грузинцы, во, честное слово даю, еще и не светат, а бревна таскают, тешут и песни заводют. Слов-то в песне нету, а свирель распускают на разные голоса, да так каждый день до поздней зари… А те, что джарбажанцы, они, во, честное слово даю, как враз – сперва один, а потом и другие – завоют, будто звери плачут на панихиде да шаршавым языком раны зализыват…
– А как же ты джарбажанца от грузинцев отличить-то можешь, коли языка ихнего не знаш? – спросил Кононов, довольный откровением буйца.
– Грузинцы-то поповоротливее да поносастее… А у джарбажанцев носы валенками… И все одно – всех грачами зовут, потому как грач с весны налетат…
Когда разговор о «джарбажанцах» и «грузинцах» иссяк, незнакомец, показывая свою осведомленность, надрезал желудок Октавиана и концом ножа сбросил на землю зеленую массу.
Я обежал Стешин двор глазами и наткнулся взглядом в закутке на белую курицу с Тимошкой. Они, косясь на людей, боязливо жались друг к дружке, не подавая признаков жизни.
А за частоколом сидели настороже соседи и внимательно вслушивались, время от времени переговариваясь между собой.
Поздно вечером, в отсутствие Стеши, буец угощал нас Октавианом, приправляя сытный ужин своеобразным рассказом. А когда с ужином было покончено, буец уселся перед телевизором и стал дожидаться Стеши, но, так и не дождавшись, завалился на ее кровать и затренькал колокольцами, передавая свое нетерпение ночи.
Поближе к рассвету у калитки рявкнул и тут же унесся вдаль мотоцикл. А Стеша, прокрадываясь через нашу комнату, чтоб не потревожить спящих, пробралась к себе, после чего снова затренькали колокольца, мешаясь с сердитым перешептыванием.
Стараясь не привлечь нашего внимания, Стеша уговаривала ночного гостя выйти и лечь со всеми нами на той самой раскладушке, которая стояла, сложенная, у стены. Но попытки Стеши встречали веские аргументы в прошедшем времени: «Любила видь?» – «Любила, да теперь люблю другого! Как ты этого не поймешь?» Вскоре умерло шепотом и родилось ознобом осторожное, немилое, явленное понуждением чужой воли. Но умер и озноб, и родилось всхлипывание вперемешку со вздохами.
Утром Стеша прогнала буйца и увязла в продолжительном сне, время от времени тревожа облегченные колокольца.
Сразу после завтрака подъехала телега, и мы принялись за работу.
То, что еще недавно другая смена ставила ключом, мы разрушали кувалдой, чтобы демонтировать пресс.
Летели отбитые осколки бетона, рассыпая песчинки с быстро гаснувшими искрами. Но вот наконец мы запрокинули пресс на бочок, отволокли к крыльцу и уселись в ожидании Гришки Распутина. Но вместо него к нам явилась Лизавета Петровна в солнечных очках, прятавших за темными стеклами не менее темные полукружья под глазами. Она глянула на «кумпанию» и, ничего не сказав, ушла по направлению к магазину.
Дядя Ваня поморщился и сплюнул.
– Дерьмо! – сказал он, имея в виду Гришку Распутина, не явившегося к назначенному часу.
Кононов спустился с крыльца, бросив взгляд вослед Лизавете Петровне, тронул носком ботинка осоку, поднявшуюся на целый вершок у обочины тропы, и сверкнул золотом во рту.
– Скоро Гриша заявится, – сказал он.
Изувеченный дядя Митрий, куривший козью ножку, посмотрел сначала на одного, потом на другого и, вытянув изо рта чадящую махорку указательным и большим пальцами раздробленной кисти правой руки, лениво сплюнул с телеги, на которой все еще оставался сидеть.
– Дак, может, – сказал он, – на бревнах-то стащим ево в телегу…
– Ждем еще одного, – сказал вяло дядя Ваня безо всякой надежды в голосе.
– Коли так, сидеть – не стоять, – отозвался дядя Митрий, любимец Лизаветы Петровны, часто пользовавшейся его услугами, и снова, прибегая к помощи «клешни» на правой руке, ловко свернул другую козью ножку и зачадил без вкуса, из одной скуки, почесывая разлохматившиеся седые волосы из-под бескозырки, замурзанной и пришедшей в ветхость за долгие годы ношения…
– Воевал? – спросил дядя Ваня, заметив изуродованную кисть дяди Митрия.
– А как же, – ответил тот, почему-то сердито сплюнул в телегу, прямо под ноги, и часто-часто зачмокал губами, желая, видимо, что-то к сказанному добавить, но грустно подавив это желание.
– Вот он, гребет! – сказал Кононов и козырьком приложил ладонь ко лбу. – Со станции показался…
– Расшибут когда-нибудь башку, – покачал головой дядя Ваня, тоже спустился на землю и стал рядом с Кононовым, чтобы убедиться в том, что «гребущий» не кто иной, как сам Гришка Распутин, бедовый человек, несуразный подневольник срамных страстей в свои немолодые годы. – Он, – радостно протянул дядя Ваня, видимо изрядно заскучавший по нему в его отсутствие.
А Гришка Распутин, сам сильно томившийся по «кумпании», греб изо всех сил, улыбаясь широким лицом, словно прощая всем все и того же самого прося и у всех.
Подбежав к крыльцу, Гришка Распутин свалился на нижнюю ступень и устало выдохнул:
– С поезда спрыгнул! – Он показал движением правой руки, как кубарем летел под откос. – Чуть не убился. Слава богу, что на правый бок упал…
Немного поговорив, а за разговором переведя дух, Распутин встал и, показывая удаль русского человека, почти один с одной стороны взялся за пресс, который после недолгого кряхтения и отдышки погрузили на телегу. И нудно-скучно покуривавший дядя Митрий оживленно развернул хорошо ухоженных коней, шагом повел их мимо полустанка, а пройдя под железнодорожным полотном возле сухостоя на «другу» сторону, взял курс на хуторок, затерявшийся в урочище смешанного леса.
Держа «клешней» вожжи, дядя Митрий чмокал губами и подхлестывал лошадей под бока, чтобы они шли резвым шагом и не заглядывались на попадавшуюся им в пути сочную травку.
Мы, держась по бокам телеги и не отставая от нее, тоже старались идти споро. А чтобы дорогу сделать короче, дядя Ваня и Гришка Распутин заводили разговор с нашим возницей, так же как и мы, называя его «дядя Митрий».
– Дядя Митрий, – первым начал Гришка Распутин. – Сколь тебе годов, ежели не секрет?..
– Сколь есть, все мои! – отрезал дядя Митрий, невидяще взглядывая сбоку на Гришку Распутина. Затем, поразмышлявши с минуту, прибавил: – Девятый десяток разменял нонче…
Гришка Распутин присвистнул и, показывая нам глазами, что выведет старика на чистую воду, спросил:
– А как насчет энтого?
– А никак! – отрывисто выдохнул дядя Митрий почти весело и тут же пояснил: – Трижды на дню, а коли зимою, то чаще использую по другой надобности…
– Значит, нету надобности? – сказал Гришка Распутин.
– В мои-то лета энто только страм! – убежденно сказал дядя Митрий, а чтобы собеседнику стало известно, почему «страмно», добавил: – В старом теле более нету красоты… А на кой без телесной красоты энто нужно?
Телега съехала с накатанной дороги и пошла вдоль молодого осинника, переваливаясь с колеса на колесо на рытвинах и выбоинах бездорожья, нет-нет да давая лошадям возможность ухватить зубами молодую траву за челку и, перекатив через удила, проглотить ее.
– А ты тоже кричал, – вдруг ни с того ни с сего заговорил Кононов, когда лошади взяли вправо и пошли по обозначенной кем-то меже, вдоль которой стояли низкие столбики с цифрами. – Ты тоже, дядя Митрий, кричал: «За Родину, за Сталина»?..
Дядя Митрий, уже скручивавший очередную козью ножку, внимательно оглядел Кононова, а оглядев, ответил, не видя в вопросе ожидаемой насмешки:
– Каждый раз, когда поднимали в атаку! А как же?!
– Уважали?
– Уважали и любили! – ответил дядя Митрий и недоверчиво поглядел на Кононова. – А ты чего это все спрашиваешь?
– А другие-то как? – не унимался Кононов, желая во что бы то ни стало разговорить старого фронтовика. – А другие-то как, нравятся? – переспросил Кононов и, как бы предваряя ответ дяди Митрия улыбкой, взялся рукой за борт телеги.
Дядя Митрий, как видно тоже повеселевший от такого вопроса, нырнул «клешней» под серую застиранную рубаху с помятыми отворотами и почесался.
– А то как же! – сказал он и еще неистовее загреб под рубахой. – Что допрежь энтого был… – Дядя Митрий подтащил «клешню» к груди и провел слева направо до конца. – Весь украсился, дале уж хоть на то место цепляй… Бодряк – себе два, другим по одному… Другим два – себе четыре и про кажну награду книжку написал. Правда, сказывали люди, что писать не очень горазд… Больше по части поговорить. Тьфу, срамота! – вдруг выругался он, хлестнул сердито лошадей, но уже кнутом, со всего размаха. Лошади разом дернули и взяли с места галопом. – Кусай их всех комары…
Лошади пробежали метров двадцать и вновь перешли на шаг, словно чувствуя, что нам их не догнать, если не перейти на обычный ход.
Догнав-таки телегу, остаток пути мы шли молча, то выныривая на залитое солнцем поле, то снова уходя в глушь леса, где гулко потукивали дятлы. Но вот лес кончился, уступая место молодой поросли, перемешанной самой природой, чтоб не уставали глаза: то высветится молодая березка, как кисейная барышня, то застынет ель, как неприступный страж тишины и покоя, то затрепещет осинник, вызывая грибной дождь, и снова свет и тень, тень и свет, и вдруг на зеленом пригорке – черная изба, на другом – другая. Окна крест-накрест заколочены досками. Крыши покрыты зеленью, и труба вся в прозелени мха, поднявшегося на верхотуру.
Подъехав к первой избе, дядя Митрий остановил лошадей у подгнившего крыльца и сам спрыгнул с козел и стал разминаться, притоптывая вокруг лошадей, которые, тут же захрумкавши пенистыми удилами, недоверчиво косились крупными глазами на нас.
Дядя Ваня поднялся на крыльцо, походил, постукал по настилу протезом и, высказав опасение относительно того, что ему не выдержать этакой тяжести, пока не сменим подпорки и отдельные доски, приказал сгрузить пресс прямо на землю. Но Кононов, уважительно относившийся к технике, сперва настелил картон и лишь после этого дал согласие упокоить нашего «кормильца» на ложе. Однако упокоить его на облюбованном месте оказалось сложнее, чем погружать на телегу. Мы с трудом, чуть не разбив телегу, скатили, вернее, сбросили его, несмотря на все усилия Гришки Распутина…
Накрыв пресс клеенкой и забросав поверху ветками можжевельника, мы простились с дядей Митрием, пожелав ему дожить до более благополучного времени, чтоб не пришлось повторять излюбленное изречение – «кусай их комары» – с приходом новой смены… И тут же, как только лошади тронулись и исчезли из поля зрения, мы поднялись в избу, где в память о былой жизни стояли две железные кровати и большой стол, сколоченный, наверное, еще на заре нашего века из хорошо подогнанных друг другу досок. Стол теперь был черен и носил на себе следы кухонных ножей. Там, где когда-то стояла печь, теперь грудой валялись обломки кирпичей. Видно, чья-то рука расстаралась – унесла целые кирпичи и, захламив чужое гнездовье, вдобавок попыталась испакостить стены, исписав их словами, щедрому набору которых не перестаешь удивляться по всем широтам необъятной земли.
Отойдя чуть в сторону от стены, Кононов, кривя в улыбке рот, читал такие стихи:
Забирает наш колхоз
Даже бабушкин навоз,
А у бабушки нема
Больше этого назьма…
– Убрать! – сурово сказал дядя Ваня, когда Кононов закончил.
– Вот и убери! – осклабился Кононов и отошел к другой стене, на которой тучные пауки опутали всю притолоку, от угла до угла, сложными силками для лова «живности», чтобы питать свою жизнь чужой кровью.
– Убрать! – повторил дядя Ваня, но на сей раз самому себе и, взяв осколок стекла, принялся скоблить стену, строку за строкой убирая сочинение неизвестного автора, пожелавшего стяжать славу на литературном поприще, положа в основу своего «творчества» чувство отчаяния.
Место нашего предстоящего жительства напоминало нам более всего хорошо замаскированное жилье партизан, откуда отчаянными вылазками они наводили страх на противника.
Чтобы самим не запутаться в подходе к хутору, мы, покидая его, внимательно приглядывались к местности, дабы вернуться и довершить завтра порученное дело.
– Затащим как-нибудь, – мечтал дядя Ваня, думая о прессе, а там другая смена поставит его на бетон да получит матрасы и всякое барахло…
– Глухомань! – вставил Гришка Распутин после долгого раздумья. – Здесь и магазина нигде поблизости нету…
– И до Лизаветы далековато! – пояснил Кононов.
Гришка Распутин внимательно поглядел на Кононова, потом на дядю Ваню и с сожалением выдохнул:
– С Лизаветой баста! Побухтели, и ладно…
– Очки-то кто ей купил? – спросил Кононов и сделал попытку пошутить, но никто его в этом не поддержал, а вопрос сам собой и умер на губах, не успев родиться.
В избе нас встретил буец. Сидя у раскрытого окна, весело брызгаясь васильками глаз, он скоблил лицо. Заметив нас, в знак приветствия радостно замахал рукой.
– Как почивали? – спросил Кононов, окатывая довольное лицо гостя желтыми желчными пятнами глаз. – Комары небось закусали…
Гришка Распутин присел у другого окна, украдкой поглядывая на магазин, за открытой дверью которого, должно быть, косилась в его сторону и Лизавета…
– Что верно, то верно, больно уж кусат всю ночь! – отозвался буец и на всякий случай тоже улыбнулся.
– А Стеша где? – спросил дядя Ваня. – Обратно на работу утекла?
– На работу! – подтвердил гость и, соскоблив с щеки последний пушок, принялся за усы, приглаживая их ладонью и подрезая малюсенькими ножничками. Потом, когда усы приняли тот вид, который надлежало принять им после столь тщательной обработки, буец накинул на плечи полотенце и вышел во двор, сверкая белизной плоти, дышащей из-под майки.
– Третий день гостит, – заметил Кононов, после того как дверь за буйцем плотно закрылась. – Говорит, Колькин дружок, вместе, мол, служили. А навестить приехал его жену… да каждый день по петуху жрет! Тимошка теперь только ходит… – Кононов тихо рассмеялся. – Вот бы Лешка приехал…
– Может, и приедет, – зачем-то сказал я, обмирая от точившего меня подозрения.
Буец быстро оделся и вышел, а пришел поздно вечером с большой бутылкой «Пшеничной» и долго, балагуря на свой лад, угощал, пока мы сами не встали и не разошлись по кроватям.
Дядя Ваня проснулся рано, поднял и нас в дорогу, и мы, приноравливаясь к его спорому ходу, взяли курс к месту подпольной дислокации, где, по предположению бугра, наша оперативная группа могла решить большую народнохозяйственную программу во благо колхоза и вообще человечества, устремленного сквозь дебри к свету прогресса, волочащего за собой призрачные шансы ко всеобщему счастью…
Отмахав по росе около восьми километров и вымокнув по колена, мы наконец вышли к избе, перед которой горбился наш многострадальный пресс, являя собой вид свежей могилы, украшенной ветками остро пахнущего можжевельника. Чуть поодаль от пресса, откуда ни возьмись, угодливо заскулила черная собачонка и часто-часто завиляла хвостом, на всякий случай пятясь назад с поднятой кверху мордочкой в оскале мелких зубов.
– Приблудная, – сказал всезнающий Кононов и протянул к ней руку.
Собачонка заскулила еще тревожнее, не переставая пятиться куда-то за избу.
– Боится человека, – сказал дядя Ваня раздумчиво, – а без него не может… – И остановил Кононова: – Не трожь, пущай уж сам обвыкает…
Пока пса оставили обвыкаться с людьми и вообще с местностью, рассудительный Гришка Распутин свалил крыльцо, и теперь, прилаживая к порогу избы два бревна, мы разом впряглись в лямки, зацепленные за пресс, подтащили его к порогу и там, развернув боком, пропихнули в избу.
– Нехай! – облегченно вздохнул дядя Ваня и стал тереть повыше колена изуродованную ногу, скрипя металлическими зубами.
Гришка Распутин, по-своему расценив скрежет зубовный, вызвался на разведку для выявления магазина.
– Да нема тута никакого магазина! – сказал дядя Ваня с некоторой надеждой, полагаясь на упрямство Гришки Распутина, сохранявшего безошибочный нюх на водку и женщин.
– Такого не может быть, чтоб нигде здесь не было магазина! – со всем присущим ему упрямством сказал Гришка Распутин и, подставляя ладонь для сбора трешниц, хохотнул: – Нога-то твоя больше понимает, чем ты, Ваня, что надо человеку и чего ему не надо! Гони!..
И Гришка Распутин, поглядев на все четыре стороны и с минуту пораздумав, взял севернее от нашего хуторка и зашагал напролом через мелколесье на свою безошибочную разведку. Не прошло и двух часов, как он заявился на хутор, но уже с восточной стороны.
– Есть, ребята! – крикнул он еще издали и поднял над головой вещмешок.
Расстелив перед избой освободившуюся клеенку, мы тесным кольцом расселись на ней и не спеша, пока Гришка Распутин разливал водку по кружкам, принялись отщипывать по кусочку от подобия студня.
– Поросенковый? – спросил Кононов, проглотив отколупнутый ногтями кусочек и потянулся за новым.
– Поросячий, – поправил его Гришка Распутин, поднял свою кружку и радостно зажмурился, сшибая друг с дружкой густые сердитые брови.
Кононов отщипнул еще от студня и бросил собачонке.
– Где раздобыл эту рвотину? – с упреком сказал он и, отщипнув на сей раз большой кусок, еще раз бросил собачонке.
– В магазине! – пояснил Гришка Распутин. – Привезли только что. Народ хватать, говорит, колбаска «дяшевая»… Вот и взял «дяшевой».
– Собачья еда! – поставил Кононов точку и, видя, что никто есть «дяшевой» не хочет, отвалил весь кусок скулящей животине и, отерев о траву руки, принялся жевать хлеб. – Ты бы лучше пряников натаскал.
Выпили по второй, третья уже не полезла без запуски.
Кононов с удовольствием закурил и не спеша принялся укреплять гвоздями «подушки» в дальнем углу комнаты, прошивая насквозь замусоренный пол, чтобы взамен бетону установить на них пресс. Завершив нехитрое дело, один спустился в подпол и прямо под «подушками» подставил березовые подпорки.
– Будет тебе пуп рвать! – сказал Гришка Распутин, опробовав собственной тяжестью прочность подпорок. – Покрепче бетона, хоть начинай стучать. Пущай теперь сами маракуют.
Под «сами» Гришка Распутин имел в виду другую смену, которой после нашего затянувшегося отъезда предстояло явиться сюда отстукивать мелкие наконечники, звавшиеся в нашем обиходе мелочевкою.
Изделие оценивалось в какую-то десятую копейки, но зато «выплюнуть» его за день на автоматическом режиме пресса можно было великое множество, и копейки быстро вырастали в рублик, рубли в сотни, сотни же – в тысячи.
Возиться с мелочевкой, как правило, никто не желал, но, чтоб сбить в большом денежном выражении выгодные наконечники, некоторое количество этого изделия надлежало иметь в наличии.
К тому времени, когда мы заперли избу на собственные висячие замки, солнце вовсю занялось в своем хозяйстве, высвечивая потаенные уголки, и в воздухе разом запахло паленым.
Гришка Распутин собрал всю посуду – с водкою и без оной, поставил в вещмешок, на правах первопроходца вырвался вперед и пошел наобум-наугад, к якобы виденному им пруду.
Сейчас, когда мы оказались свободными от дальнейшей работы в цеху, перед тем как снова собраться здесь, если, не дай бог, ничего не случится такого, чтоб бежать восвояси, нам захотелось поплескаться в каком-нибудь копеечном пруду и, повалявшись до вечера, вернуться на Стешин двор. А на рассвете, уже, может быть навсегда, проститься с ее избой, с ней и со всем тем, что было связано с деревней.
Прошагав под скрип дяди Ваниного протеза несколько километров, мы и впрямь наткнулись на довольно чистенький пруд.
На низеньком его бережку сидели два бритоголовых мальца, очень похожие друг на друга упрямыми складками губ. С серьезностью заядлых рыболовов молча удили, пристально следя за поплавками. Над ними серыми тучками кружило и, видно, больно жалилось комарье, отчего ребятишки то и дело смачными шлепками прихлопывали кровожадных.
Гришка Распутин подобрался к ребятам и, заглянув в банки с уловом, похвалил их, на что рыболовы ответили молчанием, по-взрослому раздумчиво оглядывая непрошеную ораву.
– Купаться разрешаете? – спросил Кононов, в свою очередь заглядывая в банку, в которой лениво помахивали хвостиками рыбешки с мизинец.
– Н-не, – ответил один из них, подняв в детском гневе глаза на Кононова. – Вы, дяденьки, нам всю рыбку распугаете…
– Тогда пойдем на ту сторону. Согласны?
– Конечно! – покатили ребята радостные «о», словно тележное колесо на потеху улицы. – Пожалуйсто-оо…
Обогнув пруд, Гришка Распутин первым разделся и, прикрывая наготу широченными ладонями, по-бабьи боком пошел в воду.
Ребята, завидев раздетого донага Гришку Распутина, чье могучее тело на фоне леса как нельзя лучше выражало его стихийную природу, тихохонько похихикивали, стыдливо водя глазами.
А Гришка тем временем, разрывая гладь, ушел в воду. Вода расступилась, сломалась и зазвенела, сверкая на солнце светлыми капельками. А белое тело Гришки Распутина, распластавшись в воде, стремительно неслось к другому берегу, как магнитом ведя над собой и тучу комарья.
Повторяя Гришку Распутина, сунулись и мы в прохладу воды, разливая ее по коже. Вода, перекатываясь по телу, текла и пела, уводя нас все дальше и дальше, исторгая из глоток рокочущие звуки животного, ощутившего всем нутром полное согласие с матушкою-природой.
Замыкая наше шествие в пруд, отфыркиваясь, плыл дядя Ваня, суча лысой башкой и тоже, как другие, исторгая торжествующий хрип, отталкиваясь ступнею одной ноги и подгребая под себя еще крепкими руками волны.
Раззадоренные плеском воды и урчанием, мальчишки, побросав свои удочки на берегу, тоже кинулись с противоположного берега в воду в линялых трусиках и вскрикнули, завизжали, неся навстречу нам сонмы комарья, кинувшегося догонять их бритые головки.
– У-уух! – угрожающе и радостно взмывал над водной гладью Гришка Распутин, отрываясь в избытке сил от нее всей могучей плотью и снова шлепаясь с шумом, взмахом рук задевая плотную серую массу комарья. – У-уух, мать честная!.. У-уух, едрена перец!..
– Гришка! – радостно, сквозь юродивый смешок, сопел Кононов, вылезая по самую грудь из воды и высвечивая фиолетовую татуировку с изображением женской головки, стрел и чего-то еще, скрытого за рыжими волосами, плотно налипшими на молочно-белую кожу. – Гришка!.. – И, не находя нужного слова, вновь сквозь юродивый смешок сопел и разгонял руками живое темное облачко.
Удивленные поведением взрослых и тем, что они увидели на груди Кононова, мальчишки все ближе и ближе подплывали к нам, чтобы лучше разглядеть и нас и татуировку.
– Местные? – спросил Гришка Распутин, когда мальчишки приблизились. – Али нет?
– Н-не! – отозвались они и раскрыли рты. – К бабуле на каникулы приехали…
– Братаны, что ли? – спросил Гришка Распутин и длинной струей вышиб рукой воду на берег. – А где же дедушка?
– На фронте убило, – поспешил ответить один из мальчишек. – А мы – близнецы…
Гришка Распутин первым вышел из воды и, тем же, что давеча, библейским жестом прикрывши срам, пошел одеваться, а одевшись, крикнул с берега:
– Ваня, сам вылезешь или подсобить?
– Подсоби! – застенчиво отозвался дядя Ваня, крабом возившийся на самом берегу.
Гришка Распутин, еще не обутый, встал по щиколотки в воде и протянул руку дяде Ване, чем тот не преминул тут же воспользоваться.








