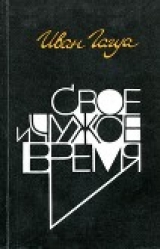
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
А где-то вдалеке, в глубине поверженного города, слышалась скорбная песня. Пел ее Андроник. Пел с такою силой скорби и одиночества, что всем слышавшим его сделалось не по себе, как от воя собаки на обезлюдевшей земле…
Дзаку медленно сошел с крыльца и, колотя себя в грудь открытой ладонью, пошел навстречу скорбному голосу…
Бабушара,
1986
ЦЕНА ОДНОГО УРОКА
Памяти Т. Расшивалиной

Сразу по окончании института, определившего мне в зыбком подклассе молодых литераторов профессию литературного работника, я со всех ног бросился штурмовать редакции журналов, начав с самых толстых и авторитетных. Однако пыл моих атак стал заметно угасать, когда выяснилось, что бастион приступом не взять, как не взять, впрочем, и легких башен заводских многотиражек, сотрудники коих насмерть удерживают свои позиции, некогда отвоеванные в жестоких боях.
Испытывая определенное тяготение к городу как к некоему огромному светящемуся шару, к которому очертя голову тянулось все мое поколение из окрестных деревень и окраин, я стал с некоторых пор подозревать в нем с подкожным страхом недавнего крестьянина хорошо скрытое коварство. А потому, стараясь уберечь свои крылья от возможных ожогов, дабы окончательно не утратить способность к полету, принялся осмотрительнее приглядываться к намеченным точкам соприкосновения с городом и, не найдя в них достаточной гарантии для своей безопасности, в отчаянии залег в своей комнате, чтобы заспать всякую надежду на обретение какой-либо литературной работы. Но, к моему удивлению, уже через день мне позвонили с Чистопрудного бульвара и пригласили на переговоры.
Звонивший Пашка Кобяков, мой давний приятель по рыбалке на Клязьме, и некто второй, в чьих силах было существенно изменить мою экономическую устойчивость, в один голос звали к себе, намекая на то, что характер предлагаемой работы требует «конфиденциальности». И хотя это труднопроизносимое слово резало слух, я спешно стал собираться.
Выйдя через несколько минут на Садовое, близ которого жил я тогда в большой коммунальной квартире, где ее жильцы в постоянных яростных ссорах жареную треску с винегретом круто приправляли желчью беспощадных ироний, я направился к остановке трамвая и вскоре стоял у подъезда мрачноватого дома с приземистым входом со двора, на детских крохотных площадках которого весело ржали словоохотливые дети, терзающие бесконечными вопросами сонных мам и бабушек.
Дверь в коридоре на первом этаже открыли мне сразу. Открыл Кобяков, так как второму, сидевшему в инвалидной коляске, это при его чрезмерной грузной комплекции было бы нелегко.
Пока хозяин квартиры весело разглядывал меня, в общем-то, грустными тяжкими глазами, откуда-то сбоку послышался шепоток, как позже выяснилось, литдевственниц.
Их тени мелькали по комнате, любопытствовали и, странно, таили робость.
В комнате тени обернулись небольшой группой девушек с тетрадочками в руках, должно быть, исписанными почерком их жаркого возраста, начисто отвергающего педантизм канонического стихосложения, стесняющего своими рамками бурлящие чувства.
– Поэт! – как бы из первых достоверных рук сообщил Пашка Кобяков, тряхнув желтыми кудерьками в мою сторону, и, как человек, доподлинно изучивший истинные размеры моих поэтических дарований, добавил: – Но пока его не печатают, поскольку идет с опережением графика…
Покуда Пашка Кобяков ваял из меня бронзовую фигуру, которой только и оставалось что взойти на пьедестал и застыть, девы легким наклоном головы воздали честь ее живому прообразу и слегка отступили назад, предоставив возможность приблизиться коляске и ее пассажиру ко мне. Когда же она приблизилась и ее пассажир протянул руку, Пашка подмигнул девушкам, давая им понять, что аудиенция у Семена Семеновича (так звали человека в коляске) окончена.
– Зайдите через неделю, – бросил Пашка одной из девушек, после чего вся стайка выпорхнула в переднюю. Лязгнула входная дверь, застучали каблучки, но уже по асфальту двора, и началась конфиденциальная беседа, суть которой сводилась к тому, что нужно начать сотрудничать с Семеном Семеновичем по рецензированию стихотворений, присылаемых по почте в газету всесоюзного значения, в которой работал какой-то покровитель Семена Семеновича. Сам Семен Семенович уже несколько лет сотрудничал в этой газете, принял на вооружение несколько расхожих ответов и отсылал авторов на выучку то к Маяковскому, то к Демьяну Бедному. Однако времена изменились, требования к рецензиям ощутимо повысились, и влиятельный покровитель Семена Семеновича известил своего литконсультанта, что необходимо найти какой-нибудь выход, если он и в дальнейшем дважды в месяц хочет расписываться в ведомости. Сообщение расстроило Семена Семеновича, и, обсудив за чаем ситуацию (мою и конечно же Семена Семеновича), мы пришли к согласию, что я буду писать на профессиональном, как полагали Пашка и Семен Семенович, уровне, а Семен Семенович – добывать то количество стихотворений, которое могло бы содержать вновь создаваемый концерн.
Спустя два дня, вооружившись всевозможными самописками и иронией жильца коммунальной квартиры, я встретился с Семеном Семеновичем в условленном месте на бульваре.
На бульваре было уютно.
Деревья, тронутые легким багрянцем и усыпанные сонно нахохлившимися воробьями, тихо покачивались на ветру, затененные со стороны близких домов и высвеченные солнечными лучами с другой.
После продолжительного безумства всеиспепеляющего июля середина августа несла живительную прохладу, меняя облик города и уступая место первым вкрадывающимся в пряди листвы сединам.
Устроившись напротив Семена Семеновича в конце скамьи, слегка пригреваемой солнцем, я просматривал богатую почту, извлекаемую моим сотоварищем из-под сиденья.
Ясное утро, мелькание фигур, воркотня голубей и грохот трамваев благотворно действовали на меня, и я, улыбаясь оплывшему лицу Семена Семеновича, внушавшему покой и доверие, изготовился для работы, подложив под лист бумаги один из номеров журнала «Москва».
«Уважаемый Н. П. Петров!
Мы очень внимательно (мы – это, стало быть, я, Семен Семенович и отчасти Пашка Кобяков) прочитали Ваши стихи. Прежде всего они подкупают своей искренностью и свежестью восприятия, да и тема показалась нам интересной. Но, к сожалению, в целом стихи требуют серьезной доработки. Мы специально подчеркиваем строки, которые, на наш взгляд, грешат неточностями. Просим также обратить внимание на глагольные рифмы, слабые и неуклюжие. Редакция желает Вам в дальнейшей работе успехов. С искренним уважением!
Литконсультант С. Воробьев».
– Кто у нас дальше на очереди? – сказал я, протягивая готовый ответ Семену Семеновичу.
Семен Семенович, удивленный скоростью, с какой я работаю, вчитавшись в лист, восхищенно хмыкнул:
– А не надо ему рекомендовать Маяковского?
– Дадим небольшой отгул! – сказал я с некоторой самонадеянностью, но, чтоб особенно не заноситься, добавил: – Отвлечемся и от Демьяна Бедного.
К обеду прибежал Пашка с Солянки, где он работал грузчиком в винно-водочном отделе гастронома, и принес большой пакет с горячими пирожками.
– Идет? – весело осклабился он от удовольствия быть причастным к такой работе.
– Идет! – гордо отозвался Семен Семенович и помахал кипой густо исписанных листов. – Гляди!..
Пирожки были горячие, и настроение у всех отличное.
– Когда все будет лады, – сказал Пашка, щурясь на Семена Семеновича, – надо будет отметить…
Но, как показало время, концерну не суждено было пить за здравие, потому что не далее как через месяц наш союз распался по вине покровителя Семена Семеновича, перешедшего на высокую партийную работу.
Я покружил еще некоторое время без дела, разлучившись с Семеном Семеновичем и предлагая свои услуги на товарных станциях, пока мне вновь не улыбнулась удача и не подвернулась работа в газете, правда, внештатная. Но и она вскоре ускользнула, и я оказался тем, кем был сразу по окончании института, то есть – гражданином СССР с конституционным правом на работу…
И вот потускнел здоровый румянец, с таким трудом нажитый сперва у Семена Семеновича, а затем на внештатной работе, и я снова залег в гнездовьях своей коммуналки.
Я глядел в крохотное оконце, выходившее по-над сквериком на Садовом, за которым начинался Строченовский переулок, и единственное, что поднимало мне дух, так это снование студентов института имени Плеханова.
Побыв несколько дней в безмятежном созерцании, я решил-таки посетить бюро трудоустройства, располагавшееся в здании райисполкома.
Мне не терпелось как можно скорее реализовать свои физические данные на каком-нибудь заводе или фабрике, сочетая личные интересы с общественными. Удалившись от своего крестьянского корня, я готов был восполнить еще более могучий рабочий, считая сочувствие двух этих классов друг другу продолжением их духовного родства.
Поднявшись на третий этаж исполкомовского здания и выстояв там свое право на прием, я прошел в кабинет, в конце которого в окружении ярких плакатов, призывающих к романтике дальних строек, за столом сидел белогривый мужчина с неприветливым выражением лица.
– Здравствуйте! – сказал я довольно учтиво, но выражая скептическое отношение к его занятиям по рекламированию.
Мужчина качнул седой головой и с враждебной недоверчивостью брызнул взглядом, излучая стужу январских метелей.
– Понимаете… – сказал я несколько вяло, сожалея о своем визите и догадываясь, что надо будет вывернуться наизнанку, чтобы вызвать доверие к тому, что я рассказываю. На сочувствие я уже не рассчитывал.
– Что у вас? – спросил тот резко чиновничьим голосом, отрезая всякую возможность откровенности. – На ударную стройку, что ли, просишься?
– Нет! Даже наоборот! – ощерился я и, чтоб не тянуть, выложил свои документы.
Он загреб их левой рукой и принялся ворошить, быстро пробегая записи.
– Откуда мигрировал?
Я промолчал, давая возможность самому разобраться в характере моей миграции.
– Прикидываешься этаким вежливым человечком?! Знаю я вас, слава богу, съел не одну собаку…
– Я не знаю, хорошо ли это… – сказал я, отгребая бумаги назад к себе.
– Что? – крикнул он. И тут приоткрылась дверь в кабинет, показав любопытствующих посетителей.
– Закройте! – прокричал кадровик пуще прежнего и, повернувшись ко мне, застрекотал по-домашнему: – Упакую! Отправлю! Я тебе покажу Москву! Я тебе дам красивых баб! – И, грохнув кулаком по столу, принялся куда-то звонить, пригвождая меня взглядом к месту. – Ведерников! Ты слышишь меня? Кто-кто?! Гурьянов – кто! Да проснись ты! Слушаешь? Ну ладно… Так вот… к тебе от меня придет человек – устрой его на тяжелую работу! Что? Нет, не верблюд! Никаких, понимаешь, «посмотрю»! Все, Ведерников… Сам все посмотришь…
– Спасибо! – зачем-то сказал я и поднялся.
Только что злое, холодное лицо потеплело, ледяные глаза оттаяли, – Гурьянов коротко посмотрел на меня и, ничего не отвечая на мое странное «спасибо», уткнулся глазами в стол.
Я вышел на мороз, пересек Валовую и дворами пошел, к заводу Орджоникидзе, разглядывая сквозь морозное небо подобие яичного желтка, размазанного по нему.
Ведерникова нашел я за стеклом отдела кадров.
Сидел он в ватнике меж двумя женщинами, мотая коротко стриженной головой, и вчитывался в бумаги сквозь тяжелые линзы очков, упавших на кончик закругленного носа.
Ведерников поднял голову, попросил меня подождать и подозвал человека лет пятидесяти. Тот был в спецовке, заметно нервничал.
– Дорохов! Ну как, одумался? – обиженно спрашивал Ведерников. – Не валяй дурака! Ты же лучший специалист на заводе! Подожди, Дорохов, не гони лошадей!
– При чем тут лошади?! – теперь в свою очередь обижался Дорохов. – Кончай, Игорь Павлович, уговаривать! Я тебе не пацан…
– А кто говорит, что ты пацан? Ты – лучший специалист завода! Где же, Дорохов, твой патриотизм? – наступал Ведерников, не веря своему голосу. – Ты, голубчик, завод и родной коллектив подводишь! Разве так можно?!
– При чем тут коллектив, завод? – парировал Дорохов, нервно вглядываясь в Ведерникова. – Война, слава богу, кончилась…
– При чем война?
– А при том, Игорь Павлович, что, можно сказать, в землянке живу! А у меня семья, дети уже взрослые… Из окна только ноги вижу! Может, мне уже пора людей в полный рост видеть! А говоришь, что я – лучший специалист… Не уважаете вы специалистов! Все уже квартиры получили…
– Эх, Дорохов, Дорохов! – устало выдохнул Ведерников. – Ничего-то ты не хочешь понять: где твое сознание?
Женщины, вслушиваясь в разговор, тихонько поглядывали на своего начальника, пытавшегося уговорить лучшего специалиста остаться на заводе.
– Ты же двадцать два года проработал… Неужели теперь завод оставишь… Бежать-то куда надумал?
– Туда, где жилье дадут!
– Эх, Дорохов, жилье не скворечник, быстро не построишь. – Ведерников умолк и, лениво поднеся руку к переносице, снял очки, отчего закругленный нос тут же сделался похожим на валенок. Затем, переглянувшись с женщинами, бесцветно проговорил: – Шут с тобой, Дорохов, валяй! Только не пожалей!
– Что жалеть-то, – обидчиво свесив нижнюю мясистую губу, проронил Дорохов с какою-то грустью.
– Зина, оформи Дорохову документы! – бросил Ведерников, принялся тереть ладонью лицо, но, тут же вспомнив обо мне, подозвал к стойке, уронил подбородок на выставленную ладонь и стал изучать очередного посетителя.
Ведерников, обладавший, наверное, в отличие от Дорохова, возможностью созерцать человека в его полный рост, хранил и представление, о мире куда объемней и шире и знал о нем много такого, чего не могли знать все взятые вместе Дороховы.
Я отвесил Ведерникову тихий поклон и пояснил, что направлен Гурьяновым для разрешения проблемы трудоустройства.
Ведерников нацепил очки, потом снова в каком-то раздражении отложил их подальше от себя и спросил мягко, без тени иронии или насмешки, но тогда этот вопрос прозвучал для меня обидным, и я не преминул ответить в духе той обиды.
– Откуда будешь-то? – спросил он тогда.
– Есть два предположения, – отвечал я, придавая себе вид историка-исследователя, – по одному мои предки начали свою родословную от шумеров, а по другому – от эфиопов…
– Стоп! – перебил меня Ведерников, учуяв в моих исторических экскурсах отклонение от курса. – Не надо шумеров и эфиопов! Я их не знаю, и они меня тоже! Я спрашиваю… Впрочем, уже не спрашиваю…
Во второй раз за день я разложил перед кадровиком бумаги, ощущая себя при этом как перед рентгеновской камерой, которой орудует женщина.
Ведерников нехотя нацепил очки, углубился в бумаги, а закончив, постучал костяшками пальцев по столику.
– Хоть прислал тебя сам Гурьянов, – сказал он, играя пальцами, – но взять на работу, голубчик, не могу! Нет пока такого закона! А как будет – милости просим! – Ведерников загнул указательный палец, объясняя причину отказа. – Во-вторых, образование – высшее, а во-первых – без пяти минут Гоголь! А Гоголи нам не нужны! Это опять же во-вторых…
– Во-вторых, – начал я, путая количественный отсчет, – почему вам Гоголи не нужны?
Ведерников стащил с носа очки, внимательно и устало уставился на меня и, что-то решив про себя, придвинул телефонный аппарат и стал звонить Гурьянову. Не дозвонившись, с облегчением выдохнул:
– Опять же во-вторых – хоть убей! – не могу тебя взять на работу: снесут на старости голову…
Так и не разобравшись, что «во-вторых», а что «во-первых», я покинул Ведерникова, застекленного в комнате с чужими трудовыми книжками и двумя женщинами по бокам, покружив по дворам, вышел на Валовую и по пути к себе столкнулся вдруг с Бенедиктом – поэтом и авантюристом, известным во всех молодежных газетах как стряпушник дежурных стихов.
Неожиданная встреча обрадовала меня, и я с радостью пошел на сближение.
Несмотря на шумный характер и еще кое-какие погрешности натуры Бенедикта, которыми он страдал с удовольствием для себя, мне было приятно повстречаться с ним снова после такой же встречи несколько месяцев тому назад у Елоховской церкви, когда он, поглядывая одним глазом на памятник молодому Бауману (таким, наверно, и был Николай Эрнестович в жизни), а другим на прогуливающуюся по скверу женщину, разыгрывал из себя приезжего ротозея.
Главным козырем Бенедикта, коим он поражал воображение «творческих личностей», среди которых толокся и я, было потенциальное его умение переводить с еврейского. Некоторые знатоки поговаривали, будто Бенедикт в своих переводах, пока еще немногочисленных, даже превосходит оригиналы. Но шли годы, и, хоть Бенедикт жил в ореоле своей эфемерной славы, потенциальные возможности все никак не воплощались в новые книги.
Высокорослый, красивый, с густо вьющейся шевелюрой, тронутой отдельными пучками седин, что еще больше красило его овальное лицо с лукаво поблескивающими карими глазами, Бенедикт был олицетворением демонической силы.
Жило демоническое существо, однако же, на Разгуляе, в деревянном ветхом домишке, в котором и родилось, и занимало теперь две комнатенки, оставшиеся от родителей с согласия ЖЭК, постоянно пользовавшейся его услугами в дни особых торжеств.
Бенедикт живее всех высмеивал свое ремесло и его результаты, развешанные по торцам и стенам стройплощадок. Но ремесло кормило его, и не так уж и дурно, коли не одно увеселительное заведение впускало его с многочисленными поклонницами его таланта.
Не касаясь великих планов на будущее, мы с Бенедиктом обменялись новостями, а затем, выдав друг другу по паре пошленьких анекдотцев, обратились к моим трудностям относительно работы.
– Ищу, старик, дела, но вот такие пироги… – Какие, я выложил в двух словах и замолк, рассчитывая если не на помощь, то хоть на сочувствие, которым, в общем, семью не накормишь…
Но Бенедикт был не тот человек, у которого можно было выпросить сочувствие.
– Замечательно, старик! – воскликнул он, выслушав меня и воспринимая весь рассказ как пойманный удачно сюжет. – Вот и опиши все как есть! Сюжет, как видишь, сам просится в руки… – Затем, дико осклабившись, раздумчиво посоветовал: – В общем, назовешь так: «Размышления молодого литератора из коммуналки…»
Бенедикт долго еще бормотал что-то пошленькое, но обижаться на него было немыслимо, он куда острее меня ощущал реальность, в которой как рыба в воде выбирал самые удобные заводи.
– Хочу работать! – с упрямством твердолобого повторил я.
– Ну что ж, – весело закатил глаза Бенедикт, – если ты непременно хочешь работать мускулами рук, то я могу пристроить тебя к моему дяде. – Он неожиданно рассмеялся. – Великолепный экземпляр… Впрочем, как и мои родители…
– Давай, старик, сосредоточимся на дяде. Он ведь жив и может помочь мне в делах!
Бенедикт оглядел меня с некоторым подозрением, как врач своего пациента, в котором углядел нездоровые симптомы.
– Зайдем-ка в аптеку!
В аптеке шагах в десяти от нас Бенедикт спросил Раю. Та вышла в наполовину расстегнутом белом халате и чепце. Он попросил у нее листок бумаги. Вышла Рая обратно, но уже в шубе и вязаной шапочке и протянула Бенедикту зеленый узкий листочек, больше похожий на игрушечный рушничок.
– Спасибо, – осклабился Бенедикт и, прося ее взглядом подождать, принялся что-то писать крупными буквами, обращаясь к своему дяде. Завершив записку крючковатою подписью, протянул ее мне и снова осклабился.
– Не забудь, старик, в своих рассказах упомянуть о моей шевелюре…
– Пошел ты к черту! – облегченно выдохнул я, приняв игрушечный рушничок, и вышел на улицу.
Забившись в угол между аптекой и гастрономом, я расправил записку и прочитал ее вслух, чеканя каждое слово, словно свиток был рассчитан на то, чтобы донести ее смысл до многолюдного схода.
«Дорогой Соломон Маркович! – читал я. – Очень, прошу Вас устроить моего давнего друга – молодого литератора – на мускульную работу в пределах подведомственной Вам конторы».
Внизу подпись Б. и далее синусоиды в полстроки.
Свернув послание в свиток, я отправился к Соломону Марковичу.
Контора, которой он руководил, затесалась в глухом дворе вблизи Ольховки, занимая деревянный домик с крыльцом, чудом уцелевший от сноса.
У входа и на крыльце, над которым наподобие мемориальной доски висела табличка «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», не то № 15, не то № 45, стояли люди в рабочих спецовках – теплых стеганых штанах и телогрейках – и курили.
Не испытывая особого интереса к неодушевленным предметам, я не стал особо вникать в табличку, а тем паче справляться у рабочих. Мне нужна была мускульная работа, а табличка такого характера должна была стать гарантом.
Поднявшись в помещение, за обитою дерматином дверью я нашел Соломона Марковича и, извлекши записку, протянул ему и приготовился к объяснениям. Но Соломон Маркович, прежде чем принять ее, синеглазо уставился на меня из-под припухших век и отчего-то неожиданно погрустнел.
– Звонил Бенедикт. Погляжу-ка, что он написал! Ну и ну, дважды жид… – И, пробежав написанное, отложил записку, прощупывая меня взглядом в упор: – Все сделаю для кутаисца… – добавил он и слабенько улыбнулся.
– Но ведь, – поспешил я с некоторой горечью в голосе, – я не из Кутаиси!
– Как? Бенедикт утверждал… – И слабая улыбка, обозначившаяся минуту назад на лице Соломона, холодно примерзла к губам.
– Нет, это ошибка! Я в глаза не видал Кутаиси! – искренне признавался я, сожалея, что родился не там.
– И ты не бывал в Кутаиси? – Соломон Маркович облизнул шершавые губы, отчего улыбка оттаяла, помогая ему выразить удивление тем, что я бросился на север, не побывав вблизи своего гнездовья на юге. – И ты не знаешь даже Михако Давиташвили, который на свадьбе Како Уча всадил семьдесят четыре пули в ночное небо, сидя в окружении приглашенных милиционеров?
– Не знаю, не слышал! – едва слышно пролепетал я, боясь оскорбить слух Соломона Марковича.
Соломон Маркович снова взял в руки записку, сбежавшуюся в свиток, перечитал, но уже повнимательнее, отпихнул в сторону и, нервно постучав по столу ногтем мизинца, удивленно взглянул на меня.
– Скажи, – загорелся вдруг он. – Про Нателу Мирнели тоже не слышал?!
Было ясно, что я не могу ответить ни на один вопрос экзаменатора и схлопочу, стало быть, неуд…
– И про Мирнели Нателу тоже… – сказал я невнятно, не очень стремясь быть услышанным.
Соломон Маркович устало крякнул, тяжко вздохнул, вкладывая во вздох великую досаду и грусть, и, тут же потеряв ко мне интерес, поморгал белесыми ресницами, словно желая освободиться от наваждения. Но уже через минуту-другую, беря себя в руки, бухнул кулаком в стенку сбоку, на что оттуда ответили тем же, свидетельствуя о том, что сигнал принят и надлежащая реакция последует.
Не заставив долго ждать, в дверях показалась женщина и с готовностью мягко уперлась взглядом в начальника, стараясь предупредить его желания и намерения.
– Капа! – пребывая в какой-то задумчивости, отрывисто выкрикнул Соломон Маркович, хотя та, кого он звал Капой, стояла перед ним. – Надо у нас вот этого устроить… – указал он на меня взглядом. – Правда, он почти академик, но ты сама уж сообрази, как это сделать…
Пока Капа жалостливо разглядывала новоиспеченного академика, соображая, как же его пристроить, Соломон Маркович, понизив голос до заговорщицкого шепотка, на короткое «понятно, Соломон Маркович» процедил:
– Отведи его к Сашке. Пусть обмундируется по всей форме и приступает к научной деятельности… – И тут же, перебрав что-то в уме, пригрозил кому-то пальцем: – И без всяких там штучек…
Прикрыв за собой дверь, мы с Капой покинули Соломона Марковича, затренькавшего параллельным телефоном, и пошли к Сашке.
Сидел Сашка, завобмундированием, в раздевалке в отороченном полушубке чуть не с женского плеча. С его женственного лица струился взгляд бездельника, не знающего, к чему приложить руки и мысли.
Обмундировавшись по-зимнему – в ватные штаны, телогрейку и валенки, униформу гегемона, на котором, как утверждают, покоится надежда человечества, – я вышел на крыльцо и, скрывая смущение, в ожидании команды присоединился к собратьям по труду.
«РЕМСТРОЙМОНТАЖ», как стало позже известно, не отвечал ни одной букве названия, поскольку ничего не ремонтировал и тем паче не монтировал, а катался из одного конца Москвы в противоположный, развозя неким организациям стройматериалы.
Трудно сказать, какую выгоду извлекала контора из своей деятельности, ничего решительно не производя. Но мы наспех грузили контейнеры линолеумом, мелким набором инструментов да громоздкими болванками, пригодными разве что на металлолом.
Новые впечатления и знакомства убеждали меня в том, что если когда-нибудь я засяду за стол, то смогу воспроизвести множество вещей и явлений, скрытых за шорами времени.
Правда, контора не всегда функционировала в одинаковом ритме. Выпадали дни, когда, с утра до ночи теснясь в раздевалке, мы неистово обкуривали друг друга, дурея от скабрезностей и пустословия. В такие дни, как повелось, Соломон Маркович, дождавшись конца рабочего дня, задерживал Сашку и меня, а остальных отпускал домой. И мы, зная, чем это вызвано, начищали ботинки и готовились в путь за продуктами на Ленинский, где в одном из гастрономов была директором жена Сашки.
Снабженные длинным перечнем того, что надлежало купить, мы бросались выполнять поручение Соломона Марковича, полагавшего, видимо, что он льстит нам своим непомерным доверием.
Держа большой черный баул, в далеком прошлом – портфель, давно утративший первоначальную форму, и поеживаясь от смущения, я забивался в дальний угол вагона метро, дожидаясь, когда Сашка снизойдет до разговора со мной. Но Сашка и не думал облегчать мне смущение. Он явно стыдился наших баулов, да и, по правде сказать, они были не бог весть каким обрамлением его холеному облику.
Проехав таким образом чуть не до дверей гастронома, у которых нас встретил смугловатый человек, оказавшийся заместителем Сашкиной половины, мы прошли с ним в кабинет и повалились на обшарпанный диван перед столом, за которым сидела полноватая женщина в норковой шапке.
– Что, Саш, утомил тебя Соломон Маркович?
– Ой, не представляешь как! – Сашка провел указательным пальцем чуть пониже подбородка.
Вскоре вошел и зам, остановивший на мне долгий грустный взгляд из-под сросшихся густых бровей.
– Аршак, поговори с земляком! – сказал Сашка и перевел взгляд на жену, поясняя ей, что в моем лице контора не далее как на прошлой неделе приобрела фартового мужика. – Ну чего вы, говорите на вашем соленом…
И хоть потом Сашка очаровательно улыбнулся по-девичьи полноватыми губами в ожидании соленого разговора, он его так и не дождался, поскольку мы с Аршаком Айковичем глазами выяснили нашу принадлежность к разным народам.
Угостившись в гастрономе на скорую руку стаканом водки под квашеную капусту, обратный путь с Сашкой мы провели в нарушение его стыдливой автономии, прогибаясь под тяжеловесными баулами.
– И сколько же они там жрут… – пожаловался Сашка, приближаясь к конторе, на крыльце которой дожидался нас Соломон Маркович в обществе бессловесной Капы. – На той неделе мы с Андреем Скрипником тащили…
– Семья, наверное, большая, – ответил я, ставя в десяти метрах от конторы свой баул на снег рядом с Сашкиным.
– В том-то и дело, что нет…
Скрипя по снегу, к нам подошли Соломон Маркович и Капа.
– Сашка, ты не забыл передать Анне Григорьевне привет? – поинтересовался Соломон Маркович, спокойно разглядывая баулы.
– Передал, – соврал Сашка и спрятал в воротник морозное лицо.
– Сашка, – опять заговорил, но уже просительным голосом Соломон Маркович, – сгоняй за такси… Ты же знаешь, где его можно поймать?
Минут через пять мы всей компанией ехали в такси, завернувшем к трем вокзалам, где Соломон Маркович удалил две единицы из числа пассажиров. Ими оказались Сашка и Капа. Первой вышла на привокзальную площадь Капа, чтоб добираться дальше на общественном транспорте. За ней Сашка, поджавший чуть обидчиво губы. Собрался выйти и я, поскольку мне было безразлично, с какого метро добираться домой. Признаться, я не горел желанием очутиться в квартире раньше, чем все поужинают и разбредутся по своим ульям.
– Сиди, – сказал Соломон Маркович, когда вслед за Сашкой дернулся в дверцу и я. – Поможешь поднять сумки…
У «Маяковской» мы выскочили на улицу Горького и, повернув направо, покатили в сторону Ленинградского проспекта. И тут чуть подвыпивший Соломон Маркович, словно бы ждавший этого рубежа, доверительным тоном заговорил со мной о Бенедикте, о дочери, побывавшей за ним замужем, но недолго.
– А я-то думал, – сказал я, – что он ваш племянник…
– Какой я ему дядя! – прокричал Соломон Маркович, но, тут же успокоившись, даже отчего-то повеселев, с чувством выдохнул: – Порох девка! А твой друг – дважды жид! – ушел от нее… Говорит, извини, папаша, но твоя Бася душу не греет, а у меня, говорит, представь себе, и душа, помимо прочего, есть…
В голосе Соломона Марковича с грустью за Басю уживалась и привязанность к бывшему зятю.
Проехав часовой завод, машина подрулила к подъезду.
Вывалившись с тяжелыми баулами из такси на заснеженную улицу, мы сунулись в тепло подъезда. Нас предупредительно встретила Бася в обольстительном платье малинового цвета, белозубо похохатывающая.
– Видела, видела, как вы подъехали! – сказала она, несколько раз кокетливо заглядывая нам по очереди в глаза. – А ты, папа, в подконьячном соусе, кажется… Но об этом никто никогда не узнает…
– Бакалавр искусств… действительный член-корреспондент… – частил счастливый Соломон Маркович, представляя меня дочке.
Бася вновь залилась белопенным бесшумным хохотом, мерцая крупными глазами уроженки знойных сторон.
Я глядел на нее и не мог понять, что же все-таки не устраивало в ней Бенедикта.
– А между прочим, – несколько осторожно проговорил Соломон Маркович, читая в моих глазах удивление, – твой друг – развратный субъект! Да-да! Не спорь со мной, Бася! – Хотя Бася и не собиралась с ним спорить. Она любила Бенедикта и таким развратным, о чем свидетельствовала фотография, исполненная в классическом стиле, сложившемся на заре фотодела. Фотография стояла в прихожей на краешке трельяжа.
После короткого замешательства в прихожей, связанного с баулами, Бася провела меня в комнату и усадила в кресло, указывая взглядом на рыбок в аквариуме, а сама вышла и засуетилась в кухне, рядом с которой в ванной жужжал электробритвою Соломон Маркович.
Никогда не разделявший страсти горожан к коллекционированию рыбок, я равнодушно поглядывал на столик с большим голубым аквариумом, в котором, лениво помахивая разноперыми плавниками, как светские дамы прошлого века веерами, замерла мелюзга, я грустил и сам, ограниченный узким пространством.
Но тут вошел в комнату Соломон Маркович в белой рубашке, посвежевший, сияющий от предвкушения застолья.
Между тем Бася проворно накрывала на стол, время от времени жалуясь нам на мать.








