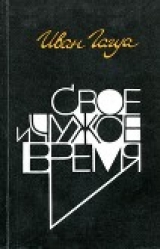
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Приблизившись к одинокой осине, под которой сквозь прошлогоднюю опаль пробивалась трава-мурава, сбросил с себя пиджак, упал на него и, обхватив колени руками, уставился вдаль.
Впереди, уходя по косогору вниз, до самого вздыбленного курчавящимся лесом горизонта, тянулась холмистая равнина, пряча между грядами холмов, поросших высокими ветлами, серую ленту реки, то и дело обрывавшейся на излучинах и затем вновь возникавшей у подножий деревенек с частыми ржавыми крышами, уходя несуразными изгибами все левее и левее, под самый высокий холм, на котором белела церковь, осеняя маковкой окрестность с ближними и дальними лесами.
Неугомонный балаболка теперь сидел смиренно, вглядывался в раскинувшиеся перед ним просторы и о чем-то тихо про себя думал, по-детски наморщив узенький лоб.
Прямо перед нами, внизу, в нескольких метрах, на ветке до одури трещала сорока, кланяясь на все четыре стороны, словно в неистовом раже предавая кого-то анафеме.
Широко раскинувшись в горячечном ознобе, шумел осиновый дождь, обвевая прохладой.
Знобило и меня от невысказанности и тянуло к бумаге и одиночеству, тянуло размотать пройденные дороги, чтоб, обмакнув слова в память воскресить чувства в сознании…
К вечеру, уступая голоду и усталости, мы побрели обратно в свое неспокойное жилище.
В свете электрической лампы, в соседстве дяди Вани и Стеши, Лешка окроплял чеканку ознобом купели.
Стеша, заключенная в овальное обрамление, была несколько незнакомая, хоть и не утрачивала сходства с натурой.
Она представала с портрета, какою, может быть, открывалась только Лешке или ж стала такою благодаря ему. Но от всей обнаженности Стешиного лица веяло остраненностью Лешки, предусмотрительно определившего ей место по другую сторону своей жизни.
Кононов, углядевший в портрете что-то неладное, брякнул:
– Похожа на вдову при живом муже!
И дядя Ваня, сидевший справа от Лешки, тоже заглянул через плечо на изображение Стеши и, не найдя в нем никаких признаков вдовства, кроме обычной женской грусти по лучшей доле, горячо сказал, возвращаясь к своему тайному раздумью по раскладке полученных денег:
– Хорошая!
И Стеша, не давая более толковать об изображении, вырвала его из рук Лешки и, обтирая поверхность рукавом, отнесла к себе в комнату.
– Хорошая! – подтвердил и я, хотя моя оценка теперь уже была неуместной, и осуждающе взглянул на Лешку, испытывая к нему глухую неприязнь.
Дядя Ваня, нашедший в математической раскладке зияющую дыру, застонал:
– Серега, остается только четыреста десять рублей… Фросе я обещал привезти шестьсот…
– Отвези – в чем же дело? – насмешливо откликнулся Кононов, догадавшись о причине дяди Ваниной тревоги. – У тебя ведь больше штуки!
– Было, да роздал долги; тебе, считай, два ста… Лизавете Петровне – полтораста с гаком… А в Москве у свояка эти три месяца тоже триста… да по мелочам еще сотня… – Дядя Ваня судорожно обшарил карманы, нашел в одном припрятанные от жены деньги, обильно вспотел, виновато улыбаясь: – Запамятовал, Серега! Считаю, считаю, да все недостает…
– Вань, иди спать! – сказал Кононов раздраженно.
– Сейчас пойду. – Дядя Ваня послушно встал и, направляясь к себе, обернулся: – Утром рано машина будет. Мобут, я просплю, чевой-то в грудях ломит. Поедете двоем… А ты, Серега, с нами останешься…
Кононов взглядом проводил дядю Ваню за порог и тяжело вздохнул.
– Замучил… Небось завтра опять начнет считать…
– А ты не злись, – сказала Стеша. – Еще неизвестно, каким ты будешь в старости…
На рассвете, после тяжелых сновидений, я проснулся от частого сердцебиения и присел на постель упорядочить явленные сном цветные куски, но, поняв, что из обрывков не сложить всю картину, выглянул в окно, поднялся и оделся. Вот-вот подъедет машина для отправки готовой продукции в Москву на один из заводов, где после гальваники развезут ее по заказчикам.
Выйдя во двор, я дважды бухнул кулаком по бревенчатой стенке, за которой все еще продолжали дрыхнуть. А когда возле полустанка, на переезде, застрекотал мотор машины, крикнул Лешку, направляясь в цех, растворил настежь дверь, чтобы видна была шоферу.
Через несколько минут к крыльцу подкатила крытая брезентом машина, засигналила непрерывно, после чего молодой парнишка с огненно-рыжим чубом в легких завитушках выключил мотор и вышел из кабины, брызгаясь частыми конопушками, уставясь счастливыми зелеными глазами на меня.
– Первый раз в Москву, – сказал он с волнением в горле и полез в карман за сигаретами. Закурив, жадно затянулся сизым дымком. – Ты один поедешь?
Не разделяя радости молодого шофера, я принялся выволакивать ящики на крыльцо, ожидая, когда подоспеет на помощь Лешка. Откуда ни возьмись в дверях вырос Гришка Распутин. Виновато улыбаясь, поздоровался. Опустив борт машины, взялся за поручни самодельного ящика и помог втащить его в кузов.
– Слышь, Гуга… – Он тронул меня за рукав и остановил перед очередным ящиком. – Подбросьте Дусю… Она нездорова…
Подоспел и Лешка и без лишних слов сменил Гришку Распутина, глядевшего куда-то за крыльцо мастерской.
Быстро загрузив машину и закрепив борт, мы с Лешкой полезли в кузов. Хлопнула дверца, потом другая, и Гришка Распутин, стоя сбоку, с облегчением пробасил:
– Ехай!
Машина вздрогнула и, натужно урча, выбралась на дорогу. Выкатившись на асфальт, зашуршала шинами, время от времени смачно причмокивая.
Из-под кузова разматывалась чуть увлажненная дорога, убегая темными горбами к горизонту, и сразу по обеим сторонам замелькали лужайки и приткнувшиеся к ним потемневшие срубы, слегка покачнувшиеся на бочок. Потом избы сменились кирпичными поселками, поселки – районными центрами с потускневшими куполами полуобрушенных церквей на холмах, чтоб отовсюду было их видно, с улетевшими в синеву неба крестами. И снова открытые поля, и дальние курящиеся на солнце леса, и ленивое кружение воронья, особенно над высокими купами погостов, уставленных железными крестами и неживыми венками из жести.
Порой перед какой-нибудь избой на завалинке возникала скомканная фигура старухи, подслеповато вглядывающейся в дорогу, не видящей и не слышащей никакой жизни, кроме той, что еще тлела в ней самой вялым усилением памяти.
И было грустно от вида угасающих жизней, когда-то горевших жарким огнем силы и красоты. Теперь одинокие фигуры у поизносившихся изб рождали чувство вселенского сиротства и отрешения. С кем им общаться, как не с самими собой, если жизнь осталась за чертою ушедшего времени, если близкие и родные, разорвав и это время, и пространство, отделились во имя великих свершений? И глядят ничего не видящие и не слышащие мертвецы едва живым грустным взглядом на тихую, недалекую обитель…
«Господи, пощади и обласкай их последние дни ласкою близких!» – повторял я про себя, уходя в свою боль, рожденную дорожными размышлениями. А машина, выплевывая ленту дороги, гнала назад дорожные столбы, избы и жалкие фигуры одиноких старух навстречу ветру и вливалась в поток армады своих сородичей, понукаемых нуждами времени.
На развилке дорог машина неожиданно затормозила, подалась к обочине и, выпустив из кабины Дусю, промелькнувшую перед нами в траурном черном платке, рванула вперед.
По тому, как сутулилась и шла, не поднимая головы, Дуся, было видно, что Федюнино далось ей непросто. От ее раздавленного поникшего облика веяло унижением и запоздалым раскаянием.
На Большой Черкизовской я подошел к шоферу, и мы покатили к заводу, то и дело уточняя у прохожих дорогу. А когда каким-то чудом все-таки вышли к стенам завода, где перед проходной стоял в сером костюме бугор с каким-то крюкастым человечишком, едва достававшим ему до плеча, с облегчением вздохнули.
Неотступно следуя за бугром и держа на паху крюкастые, как у обезьяны, руки, человечишко шел как-то боком и вызывал брезгливое чувство, усугублявшееся еще и тем, что из широких пропастей носа вылезали дремучие черно-рыжие волосы и скрещивались, вызывая в памяти паука, захватившего добычу, если таковым можно было считать конец туповатого носа.
– Тишка, – сказал бугор бесцветным голосом, обернувшись почему-то к своему бедру, – прыгай в кузов!
Я вышел из машины и встал рядом с бугром, желая поглядеть, как этот Тишка будет прыгать.
Тишка метнулся к кузову укороченной тенью и подпрыгнул. Подпрыгнув, накинул крюки на борт, с ловкостью зверька взобрался наверх и оттуда, с высоты, ухмыльнулся ржавым оскалом.
И тут шофер, вгрызавшийся в свои кудерьки металлическою расческой, получил команду «пошел!».
Оставшись наедине с бугром, я пожаловался на длительность нашей «командировки».
– Сколько же нам все-таки там торчать? – спросил я. – Смену свою отбарабанили…
Бугор походил взад-вперед и, глубоко задумавшись над трудным вопросом, выдавил из себя наконец:
– За установку пресса выпишу по сто на каждого!
Так и сказал: «На каждого».
Выгрузив из машины продукцию с Тишкой, к нам подошел Лешка, дожидаясь команды. Команда тут же явилась.
– Обменяйтесь адресами и телефонами и ждите… – сказал бугор и внимательно посмотрел на Лешку. Понижая голос, чтобы не подслушали посторонние уши, добавил: – На время закрываемся. Звонил знакомому преду колхоза… Думаю, под Казань скоро поедем…
Лешка, переминаясь с ноги на ногу, слушал бугра и не выказывал недоверия к его словам. Но когда тот закончил свое сообщение, спросил:
– А как же я узнаю?
– Гуга с тобой свяжется! – ответил бугор, довольный тем, что смог уверить Лешку в своей версии относительно закрытия и перспективы. – Ступайте теперь да связь держите друг с другом. А я с Тишкой улажу с продукцией…
– Итак, до скорого! – сказал я и перевернул руку вверх ладонью.
Бугор тут же ответил легким касанием своей, что, по суеверному обычаю, должно было оградить нас от всевозможных напастей…
Простившись с бугром, мы с Лешкой молча вышли к станции метро и разъехались в разные стороны, обменявшись телефонами, а через полчаса я уже был у своего дома, утопавшего в приторно-шоколадном духе «Рот фронта».
Мимо меня сновали знакомые лица. В крохотном дворе малышня возилась в песочнице.
Прощупав все глазами давнего обитателя этого микромира, удостоверившись, что дух прежней жизни еще не выветрился, я нырнул в подъезд и поднялся в свою густонаселенную квартиру, вмещавшую пять семей и имевшую такое же количество комнат-дверей. Уже слышалось шарканье ног, перемещение из личных «гробниц» с высоченными потолками в кухню, где каждая семья обладала одинаковым столиком и навесной полкой из ДСП, с просветом, предусмотренным для четкого обозначения границ между республиками-семьями, загнанными давней нуждой на крохотную субстанцию, именуемую коммуналкой, в коей, гукая, сморкаясь, притирались и не могли притереться друг к другу ее жильцы.
Противник всякого рода стереотипов, обезличивающих индивидуальность, я, не заглядывая в кухню, прошел прямо в свое обиталище в форме трапеции и повалился на кровать.
Аккуратно прибранная «гробница» встретила меня родным запахом моей державы, именовавшейся соседями в мирные дни страной ЛИМОНИЕЙ, а в дни жестоких «боев» – страной БЕЗЗАКОНИЕЙ.
Сейчас в державе было пустынно. На тумбочке знаком этой пустынности белела записка, гласившая, что сочинитель ее пребывает по прежнему адресу в больнице, кирпичном здании среди тополей на Стромынке.
Скинув обувь, я уткнулся лицом в подушку, тут же заснул и проснулся от подступившего голода. А через несколько минут кто-то робко постучался в дверь.
– Войдите, – сказал я, опуская ноги на пол, и опешил. Передо мной стоял и внимательно меня изучал водянистыми глазами из-под кустистых бровей отставной генерал. Соседская девочка с любопытством разглядывала снизу вверх незнакомца, искавшего встречи со мной.
– Вы будете Ивери? – по-армейски четко спросил он, не решаясь входить, бросил взгляд на оконце, похожее на толстенную амбразуру дота, и, прикидывая его ограниченный обзор, решительно добавил: – Я давно ищу с вами встречи, но никак не удавалось застать вас дома.
Не понимая значения сказанных генералом слов, я нащупал ступнями тапочки и, сунув в них ноги, привстал, приглашая жестом руки столь неожиданного гостя в обитель.
Принимая приглашение, генерал осторожно отстранил девочку, прихлопнул дверь за собой, но садиться на единственный стул, обитый яркой, как его красные лампасы, тканью, не стал.
– Мне вас рекомендовали Снегирев Алексей Сергеевич и Станислав Станиславович Губов. – И, на мгновенье замешкавшись, прибавил: – Сами они сейчас очень заняты…
Я виновато улыбнулся генералу, давая понять, что связь с вышеназванными товарищами давно прервана, но, чтобы как-то сгладить свою вину за это, выдвинул стул на середину «трапеции» и усадил-таки гостя.
Опустившись на стул, генерал ловким движением руки снял с головы фуражку, приспособил ее на коленях, водрузил на нее черную папку, распухшую от бумаг, и, смущаясь своего голоса, после короткого раздумья, вновь заговорил о Снегиреве и о Губове, толковых стилистах военной мемуарной литературы, издававшейся в то время во всех издательствах, утоляя жажду читателей, принимавших участие в операциях минувшей войны.
– Сейчас они работают с моими приятелями фронтовых лет! – сказал генерал, подбираясь к цели своего визита ко мне. – А поскольку со мной заключен договор на новую книгу, я и пришел к вам по рекомендациям Снегирева Алексея Сергеевича и Губова, то бишь Станислава Станиславовича. – Он распахнул папку и показал договорный лист. – Если вы возьметесь за эту работу, то я заплачу тридцать рублей с листа вместо принятых везде двадцати пяти.
Польщенный такой честью, я принял из рук генерала первые страницы, четко осознавая свою беспомощность как стилиста в столь сложном жанре, как военно-мемуарная литература, время от времени попадавшаяся мне на глаза. И тем не менее я прочел название книги «ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ОДЕРА». Абзац, с которого начиналась глава, был чист, как горная река.
«Наша дивизия которой командовал я, – начиналась генеральская запись, – дислоцировалась на берегу Хопра в деревне Коростелевка…»
Прочитав несколько страниц кряду и еще раз убедившись, что пройденный генералом путь от Сталинграда до Одера – это его путь, я отказался от литературной работы. Мне тогда предстояло пройти свой путь внутри себя, по-своему равный тому, какой прошел генерал от Сталинграда до Одера, чтобы привнести в свою туманность прозрачность горной реки.
Простившись с генералом, я спустился вниз, к почтовому ящику, и обнаружил два письма от отца. Одно было написано две недели тому назад, а второе – неделей позже. Сунув их в карман брюк, пошел на Зацепский рынок. Накупив свежих фруктов и овощей, поехал на Стромынку и спустя полчаса уже стоял в глубине больничного сквера, наблюдая, как больные женщины коротают время за шитьем и вязаньем.
По дорожке сквера сновали взад-вперед мужчины в застиранных больничных пижамах, с надеждой поглядывая на ворота в ожидании свидания с домашними.
Глядя на них, почувствовал острую потребность в болезни, дающей человеку паузу для самообщения. Но в то время меня не брали четко выраженные недуги, и надеяться хотя бы на краткий роздых от ежедневных передряг не приходилось.
Приблизившись к группе женщин, я нашел ту, которая, живя в толпе людей, никак не могла освободиться от ощущения круглого сиротства.
Уронив спицы с вязаньем, она поднялась и бросилась мне навстречу, перемежая слезы с улыбкой радости.
Просидев с нею в сквере почти до ужина, я поднялся и пошел к выходу, продолжая говорить о разных разностях, а приблизившись к железной калитке, вдруг с удивлением обнаружил в ней интерес к ближним, к соседям, тиранившим нас сообща и порознь.
– Как там? – спросила она, грустнея от самой мысли, что где-то вообще есть на земле соседи, которые вряд ли, как в коммуналке, могут отличаться друг от друга.
– Скучаешь по ним? – ответил я вопросом, понимая, что за ее любопытством скрывается нечто большее, чем соседи.
– Чем будешь заниматься? – спросила тогда она, откладывая главный разговор на потом.
– Расстреливать бумагу!
– Стучать на машинке? – проговорила она с некоторой досадой на то, что иначе чем на машинке переводить белые листы, а значит – раздражать соседей презренным ремеслом литератора, нельзя.
– Ты, наверное, что-то хотела мне сказать? – холодея от дурного предчувствия, спросил я настойчивее и заглянул в глаза, которые тут же поникли. – Завернули обратно?
– Да! – коротко ответила она и, подняв-таки глаза, бесшумно заплакала. – Тебе надо чем-нибудь серьезным заняться.
– Ладно, – сказал я, сдерживая гнев и, круто развернувшись, шагнул на улицу, на трамвайную остановку.
В тумбочке я обнаружил бандероль, а в ней на фирменной бумаге журнала – рецензию.
Рецензент-дегустатор, по чьему вкусу, должно быть, составлялось меню очередного номера, извещал в своей пространной рецензии о пристрастии автора к детализациям «малых» галактик, в ущерб, конечно, «большим», дабы, работая в угоду моде, заниматься исследованием промежуточных пространств, пространств между городом и деревней, шагнувшей к урбанизации… Затем, переключившись на пересказ отдельных рассказов, приводил рваные абзацы, будто бы грешившие украинизмами, чем окончательно уверил автора во внимательном прочтении. В заключение, как и полагается серьезной рецензии, резюмировал концепцию о мировоззренческой узости рассказчика, что не помешало ему в самом конце просить руководство журнала, надо полагать, главного редактора, держать автора «по-своему интересных рассказов» в поле зрения. Правда, при этом он (разумеется, из одной только скромности) не давал никаких советов по реализации своего пожелания, полностью, видимо, полагаясь в этом вопросе на инициативу самого случая.
Скомкав семистраничную мешанину вздора и пустословия, я зашвырнул ее в тумбочку, не переставая думать о поразительных сдвигах в сторону слияния языков, в чем полностью убедил меня рецензент, посчитавший мингрельский диалект, о котором постоянно шла речь в рассказах, чем-то средним между полтавским и миргородским, а в общем-то – украинским.
Расхохотавшись в бессильной ярости, я уткнулся в подушку, чтобы приглушить раскаты, но напрасно. Лишь поздно ночью, присмирев, я свернулся калачиком в постели, пытаясь заснуть. Выбившись из сил, ушел в мерцающую пустоту небытия, потеряв тревожное ощущение притяжения земли. Но недолог был мой сон: кто-то с кулаками рвался ко мне, желая во чтобы то ни стало сейчас же расправиться.
– А, трус несчастный! – урчал в мстительном раже подгулявший мой сосед. – Ну что, боишься меня, гадина? Вставай! Что, гнида бериевская, кончилась ваша лафа? Вставай, паскуда! Ну что, трусишь, заяц ушастый? Давай вылазь!
Трясясь от возмущения, я в чем был подался к двери, резко приоткрыл ее, но, заметив женщин, высунувшихся из своих комнатенок, попятился назад, смущаясь своего вида. Пылая по-татарски раскосыми глазами гневом далекого предка, переселившегося в полурусскую плоть, он удивлял диковатым несоответствием их добродушному славянскому овалу лица и продолжал гнусавить:
– Нет! Неправда! Не уйдешь, гадина!
Чувствуя себя этаким квартирным Наполеоном, лез напролом, едва доставая мне до плеча, набухая ненавистью из-за комнатенки, которую мы занимали с женой. Он считал себя ее потенциальным обладателем в случае, если мы съедем, а еще лучше – сгнием в один прекрасный день в утробе жарких печей для пережигания человеческой плоти. Но так как мы никуда не съезжали, да и умирать не хотели, наш сосед с русской фамилией Колесников время от времени демонстрировал нам и другим жильцам квартиры свои притязания на комнатенку.
Выпорхнули прелестные девочки Колесникова, унаследовавшие от славянских предков и милые улыбки, и добрые глаза, таки отодрали отца от двери и оттащили на кухню, чтобы восстановить потраченные им на угрозы калории и вернуть ему к рабочему часу трезвую голову.
Колесников как квалифицированный рабочий, по свидетельству работающих с ним товарищей, высоко ценился на заводе, но ничем существенным, кроме заработной платы да грамоты за доблестный труд по праздникам, не отмечался. В силу этих ли или иных несправедливостей время от времени, доставая из кармана рулетку, приступал к пересмотру жизненного пространства в квартире и заканчивал его в туалетной державным гвоздем с надписью над ним: ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛЕСНИКОВЫХ.
Но вот однажды на хорошо отточенном гвозде, на который Колесников накалывал бумагу, он обнаружил марку Баковского завода. Намек Баковского завода, поставляющего свое резиновое изделие аптекам, оказался прозрачным, несмотря на довольно мутное содержание… И призывал оскорбленных к отмщению.
– Кто? Кто? – негодовал, рыкая зверем, глава семейства, брезгливо удерживая перед собой фалангами пальцев срамное изделие.
Хоть вскоре после этого случая исчез со стены державный гвоздь, но память хранила его на том месте, где он красовался. А потому Колесников, желая отомстить за былую чью-то дерзость, теперь пуще прежнего лютовал в квартире.
Потревоженный неурочной «дуэлью» с Колесниковым, я раскрыл любимую «Деревушку», чтобы почерпнуть в фолкнеровской мудрости долготерпение, но книга заходила в руках. Я понял, что сегодня ни во что не вчитаться. На рассвете, умывшись со смачным фырканьем в ванной, Колесников мелкими шажками коротенького человечка протопал мимо моей двери, открыв парадную, хлопнул ею со всего размаха, давая понять жильцам, особенно мне, что сейчас некогда, но что скоро он вернется к начатой глубокой ночью ссоре.
Надо было догнать его, но брезгливое чувство, оказавшееся сильнее ненависти, остановило меня.
Порывшись в бумагах, я перечел рецензию и, окончательно раскиснув, вышел на улицу, хотя было еще рано. Острая потребность в улице, где люди ничего друг о друге не знают или знают столько, сколько не больно знать, привела меня на задворки, к пивному ларьку. Оглядевшись, я понял, что стою в двух шагах от своего дома на улице Островского.
Помятые лица, отпугивая немочью опохмеляющегося, вяло тянулись к ларьку и, покивав кому-то в очереди, ждали своего часа, чтобы «полечиться» от вчерашнего.
Потолкавшись у приступочки дома, я выпил кружку холодного пива, не доставившего радости, пошел в сторону Ордынки, в каком-то дворе набрел на телефонную будку и против своей воли позвонил Лешке, зачем-то сказав ему, что уезжаю обратно, хотя раскрывать тайну было не велено.
Лешка, помолчав несколько секунд, попросил через два-три часа перезвонить, должно быть, куда-то спешил.
– Хорошо, – сказал я и повесил трубку, вспоминая пророчество Гришки Распутина об Иудином поцелуе. «Ну и пусть, – подумал я с какой-то бешеной радостью. – Теперь в самый раз, чтобы кто-то предательски поцеловал…»
Вскоре, набрав в магазине необходимых продуктов, поехал на вокзал, взял билет на поезд, идущий на Иваново, чтобы вечером, еще засветло, оказаться в Федюнине. Времени до отправления оказалось много, но ни идти в больницу, ни тем более звонить не хотелось. Единственный телефон, которым я дорожил, оборвался со смертью Тани. В памяти ныло от сознания, что номер существует, но дозвониться до человека, со смертью которого вымерло огромное пространство, нельзя. Снова позвонил Лешке. Его не оказалось дома, но женский голос ответил, что «поехал на работу»…
Ответ «поехал на работу…» – мне показался очень занятным, и, чтобы хоть как-то приоткрыть завесу над тайной, окрашивая голос небрежной простотой, я спросил:
– Когда он вернулся из командировки?
– Еще вчера! – ответил женский голос в трубку, но он тут же осекся: – Простите, кто его спрашивает?
– Христос воскрес! – проговорил я, продолжая игру. – Не забудьте передать ему, что жду с нетерпением Иудиного поцелуя.
В трубке затрещало, потом ответили, что непременно все как есть передадут.
Я повесил трубку и задумался, расшифровывая на свой лад телефонный разговор.
Повременив еще с полчаса, повторил звонок и, услышав голос Лешки, извинился, что задержался со звонком.
– А я сижу у телефона и жду, – ответил Лешка бесцветным голосом безразличия. – Когда отчаливаешь?
Я ответил, что через сорок минут.
– Жди, – сказал Лешка, выдавая волнение, – я сейчас на такси подъеду.
Я взял портфель и скрылся за щитком табло на перроне, чтобы отсюда наблюдать за появлением Лешки.
И вот рядом с образом воздушно-легкой девочки в плиссированной юбочке из белого шелка заколебался в воздухе и образ Лешки, направляющегося к месту встречи, хохочущими глазами выискивавшего меня в толпе.
– Здравствуй! – сказал я, подходя сбоку и ставя портфель между собой и им.
Девочка, откровенно уставившись на меня, поглядывала снизу вверх, но, быстро удовлетворив любопытство, заскучала от ординарности объекта и нетерпеливо дернула Лешку за руку.
– Чего это ты надумал возвращаться? – вдруг спросил Лешка, одергивая девочку.
– Так надо, – ответил я и таинственно улыбнулся. – Это все, что я могу тебе сказать.
– Ладно, – сказал Лешка и огляделся по сторонам. – Как ты думаешь, мне нужно с тобой ехать? – спросил он, вырвав взглядом кого-то из толпы.
– Со мной нежелательно, – ответил я.
– Ладно, – ответил он и вернулся из толпы, в которой кого-то углядел. Тот, наверное, ушел, чтоб не отвлекать.
– Вот и замечательно, – сказал я и погладил девочку по головке, чтобы убедиться в том, что это живое существо, а не мираж. – Как тебя зовут?
– Анюта! – засмущалась девочка и посмотрела на Лешку.
– Больше всего люблю на свете девочек и кукол, – сказал я Анюте и еще раз потрепал ее по головке, как когда-то, бывало, свою маленькую сестренку Мину. И почему-то вспомнил слова своего соседа по деревне, Чатала-оглы Мамеда-эфенди: «Какие красивые!.. Они красивы, пока остаются поросятами! Но мы из них выращиваем свиней!» Может, в этом ответе таилось мусульманское отвращение к свинье?!
Анюта высвободила головку из-под моей руки и сильнее прежнего дернула Лешку за руку, торопя его кончать встречу с таким неинтересным человеком, как я.
Я убрал руку и, глядя поверх Анютиной головки вдаль, заметил профиль Тани и сорвался с места, оставив портфель стоять у Лешкиных ног. Но, настигнув до жути знакомый профиль, разочарованно застыл на месте. В профиле не было ничего с Таней общего, кроме сходства.
– Как жить, Лешка, – сказал я, когда он догнал меня на перроне с моим портфелем и бешено хохотнул с грустным лицом. – Если лучшие из друзей уходят, оставляя на память о себе лишь чужие профили?.. – Я почти вырвал у него из рук свой портфель и не оборачиваясь зашагал дальше, к стоянке головного вагона.
Пока поезд уносил меня из вымершего для меня пространства, я думал о Лешке, подозревая в его отношениях к Стеше глухую мужскую месть. Не любовью веяло от их встреч. Слишком уж грубы были их ночные любовные утехи.
Перескакивая с мысли на мысль, я вспомнил о письмах отца, покоившихся в кармане, и с подспудной радостью, разглядев конверты и штемпеля на них, вскрыл, соблюдая хронологию, первый.
На этот раз отец писал карандашом, причем фиолетовым, как с фронта во время войны.
Буквы были мягки и красивы.
«Дорогой Ивери! Пишет тебе твой отец Лаврентий.
Теперь сынок мать ваша очень про тебя беспокоится говорит что с ним случилось. Вот уже четвертый месяц от тебя нет писем. Если ты скоро не ответишь мать хочет приехать. Напиши обязательно.
Теперь Ивери Мина собирается выходить замуж за армянина из Богапочты. Он тоже работает в райкоме. Но мне он не нравится. Очень много говорит. Слушать его не скучно потому что в общем говорит правильно но делать ничего земного не умеет. Вот и Мина тоже. Теперь они все говорят и говорят а дела делать разучились. Видно там где таких кадров готовят для райкомов обучают правильно говорить но совсем разучают правильно работать и жить. В общем Ивери послушал их и совсем приуныл. А мать все плачет говорит что еще один язык придется изучать.
Теперь Ивери наша корова которая имеет мягкий белый цвет которая родилась три года тому назад от Янали заболела. Говорят змея укусила. Вымя очень сильно распухло. Пошел к Макару к ветеринару но его на месте не оказалось сказали что пошел на ферму а со мной поехала Малина. Это не та Малина которая русская и работает в здравпункте а которая у Макара ветврачом. Если помнишь она еще имеет красивое лицо за что постоянно выбирали ее депутатом местного Совета. Она пошла за мной и посмотрела вымя. Потом сделала укол и часто часто проколола ножом. Через неделю корова поправилась, но вымя отвалилось. А что такое корова без вымени. Ходит пасется а сисек не имеет. Жалко а продавать придется.
Теперь Ивери завтра похороны Дзуку Кемулариа. Получил разрыв сердца. Он поехал в райком и там сильно ругался за сады которые уничтожили. Он им сказал если вы коммунисты значит кто-то из нас не коммунист. Ему там сказали что он давно потерял коммунистическую бдительность и через неделю заставили партбилет положить на стол. Дзуку вышел из кабинета и девять километров шел пешком домой и все время удивлялся что на фронте смог сберечь партбилет а в мирное время его потерял. Пришел домой и ночью умер. Но оказалось что его еще не успели исключить из партии. И районная газета «Дроша» что по-русски означает еще «Флаг» напечатала про Дзуку хорошие слова. В общем Дзуку умер, а хорошие слова о нем живут.
Эй гиди дуниа! Помнишь так говорил наш сосед Чатал-оглы Мамед-эфенди. На русском языке не знаю как это сказать но если сказать грубо то получается эх как больно вселенная. Теперь хоть я не турок но часто повторяю турецкое эй гиди дуниа!
Теперь еще Ивери когда будешь ехать домой возьми жену и еще купи лезвия хорошие. Здесь цыганки продают очень дорого. Мать говорит пускай приезжает с женой говорит китайский язык тоже будем учить».
Я пробежал последние строки письма, аккуратно сложил листы в конверт и спрятал в карман.
Поезд, набирая скорость, мчался по солнечному просвету между лесных угодий, пролетая мимо красивых лужаек с дачными строениями, мимо грустных путников, устремляющихся в свои гнездовья.
Пассажиры, откинувшись в высоких креслах экспресса, дремали, покачиваясь из стороны в сторону и время от времени лениво открывая глаза, чтобы убедиться, что поезд идет в том направлении, в каком ему следует.
Уверившись, что и сосед мой дремлет, как многие другие, я распечатал второе письмо.
«Дорогой Ивери! – продолжал отец свои размышления. – Слава богу! Получили от тебя маленькое письмо. Мать немного успокоилась но все равно говорит что чувствует что у тебя не все хорошо.
Теперь Ивери я писал тебе про Дзуку Кемулариа. Похоронили хорошо. Было хорошее вино правда черное но привезли из Салхино. Местные жители с гордостью сказали что они такое вино посылают только на розлив «Самтреста» специально для ответственных работников. Народ пришел больше две тысяч. Все они говорили между собой что Дзуку умер за партбилет.








