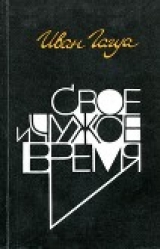
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Зосмэ не заставил себя ждать.
Он пришел сразу после того, как мы с тетей уладили наши отношения.
Старик был в свежей рубашке поверх черных галифе, на ногах мягкие азиатские сапоги. Борода и усы были аккуратно подбриты. В серых плутоватых глазах бегали неугомонные чертики.
Тихо отворив калитку, он поклонился вышедшей навстречу тете. Затем, оглядевшись по сторонам, засеменил по направлению к дому, время от времени взглядывая на тетю и улыбаясь сладостной улыбкой, должно быть вызванной запахом зажаренной курицы, а может быть, видом самой тети, поспешавшей за ним.
– Славная девушка! – похвалил Зосмэ тетю, очутившись перед высокой лестницей, ведущей в дом, и протянул ей руку.
Вид у тети был такой, словно она сейчас же собиралась схватить своего жениха за холку… Но тот, кто поднимался с ней рядом, опираясь на ее руку, не был похож на того жениха, который был нужен тете.
Поддерживая высохшую руку старика, тетя то и дело следила за мной тревожными глазами, чтобы я не скользнул раньше гостя в дом и не съел курицу.
Поднявшись в дом, Зосмэ тщательно вымыл руки и, поклонившись почему-то печке, а не распятию Христа, заточенному в бутыль и стоявшему на посудном шкафу, удобно уселся за стол все с той же улыбкой на лице, с какой вошел к нам во двор.
По правилам гадания, тетя должна была стоять в стороне и молча переживать свою судьбу, какой она выйдет, пока старик не поднимет на свет крестец, чтобы прочитать по красным прожилкам тетину долю…
Придвинув тарелку с курицей и убедившись в том, что мы занимаем правильную дистанцию, Зосмэ приступил к первому этапу гадания: с хрустом выкрутил ножки у курицы и положил в тарелку с томатным соусом, затем с треском оторвал крылышки и, сунув одно из них в рот, движением губной гармошки обглодал до костей. Потом мясо заел мамалыгой и, снова повернувшись к нам, не поддаемся ли мы искушению сатаны, продолжал волхвование – возбужденно урчал, как раззадоренный зверек, захлебываясь животным восторгом. А в моих ушах стоял хруст нежных куриных косточек, вызывая холостое движение кадыка. Мой завистливый взгляд был прикован к курице, которая теперь напоминала дерево со сквозным дуплом и обрубленными ветвями.
– Тетя, – не вытерпел я, – неужели он съест всю курицу?
Тетя наклонилась ко мне и тихо пожурила, не забывая при этом улыбаться старику.
– Я хочу курицу! – повысил я голос в надежде, что моя просьба будет услышана взрослыми.
Но вместо ответа тетя одернула меня, а вымазанная соусом борода старика с недоумением уставилась на нас…
Мне показалось, что Зосмэ весь ушел в курицу. Но вскоре, к своему удивлению, я заметил, что, наоборот, курица ушла в него и в нем проступил старый плутоватый мингрел.
Теперь он держал полный стакан с вином и шептал что-то такое, отчего становилось смешно и грустно моей тете, не знавшей, как поступить: смеяться или нет, поскольку и то и другое было глупо. Наконец старик поднял седую голову в редких волосах и движением руки подозвал тетю. Другой рукой он поднес крестец к глазам и, прищуриваясь то одним, то другим глазом, стал внимательно его рассматривать, тут же предсказывая жениха с какой-то сложной и запутанной дороги к ней – тете!
На что всякий раз, как только ее неведомый жених шарахался в какую-то крайность, непростительную для жениха такой невесты, как моя тетя, она вскрикивала и, всплеснув руками, молитвенно шептала:
– Сохрани его, господи, не дай погрязнуть во грехе неотвратимом!
Но тетю такое сообщение о женихе явно не удовлетворяло. Она хотела знать, где его носит и скоро ли он явится за ней, а по возможности хотя бы увидеть издали.
– Дедушка, скажите, в каких он краях? – спросила тетя, словно желая почувствовать своего жениха на ощупь. Мы, не дожидаясь ответа, так громко расхохотались, что старику сделалось нехорошо. – Мне бы, дедушка, только узнать, где он! Только бы раз увидеть! Ах, его нет, наверное, вовсе…
Зосмэ, удрученный приступом тетиного веселья, все еще продолжал держать крестец и глупо разглядывать, хлопая белыми, как у теленка, ресницами. Однако после некоторого замешательства старик взял себя в руки и, гася внезапный приступ тетиного веселья и отодвигая ее – тетю – на положенную дистанцию, строго заметил:
– Гадание не терпит кощунства! – Затем протянул крестец тете и добавил: – Береги его! В нем сокрыта твоя судьба…
Эти слова Зосмэ быстро охладили приступ веселья. Тетя робко протянула руку к крестцу и, виновато опуская глаза, проговорила:
– Простите, дедушка!
Тем временем, пока тетя приносила извинения Зосмэ, а он принимал их и потом в знак примирения оба выясняли значения кровянистых прожилок на крестце, я тихонько подобрался к тарелке. В ней еще оставался кусок, отделенный от крестца гадальщиком себе на ужин. Улучив минуту, я схватил его и выбежал во двор, жадно впиваясь в поджаристую курятину. Запретный плод пьянил мою ликующую душу. И, кажется, наш черный петух, сам только что испытавший это чувство с соседской, белой как снег курицей, разделял мою радость. Беспутно гогоча, словно пьяный гусар в старом фильме, он подошел ко мне и, вскинув голову, похлопал крыльями, что, как видно, означало: «Да здравствует вожделение! Да здравствует победа! Ликуй, мальчик! Только отбитый силой кусок имеет вкус неповторимый!» Потом метнулся в глубину двора и одним взмахом мощных крыльев взлетел на айву.
Через несколько минут мимо айвового деревца прошел Зосмэ, мечтательно поглядывая на петуха.
Старик, не получивший ни остатка от курицы, ни платы за гадание, что давали ему везде независимо от исхода, в общем-то, выглядел довольным, хотя мой дикий поступок должен был поиспортить ему настроение. Как-никак лакомый кусочек, оставленный на ужин, был уведен…
Тетя, держась рядом со стариком, по-прежнему выглядела легкомысленной. Слишком уж откровенно она веселилась, источая нерастраченную силу женского обаяния и темперамент горного жителя.
И я понял, что прав тот, кто умеет так весело ходить по этой невеселой земле.
Тетя, ласково поглаживая по спине старика, все пересыпала шуточками:
– Дедусь, а дедусь, если тебе попадется тот самый скакун, не забудь указать ему истинный путь…
Но предсказаниям Зосмэ и надеждам моей тети не суждено было сбыться. Вскоре началась война.
Теперь нечего было ей мечтать о замужестве – все женихи были призваны на фронт. И шансы укрепиться на благодатной колхидской долине были ничтожны. Но тетя вопреки здравому смыслу продолжала верить своему счастью. Всегда веселая и бодрая, она помогала матери вести хозяйство и была полна неутолимой жажды любви к своему неизвестному жениху, заранее горячо любимому. И эта любовь помогала ей легко переносить лишения и трудности военного времени. Однако любовь уступила место страху, когда со стороны моря на нашу благодатную долину посыпались проклятия из подводных лодок или еще из чего-то другого в виде разрывающихся снарядов… И это окончательно сломило веру моей тети и решило ее судьбу. Не выдержав этого ада, тетя собрала все свои приманки, с помощью которых собиралась пленить жениха, и подалась в горы. Оставаться здесь дольше и рисковать жизнью было бессмысленно, имея защищенный от врагов очаг в горах. Так бесславно закончилась попытка моей тети. Не схватив быка за рога, не обработав заветный кусок колхидской долины, она увезла разбитую мечту и вместе с ней неутоленную жажду молодой женщины, чтобы навсегда увязнуть в горах никем не замеченной.
Если с началом войны закатилась звезда моей тети, то этого нельзя было сказать о Зосмэ. Теперь его развозили по всем деревням нашего района и держали в почете не меньше самого доктора Попова. С ним, как и с Поповым, держались уважительно, заискивали, принимая руку двумя. Шли приглашения к Зосмэ из разных мест. Женщины, интересуясь судьбами мужей на фронте, непременно прибегали к помощи гадальщика. Зосмэ по мере возможности откликался на эти просьбы, что позволяло ему постоянно менять платье и носить бороду, пахнущую соусом и жиром курятины. Несмотря на беды, приносимые войной, и старания Зосмэ предотвратить эти беды, казалось, что куры в деревне не переводятся и Зосмэ может еще долгое время быть радетелем человеческих судеб. Однако это было обманчиво, так как в своих радениях Зосмэ был не одинок. Ему, и довольно успешно, в этом помогали и другие. Например, сам председатель сельсовета, считавший, что у этих глупых птиц довольно неглупое мясо. Если же Зосмэ угрожал только курам, то вышеупомянутый председатель сразу курам и их хозяйкам. Пока шла война, ничто не могло воспрепятствовать им – председателю и Зосмэ – в этом. Но война затянулась, а к истреблению пернатых подключились еще вышестоящие товарищи, и в деревне за короткое время, к удивлению Зосмэ и хозяек, куры перевелись: то ли учуяв опасность, то ли еще что, но совсем не слышно стало квохтанья во дворах, а горластые петухи осипли и перестали петь; жалкие остатки куриного царства вели себя осмотрительнее, как бы уйдя на нелегальное положение. Они допоздна отсиживались в садах и лишь с наступлением ночи вслепую двигались к своим шесткам.
Пусто стало и в нашем дворе.
Только одна потрепанная курица-голошейка возилась под разросшимися кустами фейхоа да черный петух, единственный на всю деревню, жалкий и трусливый. Теперь ничего в нем гусарского не было. Он дрожал за свою жизнь, унизительно хоронясь в темных местах на виду у единственной представительницы уцелевшего гарема. Петух хотел выжить даже ценой такого унижения, чтобы потом, взобравшись на крышу дома, смело, во все горло возвестить о завоеванном ценою унижении и огромных жертв мире…
У Зосмэ тоже были свои планы: во что бы то ни стало пережить тяжелое время войны с приятным вкусом во рту. Жестокая конкуренция значительно снижала шансы Зосмэ. Тем не менее он не думал легко сдаваться. Иногда ему удавались хитроумные уловки, и тогда кое-кому приходилось раскошеливаться – резать последнюю живность.
Однажды, когда прошли по деревне слухи о гибели отца, будто бы сложившего голову на Керченском проливе, откуда писал он свои последние письма, Зосмэ всячески стал подкреплять эти слухи видениями, посещавшими его во время чуткого полусна. И, чтобы научно обосновать эти опасения или же, наоборот, отвергнуть их, он требовал петушиного крестца, так как речь шла о судьбе мужчины.
Но мать, вместо того чтобы внять настойчивым опасениям Зосмэ, ночами молила бога сохранить нашего защитника целым и невредимым, не опускаясь до суеверных страхов. То ли она жалела петуха, то ли не верила гаданиям Зосмэ, но упрямо держалась подальше от него. Зосмэ же, умудренный опытом долгой жизни, ждал, не слишком торопя время. И порой как бы случайно заглядывал к нам во двор и осторожно начинал интересоваться письмами отца, словно желая пополнить новыми сведениями с фронта уже имевшиеся.
– Спасибо, Зосмэ, пишет, что скоро победят… – врала мать, и по ее глазам было видно, что и сама она начинает в это верить.
– Дай-то бог! – как бы усомнившись, говорил Зосмэ и, ничего не прибавляя к своим сомнениям, начинал рассказывать доверительным тоном о каком-нибудь солдате: – Бедная Маро… Она не ведает, что ее сын погиб под Сталинградом… Страшные дела творятся, Илита, страшные.
Таким образом изо дня в день сея страхи в сердце матери, Зосмэ исподволь приближался к нашему двору.
И вот, сломав упорство матери, он испытанным путем пришел к нам и теперь сидел у костра и потирал руки. Вид у него был далеко не из лучших: совсем потускнели водянистые глаза, вылез из сивой бороденки крючковатый нос с большими пропастями, поросшими длинными седыми волосами, поизносилось платье. Мокро и неуютно было обличье старика.
– Страшные сны одолели, Зосмэ! – осторожно начала мать, внимательно разглядев старика. – Боюсь за мужа… Может, погадаем, а с гаданием утешение придет…
Зосмэ, долго ждавший такого разговора, потрепал пухленькой рукой местами свалявшуюся бороденку и устало вздохнул:
– Не ты одна нынче тревожишься, Илита!
Мать раздула огонь под треногой, набрала в чугунок воды, пошла в дом и вышла оттуда с кукурузным початком, луща его в карманы халата.
Осенний день тяжело хмурился, нагоняя морскую сырость и туман. Порывистый ветерок налетал на костер, лизал языки пламени и умирал.
Зосмэ, сжавшись в маленький потрепанный комок, зябко водил плечами. Свалявшаяся бороденка, как шерсть на старой собаке, сухо шевелилась отдельными пуками, пригретая огнем. У ног старика покоилась бамбуковая палка.
Мать прошла в огород, пересыпая с ладони на ладонь кукурузные зерна, заглянула под мандариновые кусты и тихо принялась вызывать притаившуюся тут же курицу-голошейку.
Зосмэ вытянул в удивлении шею и оскорбленно проговорил:
– Почему курицу, Илита? Разве не на мужа гадаешь?
– На мужа! – тихо ответила мать дрогнувшим в страхе голосом. – А что?..
– Эта курица не наших кровей! – еще более сердито заметил Зосмэ.
Мать, испугавшись, что курица склюет все зерна, пока она будет спорить с Зосмэ, на всякий случай поймала неказистую голошейку и, держа ее за ноги, сделала еще одну попытку отстоять петуха:
– Разве у этой курицы не тот же крестец, Зосмэ?
Зосмэ, разглядывая жалкий трепещущий комок издалека, сморщился, брезгливо сплюнул в костер и, пытаясь встать, категорически отверг:
– Эта курица, уважаемая Илита, не нашего происхождения… Она не может стать предметом, пригодным для гадания…
– Ну, раз так, – сказала мать после некоторого раздумья и выпустила курицу. И уже без всякой хитрости добавила: – Но как поймать петуха? Он совсем одичал…
В котле вода уже весело булькала, требуя жертвы. Но жертва хоть и была определена, ее еще нужно было поймать.
Я сбегал в дом за шпагатом и, связав его петлей, разложил под кустами фейхоа, подбрасывая в круг кукурузные зерна.
Мать, стоя рядом со мной у конца шпагата, ласково подзывала петуха, чтобы уверить его в том, что ничего плохого с ним не собираются делать.
Петух после долгого упрашивания осторожно вышел из-под кустов и, издали покосившись на кукурузные зерна, не ринулся на круг, как того хотели мы, а шел не спеша, размеренно, с временными остановками, давая себе возможность подсмотреть, не таится ли опасность за этими зернами. Но вот наконец приблизился к петле, измерил расстояние до зерен взглядом и, встав прямо на бровку петли, с чуткой осторожностью принялся склевывать их, победно улюлюкая после каждого склеванного зерна.
– Дикий! – со скрытой радостью проговорила мать, оборачиваясь на Зосмэ, словно оправдываясь перед ним за поведение петуха. – В тяжелую годину дичают даже домашние птицы!
Она подбросила еще несколько зерен, ласково заманивая петуха в круг.
Увлекаясь этим своеобразным поединком с петухом – кто кого перехитрит, – сам того не замечая, я стал заражаться охотничьим азартом. Трусливое гоготание петуха вызывало у меня отвращение к нему. И я, совсем позабыв о Зосмэ, принялся усыплять его бдительность ласковым призывом, при этом ни на секунду не расслабляясь и держа конец шпагата наготове.
Петух, должно быть, как бывает с трусами и хвастунами, польщенный излишним вниманием, потерял бдительность и переступил бровку петли. Петля молниеносно затянулась на его ногах. И тут, когда дело уже было сделано, я понял, что стал слепым орудием мести в руках хитроумного Зосмэ. Но отступать теперь было поздно.
Мать тут же подошла к петуху и, подняв его, пошла к зловеще бурлящему котлу.
Гордость всех петухов, когда-то славивших наш двор, черный породистый петел жалко свисал с рук матери, схваченный за ноги.
– Это был один из лучших петухов! – сказала мать как можно жалостливее, подходя к костру, у которого сидел Зосмэ, и опустила голову петуха на полено, чтобы ударом топора отсечь ее последнему из лучших представителей фауны.
– Ничего, Илита, бог даст еще! – ответил старик с клокочущим волнением в горле.
Мать еще раз повторила:
– Породистых кровей, таких теперь не разведу!
Тем временем, пока между матерью и Зосмэ продолжался поединок, который явно заканчивался в пользу старика, петух, находясь во власти дурного предчувствия, неистово бился о землю, норовя клюнуть матери руку. Но все это было напрасно. Мать с силой придавила петуха к земле, и теперь беспомощно распластанное тело мелко подрагивало под ее руками…
– Неси топор! – сердито прикрикнула на меня мать. – Чего стоишь, иди!
Я ленивой походкой направился к сараю, сопровождаемый подавленным горловым хрипением петуха.
– Нету здесь топора! – отозвался я из-за сарая, держа в руке топор и норовя его куда-нибудь забросить.
– Ищи лучше! – подвергая мои слова сомнению, сказала мать.
– Нету здесь топора! – снова соврал я и размахнулся, чтобы зашвырнуть его в огород.
Но тут из-за угла сарая выросла мать с несчастным петухом на весу. Приблизившись вплотную с каменной суровостью во взгляде, она протянула ко мне свободную руку:
– Отдай!
Настойчивость матери заставила меня подчиниться.
Я отвернулся от нее и с ненавистью протянул топор.
И, унося в одной руке топор, а в другой – петуха, она пошла обратно к огню. Но не успела дойти, как вдруг неожиданно, грохоча колесами, у наших ворот остановилась телега. Затем скрипнула калитка и послышался знакомый голос, ошалевший от радости:
– Тетя Илита! Тетя Илита!
Это был колхозный извозчик, мальчишка лет тринадцати по имени Арсен. Он стоял в середине двора и продолжал звать:
– Идите скорей! С вас причитается за радостную весть.
Наконец, завидя нас, растерянно идущих на крик, сунул пальцы в рот и лихо засвистал.
Пройдя еще несколько шагов, я встал как вкопанный посреди двора. Непонятное чувство страха сковало меня.
За приоткрытой калиткой стояла колхозная подвода. Рядом с ней на одной ноге, опершись на костыли, возвышался отец. Обросший серебрящейся колючей щетиной, безрадостно озирался по сторонам. За плечами его болтался тощий армейский вещмешок.
– Иди, иди! – в порыве радости сказал Арсен, подталкивая меня в спину навстречу отцу, уже вступившему на зеленый двор.
Отец шел рывками, раскачиваясь на костылях и приземляя израненное тело на одну ногу через равные промежутки.
Не выдержав накопившегося горя, я заплакал в крепком детском отчаянии.
Мир входил в наш дом на одной ноге.
– Иди, сынок! – тихо сказала мать, как пораженная, стоя на месте, по-прежнему не выпуская из рук топора и улюлюкающего в страхе петуха. – Иди, отец ведь твой…
Арсен, по-взрослому скрестив на груди руки, широко улыбался, переводя взгляд от одного к другому. Затем, увидев идущего на шум Зосмэ, весело напомнил:
– Тетя Илита, не забудь про магарыч!
Мать, наконец опомнившись, бросила топор на землю, выпустила петуха и, тихо плача, пошла навстречу отцу.
А петух, стрелой пролетев мимо посрамленного гадальщика, взлетел на крышу дома, с крыши – на печную трубу и, встав на одной ноге, принялся воспевать непрочный мир человеческого бытия…
Москва,
1968
ГРОБОВЩИК

Габриэль был у нас единственным гробовщиком на всю округу.
И хотя покойники не выражали ему своих восторгов, но надо сказать, что гробы у него получались добротные и пользовались заслуженным успехом заказчиков. Никто другой не мог соперничать с ним по части этого ремесла. Неустанный кропотливый труд и необыкновенное волнение, с каким приступал он к очередному заказу, снискали Габриэлю славу взыскательного мастера. Имя гробовщика было широко известно даже за пределами нашей округи. Габриэль, на заре своей юности утративший всякое уважение к живому, тепло и сочувственно относился к покойникам.
Трагическая случайность, открывшая в нем незаурядный талант гробовщика, давно позабылась. Теперь мало кто помнил влюбленного юношу, бескорыстно сделавшего свой последний подарок любимой. А началось ведь именно с этого.
В один из майских дней шестнадцатого года трагически оборвалась жизнь красивой княжны Шервашидзе.
Тронутый скорбным известием девятнадцатилетний Габриэль, тайно любивший княжну, отважился войти в княжеский дом, чтобы проститься с любимой.
Аккуратно убранная княжна возлежала на персидской тахте и казалась заснувшей: не тронутое солнцем лицо ее было безмятежно чисто, веки тихо прикрыты, словно для того, чтобы соединить сон и явь невинной усмешкой.
Поднявшись на цыпочках в зал и приблизившись к княжне, Габриэль рухнул на колени, затем, легонько прикоснувшись губами к ее одежде, глухо, по-мужски зарыдал. Но тут чья-то твердая рука подняла его на ноги и вывела во двор, где убитый горем старый князь скулил, как раненый зверь. Габриэль, боясь княжеского гнева, в отчаянии покинул двор и, очутившись наедине с собой, молитвенно воздел руки:
– Господи! Обрати все это в сон! Не дай угаснуть надеждам…
Но бородатый лик господа, пригрезившийся Габриэлю, лишь мелькнул в разрывах туч и тут же растаял.
Возвратившись домой поздней ночью, Габриэль заперся в сарае. И, не притрагиваясь к еде, принялся собирать свой последний подарок княжне.
Дивились домашние, слыша стук молотка и шуршание фуганка. Раньше никогда они не замечали за Габриэлем тяги к столярной работе. Но вот отворилась дверь сарая и из нее показалось угрюмое лицо юноши, а затем и гроб.
– Везите мои убитые надежды! – проговорил он и упал лицом на молодую траву.
Так сработал Габриэль свой первый гроб для любимой.
Князь, узревший смертельную боль в этом скорбном домике для дочери, выполненном с таким тщанием, разрыдался пуще прежнего. А собравшиеся вокруг гроба знатоки дивились мастерству Габриэля.
Конечно, гроб нельзя назвать поэмой, но и в нем, как и в стихах, билось взволнованное сердце творца: инкрустации и другие украшения были отточены страданием молодого Габриэля.
– В этой работе, князь, излита скорбь нашей семьи! – печально проронил отец Габриэля, привезший вместе с гробом и безутешное сердце своего сына.
С этих пор Габриэль, не забывший о своей скорби, время от времени брался мастерить гробы. Его неотвратимо тянуло к верстаку. В глухом одиночестве, отдавая дань грустному человеческому обряду, он, с редким для себя наслаждением, упивался своею болью… Выставив собранный гроб перед мастерской, он обхаживал его со всех сторон и удовлетворенно щурился: «Справная опочивальня!» И тут же начинал тосковать по новой работе. Никакое другое дело теперь не привлекало его. С самого основания колхоза он был зачислен в плотницкую бригаду, но так и не приобщился к ремеслу по-настоящему – работал с прохладцей, без огонька и смекалки. Не лежало сердце и к хозяйству. Обширный сад и земельный участок после смерти родителей отчуждались, обрастая плющом и колючками. И сам Габриэль жил в отчуждении, жил своим ремеслом, когда кому-нибудь выпадала нужда смастерить вечное обиталище. Да и человек его интересовал теперь, лишь когда переставал быть человеком и превращался в странника, которого по обычаю надобно снарядить для вечного странствия…
И все-таки, несмотря на заботу, проявляемую к покойникам, Габриэль не избежал как-то серьезной ошибки. Вышла она по причине неправильного обмера. В подпитии он снял мерку с усопшего, но, как потом оказалось, что-то напутал и в результате гроб получился короткий. И сколько ни старались родственники втиснуть в него своего покойника, из этого ничего не выходило, так что гробовщика уже собирались поколотить. Но под утро Габриэль въехал во двор рассерженной родни с новым гробом, да таким, что вместо трепки получил дополнительную сотенную. Но если родственники покойного простили Габриэлю ошибку, то сам он ее себе не простил. Короткий гроб как немой укор своей совести он поставил в мастерской на самое видное место.
Мастерить гроб, как правило, Габриэль начинал лишь после тщательного осмотра покойника: с любопытством скульптора изучал он лицо усопшего, чтобы облечь его истинное выражение в надлежащую форму. Одним словом, покойники нашей округи, а иногда далеко и за ее пределами пользовались особым вниманием гробовщика, на какое вряд ли могли рассчитывать при жизни.
Семья, которую постигло горе, высылала за Габриэлем для осмотра покойника подводу.
Соседи, увидев приосанившегося гробовщика, едущего на подводе, тут же хоронились в домах, чтобы избежать его изучающего взгляда, словно адресованного потенциальному покойнику… Казалось, что даже деревья и те в ужасе отступали за ограду, когда Габриэль появлялся на улице.
Приехав в семью покойника, Габриэль, словно врач, знающий силу своего ремесла, спешил к очередному «пациенту» в сопровождении многочисленной родни.
Здесь, у смертного одра, где возлежал покойник, сохраняя одному ему присущее выражение полного отрешения, Габриэль, в отличие от притихшей родни, держался возбужденно: заходил то с одного, то с другого боку к умершему, что-то бубнил себе под нос. Оглядев покойника внимательно, присаживался у изголовья и с какой-то таинственностью начинал вглядываться в лицо. Наконец, уловив самое главное и характерное – озабоченно ли или печально, насмешливо или сурово выражение покойника, он доставал из кармана рулетку и приступал к обмеру. Правда, не так дотошно, как это делают портные в нашем городе, когда хотят сорвать лишку с клиента. Получив все три измерения, последнее почему-то от кончика носа покойного, Габриэль моментально составлял смету и тут же, на семейной сходке, объявлял ее в непоколебимых выражениях, что сбивало с толку даже самых прижимистых заказчиков. Ну а если среди них все-таки объявлялся таковой, Габриэль срамил наглеца неотступно.
– Если ты хочешь надуть дешевым гробом покойника, – говорил он в таких случаях, – то закажи его себе…
Но, к счастью, таких заказчиков было мало, и поэтому все, как правило, безропотно принимали условия гробовщика, зная наперед, что гроб будет сделан к сроку и самым лучшим образом. А для заказчика куда важнее вовремя преподнести свой подарок усопшему и проводить его в последний путь с чистой совестью.
Среди заказчиков предпочтение отдавалось дальним, поскольку они приезжали за Габриэлем на машинах, платили щедро и потчевали разными напитками, к чему он, как мастеровой человек, имел пристрастие. Но с годами такие приглашения становились довольно редкими. Причиной этих редких приглашений Габриэль считал свою жену Матро. И хотя он жалел, что связал с ней жизнь, но терпеливо молчал. Ему было за шестьдесят, когда Матро, выходившая его от воспаления легких, вошла к нему в дом, ища в нем спасения после прежнего мужа от привередливых снох. Теперь Матро вновь чувствовала себя покойно и легко. Окрестив новоиспеченного мужа ласкательным именем – Габриа, она всячески препятствовала его дальним поездкам. Приезжавшие на машинах заказчики встречали суровый отказ Матро. Так день за днем сокращались приглашения. Но если они еще выпадали Габриэлю и ему удавалось уломать Матро, то он весь преображался: его до морозца жесткий взгляд уступал место искрящемуся лукавству, а лицо начинало светиться. В такие минуты наивысшего подъема он вышагивал перед Матро длинными шагами и, собрав в черный потрепанный мешочек инструмент, закидывал его за плечо и громко кричал по причине сильной глухоты старухи:
– Матро, я уезжаю в Дундию! – Дундией Габриэль называл все дальние приглашения и произносил это слово так, словно Дундия лежала в песках Саудовской Аравии и он собирается проникнуть туда через Дарданеллы.
Старуха при этих словах Габриэля начинала тревожно суетиться, тепло повязывая ему горло шарфом, даже когда стояла невыносимая жара, и, глядя на мужа мелкими колючими глазами, строго-настрого наказывала:
– Не застудись в дороге, Габриа! И лишнего не перехвати, да долго не задерживайся!
Габриэль за эти ограничения порой не на шутку ругал Матро, но порой, когда у ворот его ждала машина, а в доме покойного угощение, он легко сносил слова старухи.
Привозили Габриэля из Дундии на четвертые сутки ночью.
Подвыпивший и счастливый, он поднимался на веранду, тянувшуюся во всю длину дома, и бухал кулаком в дверь, пока не поднимал перепуганную Матро из глухой комнаты, куда она забивалась, боясь ночного одиночества. Затем наступала тишина. И прежде чем предаться законам ночи, супруги шли в мастерскую. Впереди Матро с лампой в руке, за ней – Габриэль с трепещущей живностью в потрепанном мешочке. С волнением в крови они переступали порог мастерской, вид которой всегда отрезвлял гробовщика, каким бы хмельным он ни был, и гасил радость Матро при виде гроба, получившегося коротким из-за неправильного обмера. Дрожа от озноба, Матро просила Габриэля поскорее закончить неотложные дела, приведшие их сюда. Но Габриэль бывал неумолим. Он ходил из угла в угол, оглаживая каждый предмет чувствительной ладонью, пока не отходил сердцем. Потом он развязывал мешочек прямо на верстаке и вытаскивал на свет какую-нибудь живность. Чаще всего ею были куры, редко поросенок. И только после этого Габриэль шел в теплую постель жены, чтобы старой кожей почувствовать тепло чужой жизни…
В отличие от своих собратьев мастеровых, не придающих особого значения кухне – стояло бы вино на столе, – Габриэль был еще и большим гурманом. Жарить курицу или поросенка доставляло ему истинное удовольствие. Проживший большую часть своей жизни в одиночестве, он приобрел такие познания в кулинарии, что дивилась даже Матро, считавшаяся непревзойденной стряпухой. Габриэль, как никто другой, умел так удачно подобрать специи, так неподражаемо перемешать их с гранатовым соком, натереть чесноку с корешками сельдерея и всем этим обмазать курицу или поросенка перед жаркой да развести соус с кинзой и хмели-сунели, что от одного пряного запаха захватывало дух. Потягивая сладостный аромат, соседи раздували ноздри, восхищенно восклицая: «Ишь ты, как он!..» Даже теперь, когда в доме была такая стряпуха, как Матро, Габриэль по-прежнему любил готовить сам.
– Соус, – поучал он Матро, пробуя его с ладони, – необходим мясным блюдам, как хороший лак – опочивальне…
Обедал Габриэль, как правило, в мастерской. Уплетая лакомые куски и отмечая каждое глотательное движение упоительным прищуриванием, он тепло окидывал взглядом мастерскую и мечтал о новом заказе, который мог бы позволить избежать небольших погрешностей, какие еще подмечал он в завершенных работах. И думать об этом тоже было приятно. Но иногда, без видимой причины, вдруг находила на него «хмурь», как говаривала Матро, и тогда он во всех своих работах не видел никаких признаков совершенства. Совершенство, к которому он стремился, должно было стать результатом долгого труда. Но острые глаза его видели только изъяны. И им не было числа и конца. «Где же предел моим мукам?» – бормотал он, все больше грустнея от мысли, что не достичь ему желаемых результатов. Но какими они должны были стать и в чем выразиться, он не мог себе четко представить. Знал лишь, что ремесло его, при всей необходимости, служит лишь успокоившемуся дыханию… «Зачем они, эти гробы, если в конце концов все должно соединиться с землей?..» Но дальше этого открытия он не шел, пугаясь собственных мыслей, и, покинув мастерскую, бурей носился по саду.








