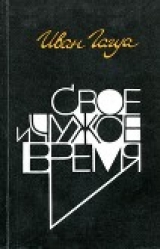
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Ну а пока по улочке, сотрясая грузную плоть, спешил Глеб Кирьянович, женщины, свято веря в милость судьбы, причитали, упрекая висельника в жестокости…
– Тятя! Тятя! Что ты наделал, тятя!
Или:
– Как же ты так, Прошка? Нас-то на кого оставляешь? Как жить-то будем?..
И на громкое женское отчаяние, как полагалось ангелу-хранителю, Глеб Кирьянович отвечал тяжелым сопением, расталкивая толпу, и с особой сноровкой снимал Прошку с петли-удавки. А затем, встряхнув его как следует, широко улыбался, качая головой:
– Ты что, сукин кот, «всухую», что ли, решил обтяпать такое дельце…
И тут торжественно зашумевший «хор» обступал свой «театр» с его главными участниками, понимая, что и на сей раз не нарушена привычная канва драматургии, покоящаяся на твердой вере земного притяжения, по мудрой причине которого Прошка оставался в пределах своей деревни с гусиным прудом и белостенной церковью, о чем недвусмысленно подтверждал сам Прошка с трогательным христианским милосердием:
– Поживу еще с вами, что ли…
И Прошка жил до следующего раза. А деревня, мало-помалу уверовав в некую мудрость постоянства, стала остывать к своему «театру», тем паче ничего нового не сулившему, и ударилась в телеэкран с профессиональными актерами, красиво перевиравшими жизнь.
А Прошка, вновь обретший земную устойчивость, исправно ходил на ферму, где работал электриком. И хотя Кудиново лежало неблизко от Прошкиной избы, но жители этой деревни к его приходу на работу во все подробности бывали посвящены. А потому Прошка, чтобы не заговаривать с ними, целыми днями колупался в доильных аппаратах под началом обезумевших без мужней ласки доярок, числившихся на ферме соломенными вдовицами, так как мужья большинства из них были в бегах: кто бродяжил на южных, богатых вином и овощами «зухденских» землях, служа какому-нибудь оборотистому домовладельцу, укрывавшемуся от преследования закона; кто сгинул на широких российских просторах в поисках лучшей доли на свободных хлебах.
Прошка был смекалистый и быстрый на руку работник, также очень внимательный к женским страданиям.
– Ты, Нюрка, не очень-то по Гришке своему… Ляд с ним! – утешал, бывало, он, прижимая к груди очередную соломенную вдовицу. – Не кувякайся, баба! Ничего хорошего от мужиков нет… окромя порчи телесной…
Чего только не говорил Прошка, чтобы утешить. Молол всякий вздор, что в голову придет, и лицо, настрадавшееся долгим ожиданием и одиночеством, помнет этак бережно и нежно, как когда-то Ксюше, и, глядишь, баба отойдет, зальется краснотой по щекам – куда девалось страдальческое выражение…
И той же доверчивой нежностью платили Прошке доярки, оберегая его по-детски легко ранимую душу, тепло заглядывая в глаза.
– Ой, Прошка, усыхать ты чевой-то стал… Не холит тебя баба! Смотри, как бы не заспала тебя во сне…
И Прошка улыбался, отвечая на шутку шуткой:
– Блоху-то не заспать! Она юркая и жалистая…
Прошка всей семьей работал на ферме: жена дояркой, дочь – телятницей. Все трое по осенне-весенней хляби месили краснозем, обрастая с работы домой и из дома на работу «коростью», не жалуясь и не кляня деревню за это.
И когда случалось всем тем, кто работал рядом с Прошкой, узнать про его очередные «дела», коротко, ограждая его от злых насмешек, цедили сквозь плотно сжатые губы:
– Ой, бабоньки, душа-то евонная скучат. Пожалеть, да как его пожалеш, коли по земле-то не ходит…
Учитывая усердие Прошкиной семьи в работе, завфермой Чулак Николай Феофанович всякий раз ставил вопрос на правление о премировании для излечения Прошкиного «недуга» путевкой на воды. Но тут неожиданно наступала весна или осень со всеми неотложными делами, возникавшими на ферме, и оттягивали разговор о путевке, а порой и вовсе забывали. А Прошка не высовывался настолько вперед, чтобы его заметили. Но однажды Чулак Николай Феофанович подошел к Прошке, положа на плечо ему руку, с озабоченной улыбкой вручил на миргородские воды путевку, считай, задаром, и напутствовал:
– Ты смотри там, Прошка!.. Главное, попей водички и погрейся!
Здесь уже давно мели сыпучие метели и потрескивали морозы, и благодарный Прошка пустился с большой охотой в свое первое в жизни путешествие, чтобы испить вкусную водичку с теплом чужого края.
Ехал Прошка через Москву в далекий Миргород.
Ровно через сутки и пятнадцать часов, под самое утро, он приехал в Москву и жутко ее испугался: скопище народа по раннему часу; бесприютно поеживаясь, жался: муравейник, и только! Серое бесформенное пятно, ждущее особого сигнала. И то сказать, не успел поезд еще остановиться, как пятно растеклось, разрастаясь в устрашающие размеры, и давай напирать с перрона на вагоны навстречу живому, еще теплому потоку, чтобы растерзать его численностью. А народ-то какой… Идет не оглянется, головы не подымет, прет силою духа и сердито глазами, как исхлестанный конь, ворочает. Тьфу! Срамота двадцатого века!
Нет, не понравилась Прошке Москва! Совсем даже не понравилась, потому как она оказалась не русским городом! Взяли ее, должно быть, чужеземцы с кудлатыми головами, не покрытыми даже в зиму морозную. Что ни спросишь у русского, так набычится, словно ты объедать приехал, и хмуро исподлобья рявкает: «Не знаю!» А ежели и скажет, так в другую сторону пошлет, потому как головы не подымает. А вот, к примеру, остановишь какого-нибудь – их там тьма-тьмущая – кудлатого со смуглыми щеками, так тот еще и приятно улыбнется и, называя почему-то тебя Васей, скажет: «Ты не спрашивай их, Вася, они Москвы не знают. Вот садись на метро и прямо, без всяких пересадок, дуй на Киевский!»
Под вечер Прошка кое-как добрался до Киевского вокзала крепко сердитый на русских за то, что они бесшумно сдали Москву. Споили, видать, русских и тепленькими взяли сонных под забором. Господи, что творится на белом свете! Бей в свои колокола! Али языки у них повыдирали вороги черные!..
С плохим осадком на душе Прошка поднялся в свой вагон и под угрюмый перестук колес покатил в Миргород.
Попив в Миргороде, что при реке Хорол, энное количество водички и откушав энное количество калорий, обусловленные самой путевкой, чужого вкусного тепла, перемешанного с лукавым юмором, Прошка вернулся домой, но ничего про воду и тепло не рассказывал. Зато привез зажигательную и бурлящую страстями песню, а с ней и образ жгучей полтавянки.
В первую же ночь по возвращении домой, храня верность и полтавянке, и песне, Прошка в супружеской постели не тронул жену.
– Ты уж прости меня, – сказал он с непреклонной гордостью и отвернулся от жены, дабы не видеть заплаканные глаза женщины, которая верой и правдой прошагала с ним двадцать лет. – Как только получу письмо, я уеду от вас…
Жена плакала всю ночь за спиной мужа, но словом не обмолвилась. Знала, что нелюбима. Женился-то Прошка на ней супротив своего желания, мстя ее сестре Ксюше за гордость того прощального вечера…
Утром, когда Прошка начал скоблиться ржавым-прержавым лезвием ленинградского производства «Нева», жена сразу поняла, что на сей раз Прошка не развлекает себя выдумкой, а хранит свою верность вполне конкретной особе. В пользу этой догадки говорило и карманное зеркальце, на обороте которого была приклеена фотография юной полтавянки с томными глазами игривой кошечки.
Вглядевшись через плечо мужа в свою ненавистную соперницу, Прошкина жена страдальчески скривилась, обмирая от жгучего сознания, что перед такой «кошечкой» не устоять не только ее слабовольному мужу, но даже и Глебу Кирьяновичу, пользовавшемуся в подобных делах грузной устойчивостью к суетному соблазну мира, заканчивающемуся тяжким грехопадением.
Прошка между тем соскабливал с лица желто-белую мураву, время от времени вертя зеркальцем и напевая с каким-то душераздирающим лукавством зажигательную песню, способную поднять из гроба и мертвеца столетней давности: «Ты ж мене пидманула, пидманула-пидвела…»
Почувствовав себя несчастно-одинокой и жестоко обманутой, Прошкина жена вылетела из избы с громкими рыданиями, стыдясь своей поношенности перед той, которая теперь разлучала ее с Прошкой, и скрылась в сарае.
– Зачем ей, такой молоденькой, мой Прошка? Замучает ведь его… – плакалась она судьбе, оглаживая буренку и поминая при этом недобрым словом профсоюз, с чьей легкой руки, можно сказать, овдовела в одночасье.
– Вот вам и курорты! – судачили на ферме доярки, прознавшие семейную трагедию, рожденную курортным блудом. – Отпускай после этого мужиков на отдых! Знамо дело, как они там отдыхают…
Однако Прошка был неумолимо тверд в решении. Любовь – не такой уж товар, чтобы легко поступиться ею… И он в соответствии с принятым решением перешел жить в темную комнату, поставив в ней раскладушку в ожидании письма из Полтавы. А пока на том конце земли, далее которой, по представлению Прошки, была пустота, писалось столь желанное письмо, Прошка делал привычные дела: ходил на работу, с работы на пруд. И лишь поздно – к себе на раскладушку. Бывало, иногда в неизъяснимой грусти забредет на погост, где рядом с дубовыми крестами, давно подгнившими, стояли кусты чертополоха. И глядит на продолговатые коробочки, защищенные мелкими иглами. А синие глаза цветка, тронутые светом тихого удивления и торжества, глядели Ксюшиными глазами влюбленно и гордо оттуда, из того прошлого, может быть, из небыли…
Бродя теперь между могилами тех, чьими руками ставились илькинские избы, возможно, и сама церковь, такая белолицая и волнующая, Прошка печально задумывался. На дне этого суглинистого погоста лежали и останки его родителей. Сейчас об их существовании напоминали холмики да кусты чертополоха, поднявшиеся торжествующей дерзостью забвения.
Однажды, возвращаясь после очередной прогулки с погоста домой, Прошка наткнулся на вечерней тропе на Ксюшу и онемел от неожиданности. Шла она ему навстречу, но, приблизившись, отпрянула в сторону.
У Прошки часто-часто забилось сердце, но он не сделал никакой попытки догнать ее… Почувствовав это, Ксюша сама вышла из своего бегства к нему, ища в бессвязных словах оправдания своему поступку.
– Хотела к Чередуриным, да вот занесло на тропу…
Вечер был лунный. Лунная завораживающая тропа из далекого далека текла горькой болью в жилах.
Прошка прямо взглянул на Ксюшу, но не увидел ничего от прежней и потупился, переминаясь с ноги на ногу, не зная, о чем говорить.
Но тут Ксюша разорвала наметившееся молчание неожиданным вопросом:
– Правда, что вы с Анюткой разводитесь?
Прошка поднял лицо и невидяще уставился в какую-то даль мимо Ксюши, чувствуя, как таинственно и легко переливается по всему организму лунное сияние и подбирается своим теплом к памяти.
Он потянулся к Ксюше детскими ладонями, дотронулся до ее лица и тут же, почувствовав какое-то нестерпимое жжение, отдернул.
– Значит, покидаешь нас вовсе? – снова с трудом заговорила Ксюша, печальная и покорно-тихая.
– Покидам! – сказал Прошка мстительно, с умыслом коверкая свою речь под крестьян, которые, когда-то приехав сюда из другой области, обосновались на этой стороне со своими твердыми и укороченными окончаниями в словах. – Покидам, Ксюша!
Ксюша вновь, как много лет тому назад, вырвалась вперед и, крепко закусив губу, растаяла возле чередуринской избы.
Остаток пути, как и тогда, они прошли розно, уходя в свои повседневные заботы.
День за днем прожигал Прошка в ожидании письма, всякий раз встречая Филю, слабоумного почтальона, с одними и теми же напоминаниями никому не вручать адресованного ему послания. Но ожидаемое письмо, как назло, запаздывало, рождая ухмылку соседей, горевших желанием прикоснуться к чужой любовной тайне… Однако, несмотря на то, что сменялись времена года, завеса над тайной оставалась задернутой.
– Врет! – сказал кто-то, когда внезапно нагрянула присушливая любовью весна.
И слухи эти поползли, не пощадив и Прошкину дочь Таню.
И она по рани весеннего дня пристала к отцу поглядеть фото, на что Прошка, после долгого сурового цыканья, ответил согласием.
Он бережно вынул из кармана квадратное зеркальце, на обороте которого была наклеена фотография, и, не давая его в руки дочери, показал, сам вместе с ней любуясь особой, звавшейся Оксаной.
– Тятя, какая красивая!.. – задохнулась дочь от восторга.
– Ладно, будет! – оборвал ее счастливый Прошка и спрятал зеркальце в карман.
На этом закончилось знакомство Тани с Оксаной, двух девушек примерно одного возраста, но так как адрес последней нигде не указывался, писать не только Тане, но и самому Прошке было заказано.
– Наверно, родителей своих боится… – предположила Таня, по-своему утешая заждавшегося послания «тятю».
– Не твово ума дело! – небрежно, с норовом истинного илькинца отрезал Прошка домашним просторечием.
На следующий день сперва ферма, а затем и две деревни – Илькино и Кудиново – получили сведения о том, что будто бы Прошка таки дождался своего письма из Полтавы. И все мужчины двух деревень разом пришли в удивление тому, что Прошка стал предметом обожания молоденькой девушки, когда в нем ничего интересного не просматривалось – сухожилия да кожа…
Однако Прошка был иного мнения на этот счет. Он-то знал, что за сухожилиями да кожей кроется человек. Им-то до конца своей жизни не разглядеть в нем то, что разглядела полтавянка. Эх, люди, люди, что вы знаете друг о друге, окромя того, что разглядели глазами?
Прошка знал себя лучше и вовсе не знал, скажем, что у Глеба Кирьяновича за душой, так как, надо полагать, он состоял из мелких цифирных атомов, расщепленных для балансовых отчетов и других неодушевленных червячков, разъедающих современные личности от науки… И заспешил Прошка в дальние края, наспех бросая в потрепанный чемодан личные вещи под веселый смешок дочери, разглядевшей на обороте зеркальца знакомое лицо шансонетки.
– Ну и артист ты, тятя! Это же вовсе и не полтавянка. Это же – Лариса Мукачина!
Прошка замер над чемоданом, старея на глазах дочери. Рука беспомощно провисла, не зная что делать; выгребать обратно вещи или продолжать начатый сбор в дорогу… Глаза налились детской обидой и уставились в пустоту.
Весть о том, что Прошка выдумал полтавянку и даже саму песню, скоро облетела и ферму, где облегченно вздохнули доярки, нежно коря незадачливого любовника.
– Ну что ты так на себя набрехал, Прошка?..
И Прошка, не любивший грубого слова, отнимавшего у него светлую мечту, вздрогнул. Какое обидное слово! В жизни никогда не брехал. Набрякли и закуржавились глаза.
Быстро побросав инструменты в ящик и задвинув мертвый доильный аппарат, предназначенный для ремонта, под лавку, Прошка короткими рывками покинул ферму и пошел старой балкой, словно кто-то подгонял его тычками в спину.
День стоял ясный и теплый.
Во всей деревне, являя жизнь, бок о бок сидели Матрена Черных и Иван Чередурин, подставив отмирающую плоть щедро струящемуся теплу.
Прошка прошел мимо них к пруду и, опустившись на излюбленную корягу, тихонько заскулил в детском отчаянии.
– Маманя родная! Маманя родная! Что делать, как жить? – И теплые слезы от нахлынувшего воспоминания по матери закапали по щеке.
Но родная маманя давно почила, чтобы утешить сына в эти минуты.
Прошка поднял голову и, не утирая слез, поднялся и пошел по заросшей тропе к церкви, волнующе сверкавшей на фоне голубеющего неба.
Затерявшаяся в высоких лопухах тропа тянулась под кирпичную арку, выложенную из красного кирпича. Хотя ни справа, ни слева она продолжения в виде забора не имела, а потому утратила первоначальное значение, все же даже в таком виде арка была неотъемлемой частью той далекой памяти, когда люди из окрестных деревень, теснясь по праздникам, оставляли здесь нечто такое, что невидимо воплотилось в этой кладке. Тогда и сейчас просветом своего овала арка приближала небольшую площадь, вытертую лаптями, паперть, уже развалившуюся, и конечно же саму церковь.
Постояв с минуту-другую под аркой, Прошка медленно зашагал к церкви, на разъеденном куржачиной куполе которой чернели его обнаженные ребра, венчавшиеся крестом-самолетиком, взмывшим в радостную синеву…
Возившееся в своих гнездах, сооруженных из сухих ветвей, воронье под куполом, заметив приближение Прошки, покинуло чертог, с хриплым карканьем унеслось к погосту и облепило там редкие деревца рябины.
Вход в церковь был заколочен досками еще с времен, когда в ней хранили картофель и фураж, а также корзины-плетенки, ящики со стеклом и иные необходимые колхозу предметы и орудия труда, нуждавшиеся в укрытии от долгой зимней непогоды. Теперь, когда тачая необходимость отпала, кто-то отвалил две доски, образовав довольно удобный лаз, и при желании церковь могла стать доступной не только Прошке с его худосочной комплекцией, но даже и Глебу Кирьяновичу.
Прошка вплотную подошел к лазу и нырнул в него, вдыхая застоявшийся запах известки и пыли, невольно натыкаясь взглядом на картинки.
Картинок было множество, но Прошке понравилась одна, чудом уцелевшая от рук человеческих и постоянных смывов почти в первозданном состоянии. Потом он догадался, что не достала рука человека осквернить лик измученного истязаниями Иисуса, теперь взиравшего на него скорбными глазами. Во взгляде мученика читались и укор, и сострадание человеку, вступившему на путь предательства. И Прошка, соображая все это, сердцем крепко возмутился на все человечество за низость и пал в покаянии на колени.
– Господи! – прошептал он внутри себя и, веря своему жесту, воздел к нему руки. – Господи, спаси человека, понеже не ведает в делах своих, что творит… Останови меч безумца, занесенный над собственной жизнью! – Прошка хотел еще о чем-то просить у всевышнего, но тот, не меняя печального взгляда, осуждающе воззрился на него, словно говоря: распнул меня, человек, а теперь на коленях стоишь перед моим страданием? Унизил плоть мою насмешкою пытки, а теперь поклониться праху пришел, человек, али восставшему духу моему? Иди и ты в страдание и познай себя самого! Собирай подрон с земли оскудевшей и питай свое сердце, чтобы восстать из ничтожества обновленным и чистым яко роса… – Прошка с клокочущим в горле сердцем слушал разгневанный глас божий и плакал от непостижимого горя, углядев на стене сквернословие, уже поблекшее от давности, смыслом и размером своим остававшееся таким, каким нанесли его концом головешки.
Чья-то деревянная рука, собрав в одну срамную комбинацию три огромные буквы над ликами святых, осененных нимбами, теперь уже ставших похожими из-за потускневшей росписи на кокошники, осквернила их.
Над ними, над этими святыми, и разместились три буквы – над каждым по букве, и оттого, что одна из них, заключавшая комбинацию буква оставалась без полумесяца над темечком, слово выражало понятие во множественном числе, то есть каждый из святых был по разу тем, чем все трое вместе…
Такое кощунственное деяние человека окончательно отвратило Прошку от веры в человеческую справедливость, и он, не поднимаясь с колен, с надеждой выстрелил взглядом в купол и узрел чудо: Иисус, пробившись в прореху купола, глядел на Прошку крупными глазами с глубокого неба и, заслонив собою собственное изображение, благовествовал:
– Встань с колен, сын божий, и простись с земной юдолью, ибо ждет тебя царствие небесное!
Хотя всевышний ничего не упоминал о блинах со сметаною и медом, но Прошка понял его приглашение, зажмурился от жуткого счастья и трижды ударил челом. Однако, когда он вновь поднял лицо и открыл глаза, Иисуса в прорехе видно не было, лишь скорбный лик по-прежнему взирал на него с фрески и голосом Глеба Кирьяновича гремел во всю мощь:
– Прошка, бери деревянную ложку и иди блины со сметаною и медом есть!
Оскорбленный таким беспримерным кощунством Глеба Кирьяновича в святилище, Прошка быстро вскочил с колен и, задрав голову, плюнул на фреску, которая продолжала говорить голосом свояка… Но плевок, не долетев до цели, чмокнул Прошку по лбу.
– Паня́л! – тихо прошептал Прошка после некоторого раздумья и вытер со лба собственный плевок рукавом.
А с высоты, из глубины своего проникновения, проведавший еще одну свою тщету, продолжал глядеть Иисус на богохульника, внушая ему – рабу своему – подкожный страх…
Прошка пулей вылетел из церкви и пустился бежать к пруду, где прожорливые гуси, опустив шеи в воду и выставив грязные гузки, искали добычу.
– Фу, твари! – выругался он, глядя на гусей, но имея в виду Глеба Кирьяновича, дерзновенным превращением обманувшего его. – Лезут куда не надо!
Возвратившись как раз к ужину, Прошка, как в добрые времена, сел за стол и выложил руки в ожидании грибного супа, так приятно распустившего особый дух подсушенных опят.
Жена, заметив, что муж перегулял свое плохое настроение, примирительно-нежно «оходила» его взглядом и пошла за «маленькой», а поставив ее, налила полную тарелку супа и придвинула к нему.
– Ешь, Прошка, и не держи на нас зла за нашу бабью дурь!
Прошка раздумчиво поглядел на светленькую, потом, налив ее в стакан, залпом осушил и лишь после этого, утирая губы, взялся за ложку.
– Ладно, – сказал он грудным голосом и, опустив голову над тарелкой, добавил: – Кабы не сучья дурь, где бы взяться кобельей мудрости! То-то, выше головы не прыгнуть!
– Не прыгнуть! – озорно согласилась жена, сердито кося глазами на дочь, которую разбирал смех от разговоров взрослых.
Помолчав некоторое время, они вновь возобновили разговор, в который со своей иронией влезла Прошкина дочь, хохоча одними глазами.
– Тятя, ты чего это никуда не ходишь? – сказала она. – В кудиновском клубе сегодня кино обещали…
Прошка с болью поднял глаза на дочь и, прочитав в ее задоре легкую насмешку, снова уткнулся в тарелку, желая отмолчаться, но не сумев, отрывисто выдохнул:
– А потому не хожу, что брешут в кино…
– Что ты, Прошка! – возразила жена. – В кино все так красиво!
Прошка и сам понимал, что «красиво», но внутренне, не умея возразить, был против этакой красоты…
После недолгого ужина Прошка подался в чулан и вскоре выскочил оттуда с гармонью под мышкой и быстро направился во двор, вызывая у жены бесконечную тревогу ощущением надвигающейся беды, упакованной до поры до времени в черной утробе гармони.
Устроившись на завалинке за избой, Прошка растянул мехи и выдохнул первые неровные звуки, предвещая илькинцам не позднее чем завтра свое очередное действо, продиктованное особым зудом неспокойного существа.
Перескакивая с мелодии на мелодию и переливая их друг в друга, а потом и взбалтывая, как химические вещества в пробирке, Прошка томил уже заулыбавшихся илькинцев догадкою ожидающего их результата от такой игры.
И Глеб Кирьянович, для которого звуки Прошкиной гармони не были особым сигналом, хмурился, выйдя на крыльцо.
– Жди завтра представления! – сказал он вышедшей к нему Ксюше. – Прошка призывает к бдительности… Как это ему удается подгадать на субботу?..
– Будет тебе, Глеб! – тревожилась Ксюша, зная, что в сказанных Глебом Кирьяновичем словах таится тревожная правда. – Может, обойдется… – слабо утешалась она, поглядывая на двор, откуда, тревожа воздух, летели звуки гармони.
– Не обойдется, Ксюша! – твердил Глеб Кирьянович, запуская в бороду пятерню и с удовольствием сочетая страх жены с почесыванием в бороде. – Обязательно всех поднимет…
Под словом «поднимет» Глеб Кирьянович имел в виду – не даст деревне выспаться, а вместе с тем и ему самому.
– Попомни мои слова, – сгущал краски Глеб Кирьянович, зная, что эти страхи несут наказание Ксюше за привязанность к Прошке.
– Ой, господи боже ты мой! Опять ты за старое!..
Между тем вечер стал переходить в ночь и мелодия – в меланхолию, и ознобистый ветерок, пробирая пространство, трепать в низине подол ивняка и разгульно свистеть по оврагу, приплясывая деревенским босяком.
Почуяв приближение чужого времени, Прошка погасил гармонь и, поднявшись в избу, подсел к дочери, рассеянно смотревшей телепередачу.
На экране на фоне книжных стеллажей все тот же капустный оборотень предсказывал крах каким-то концернам и, приводя цифры, совершенно мертвые для Прошки, многозначительно заставлял свою речь длинными паузами, как бы давая Прошке и ему подобным разжевать эту политическую жвачку вместо ожидаемой песни или другого развлечения.
Прошка нетерпеливо ерзал на стуле, чертыхаясь про себя за такую нудную передачу. Неужто там не понимают, что работы хватает на работе, а политзанятия – по будням?.. Нужно ли людям ходить на политзанятия, если они ежевечерне по пять-шесть часов смотрят телепередачу?.. Но, к счастью, эта передача сменилась мультфильмом, веселым, хоть и незатейливым умозрением. Ну а когда завершился мультфильм басенным нравоучением, на экране вновь всплыл другой волшебник, который не раздумывая лил молочные реки с листа бумаги и возводил мясные пирамиды, расщепляя их для каждой живой души поболее, чем предусмотрено нормой…
– Какая прорва! – сказал Прошка иронически и фыркнул прямо на экран. А когда за экраном не поняли Прошкиного фырка, Прошка выключил телевизор и направился к супружеской кровати, в которой уже лежала жена, привыкшая к своему одиночеству.
Подлезая жене под бок, Прошка протяжно вздохнул, как бы раскаиваясь и прося прощения…
Жена, затаив дыхание, стала вслушиваться в дыхание долгожданного «гостя».
Прошка, не смея заговорить первым, продолжал молча вздыхать.
– Ты, что ль? – сжалилась жена и повернулась к мужу, едва сдерживая волнение.
Прошка виновато муркнул и, заслонясь ладонью от голубоватого сияния звезды, назойливо заглядывавшей в проем раздвинутых штор, вздохнул.
– Дочь-то вон как подросла, – шептала Прошкина половина, радостно и тревожно приникая к другой половине. – Все-то она уже понимает-знает…
Прошка, выдыхая с облегчением, обнял содрогающееся тело жены и, почувствовав, как оно оплывает страстью к нему, сам стал оплывать ею…
А когда получившая мужнее тепло жена уснула у него на правом плече, Прошка ощутил бесконечное сиротство и пустоту. Теперь сгоревшая страсть жгла его. Не умея раствориться в ней до конца, она унижала его потрясением тела, охваченного ознобом ради короткого удовольствия, после которого у него наступало полное отрезвление, а с ним раскаяние за невоздержанность, которая все равно не уводила от ощущения пустоты и сиротства… Фу, тоска-то какая!
Моргая глазами в темноте, где все еще стояло голубое сияние звезды, Прошка прислушался к тишине ночи, улавливая далеко за пыльной колеей едва различимый сигнал лесовоза. Вскоре сигнал погас, но зато назойливо занудил мотор на холостых оборотах.
«Он самый… – подумал Прошка, имея в виду чубатого шофера из Кудинова. – Слышит, но не отзывается!» – радовался он, но ошибся.
В соседней комнате застонали пружины, а потом послышались и торопливые шаги.
Прошка механически вытянул руку из-под головы жены и тихонько спустил ноги, прислушиваясь к шагам. Затем оделся, чтобы настичь дочь, но ее беспокойное существо к этому времени вынесло за калитку и бросило на тропу.
И вот, сам встав теперь на тропу, бежавшую мимо церковного двора к большой дороге, где неустанно все еще урчал мотор на холостых, он, загребая ладонями воздух, пустился вослед. Тропа то и дело брызгалась росой с высоких лопухов, стиснувших Прошку в объятиях.
Кое-как миновав церковный двор, с высоты холма Прошка углядел хищно подрагивающий лесовоз и возле него две обнявшиеся тени.
– Женихаются… – с горечью проговорил Прошка и прирос к холму, смущаясь собственного признания. Однако обратно все же не повернул, а тихой походкой зверя стал спускаться к машине, задыхаясь от неприятного предчувствия…
Когда Прошка наконец достиг дороги, вдоль которой стояли три раскидистые березы в изголовье крохотного лужка, обнесенного молодой порослью, он услышал сладостный стон девичьего голоса и обмер от посетившей его догадки.
Переждав минуту-другую, он все же шагнул вперед, но, добравшись до бровки поросли, скрывавшей за собой женихавшихся, отшатнулся: некто безобразный и сильный, как свирепый зверь, ненасытно урчал над опрокинутым лицом дочери, оттаскивая ее за выволоченные из-под сарафана молочно-белые груди, в своей бесстыдной наготе приобщившиеся к бессмертию…
Прошка невидяще отступил назад, унося голос дочери, исторгавшей жуткую боль счастья…
Добежав до сарая почти бегом, он громко зарыдал от горького сознания своей вины.
Сквозь белесый ситцевый рассвет уже пробивались первые внятные голоса пробудившихся птиц.
Прошка вытер слезы и выглянул из сарая, оглядывая окрестность, рдеющую стыдом девичьего румянца.
А деревня, дышавшая блаженной дремой, стояла покойно, лишь только там, за церковным холмом, два влюбленных существа вымучивали страждущие плоти в бесконечном желании перелиться друг в друга…
Прошка отступил назад и, заметив в дальнем закуте шумно дышавшую буренку, подошел к ней и начал гладить ее по холке, невольно поправляя веревку на рогах, выставленных короной.
– Глаза-то у тебя слишком понятливые, – с бесконечной нежностью горячо зашептал Прошка. – Шибко-то не убивайся… – И, заглядывая в грустные глаза животного, продолжал: – Хоть и бессловесное ты существо, а поди, все понимаешь… и человека вот получше, чем человек… а человек ушел от понимания живности! С неодушевленными предметами повязался и забыл тебя, да и самого себя-то потерял! Впопыхах врет друг дружке…
Коровенка внимательно слушала своего хозяина и в знак согласия лизала наждачным языком руку, словно ища с человеком прежнего контакта…
– Дуреха ты, – задыхался Прошка от нежности. – Я-то все помню, ничего не забыл! Теперь память мне обуза. Несу ее, а она все ниже и ниже придавливает… Стало быть, понимания нету… Не гляди так на меня… ты скоро получишь ее обратно… Так вот, разбежались, говорю, люди в разные стороны – и старики, и дети, и кто их теперь соберет… Люди-то должны жить большими семьями, а семьи – одним миром… Не серчай, ты ее получишь обратно… Ты и без нее к дому привязана… Ну-ко отвернись, как-никак человек и совестно…
Коровенка опустила дышащую паром морду и протяжно вздохнула как бы из прежней жизни, когда она была человеком, прознавшим еще оттуда про стыд и совесть… Вот из того далека преследует ее тоска, оттого-то в глазах бессловесное понимание.
На перевернутый подойник сверху упала какая-то песчинка, и она разбудила металл комариным зудением, а звук, покружив над Прошкиной головой, улетел и погас на пути к выходу.
Поддалась тяжелая и скрипучая дверь Ивана Чередурина, инвалида войны, вышедшего из избы помочиться по рани. И в самом деле, зажурчала водичка, полная жизни, запенилась под крыльцом. Мать честная, как хорошо-то жить! Воздух лезет в ноздри и несет благодать, и ноги-то сами идут – кто его знает куда, – идут, и хорошо… А погост стоит серенький, поутру сонный, с потусторонней грустью… Боже мой, какое близкое соседство между жизнью и небытием!..








