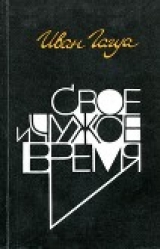
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Прошка повернулся спиной к коровенке – животина-то глазастая, насквозь пронимает пониманием…
– Спит, не шелохнется деревня! Не желат просыпатца, – мстительно прошептал Прошка, улавливая дремотное блаженство деревни, и с досадой вогнал в легкие воздух…
На тропе послышался гусиный топот спускающихся к пруду стад.
Заструился низами голубоватый дымок, мешаясь с горьким запахом полыни, и поплыл над окрестностью.
Прошка часто-часто задышал, а потом снова, наполнив грудь упругим воздухом, смущаясь своего голоса, стал его спускать из голосовых щелей, окрашивая призыв привкусом тревоги.
Но деревня не откликнулась на Прошкин призыв, предпочитая пьянящую сладостью дремоту. Зато в открытую дверь сарая заглянул кот Васька, шедший с ночной охоты в деревню, и, глянув на скатившийся подойник, протяжно мяукнул, удивляясь неаккуратности хозяина. На мяуканье буренка ответила тревожным мычанием и вылетела из сарая.
– Господи боже ты мой! – застонала Ксюша, увидевшая, как из сарая, брыкаясь, вылетела буренка, и невольно сошла с крыльца, кляня деревню за глухоту. – Помёрли, что ли, все разом?!
Но деревня беды не чуяла!
Чужая жизнь ходит стороной до тех пор, пока она не коснется ближнего своей смертью…
Аня, впервые за много недель уснувшая спокойным сном, разом проснулась, сердцем почуяв тревогу, но, не в силах разобраться в происходящем, еще долго сидела на постели, покуда не осенила ее тревога страшной догадкою…
Она наскоро выскочила в чем была во двор и припустилась к сараю, икая и крича от страха.
А за церковным двором вдоль большой дороги на крохотном лужке блаженно дремали две поборовшие стыд плоти, оберегая тайную святость союза…
– Глеб! – закричала Ксюша и, не дожидаясь ответа, подобрав подол халата, побежала к Прошкиному двору.
Над прудом дружно галдели гуси, пробуя крылья, все еще хранящие память дивного полета.
Завидев Ксюшу, уже вступившую во двор, Аня пронзительно застонала, выталкивая из гортани невнятное бульканье, и, разом сойдясь у раскрытого сарая, заскулили вместе в животном страхе: человеческая плоть, рожденная откровением двух плотей, пугала живых сознанием хрупкости жизни…
Вскоре вся деревня плакала о маленьком человеке, носившем в себе тайну большого мира.
Способность понимать чужую жизнь есть шаг к сочувствию… А запоздалое сочувствие к ближнему – слезы раскаяния…
Безутешно плакали илькинцы, понимая, что другого Прошки им взамен этого не дадут. И теперь, в запоздалом раскаянии ломая морщинистые лица, утирали раскрасневшиеся глаза, вместе с Прошкиной участью оплакивая и свою, и вообще человеческую, однажды начертанную свыше.
На четвертый день, то есть во вторник, в начале раннего вечера, по возвращении с похорон и близкие и соседи собрались за поминальным столом во главе с Глебом Кирьяновичем и, как водится в таких случаях, начали его с кутьи, горькой еды, пропитанной духом и привкусом потусторонности.
Не в меру смущенный и застольем, и тем, что предстояло ему сейчас вкусить, Глеб Кирьянович потянулся к общей миске и, набрав в ней полную ложку разваристого зерна, отправил в рот, отмечая значение этой еды остекленевшими глазами, повернутыми обозревать свою внутреннюю зримую пустоту.
С трудом одолев брезгливость к кутье, Глеб Кирьянович, вновь обретая зрение, стал приглядываться к соседям, чтобы обязательно облегчиться словами. Но слова, как назло, не шли с языка, застыв на нем свинцовой тяжестью.
– Я… – промычал наконец Глеб Кирьянович, обильно потея от волнения, и с придыханием уставился на Аню, то и дело плакавшую в траурный платок, уйдя в себя.
– Да чего уж там! – застонал Иван Чередурин, уставая слушать Глеба Кирьяновича, вымучивавшего себя.
– Я, – повторил Глеб Кирьянович и, переведя взгляд с Ани на ее дочь, приросшую плечом к своему чубатому шоферу, с угловатого лица которого лукаво играли серые глаза, наполненные неистребимой верой в завтрашний день, глухо прокашлялся.
– Да чего уж там, Глеб! – вновь перебил Иван Чередурин и, густо поморщившись, как перед смертельной атакой, налил полный стакан водки и залпом вылил ее в обожженный рот.
И живые, поминая горечью водки раба божьего Прошку, теснее втискивались друг в друга плечами, вышибая из памяти не только мысль о смерти, но и саму смерть, в тщете напрасной колотившуюся в раскрытое окно с крутого краснозема свежевытесанным дубовым крестом, объятым пламенем кровавого заката.
И только один Глеб Кирьянович, потерявшийся за поминальным столом, рассеянно блуждал глазами, явственно слыша чуть просевший глухой голос, воскресший, чтобы преследовать его, и потряхивал головой, натыкаясь на могильный крест, который непомерно маленькими руками пытался обнять необъятный мир.
Стесненный неизъяснимым противоречием, Глеб Кирьянович тихо отпал от стола и, опустив былинную мощь лица, шагнул из избы на улицу под неумолкающие голоса живых о живом, чувствуя знобящей спиной печальные взгляды сестер, таких разных, но несчастных одним общим несчастьем.
Слева от Глеба Кирьяновича бежала торопливая Прошкина тропа и, обогнув пруд с гогочущими гусями, спешила к погосту, с крутого склона которого из высоких кустов чертополоха стыдливо выглядывали синие цветы забвения…
Бабушара,
1986
ХРОНИКА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА
РАЗУМ – духовная сила. Даль. Толковый словарь

Ровно полвека тому назад, в ночь с субботы на иудейскую пасху с веселыми переливистыми дождями, Циля разрешилась от бремени – родила человечеству сына, а себе – утешение и радость. Новорожденный – в будущем Габо – с продолговатой головой гвинейца, словно выведенный из египетского рабства Аароном и Моисеем, сучил розовыми ножками, издавая радостный визг щенка, учуявшего близость материнского молока.
– Бася, вы получили точную копию вашего благообразного папаши Ефима Мунича! – сказала лживая повитуха, разглядывая крохотное животное, чья безобразная в пунцовых пятнах мордашка бежала тайною тропой к порогу единственного в городе женского парикмахера Шалико, известного в узком кругу под именем Есром.
Но сердито насупленная Бася, с брезгливой жалостью глядевшая на только что обмытого и закутанного в белые лоскутки младенца, более всего на свете являвшего слепок с корявого лица при большом носе с горбинкой колдуна женских головок на набережной, откуда по вечерам с полуулыбками на устах выплывали феерические создания, мрачно молчала, наслышанная об искусных руках Шалико, умевшего не только укладывать волосы вокруг кокетливых головок, но и не менее искусно зарождать в них легкомыслие, из которого впоследствии вызревали горькие плоды позднего раскаяния…
Помолчав минуту-другую, Бася презрительно выпятила слегка вывернутую наизнанку мясистую нижнюю губу с ярко-розовыми прожилками и брезгливо сморщилась, как бы давая понять пожилой повитухе, землистая плоть которой семьдесят лет тому назад была замешена на двух кровях – еврейской и армянской, – что этот ублюдок не может иметь ничего общего с тем, кого она упоминала в разговоре.
Тяжело переживая позор сестры, Бася время от времени со смешанным чувством жалости и негодования поглядывала на роженицу, притихшую в постели, и о чем-то напряженно думала.
– Спасибо тебе, Айзгануш! – сказала Бася, расчленив напряжение на преследовавшую ее мысль, а затем, оттенив каждое слово паузой, продолжала: – Пошел ли он в род Муничей… мы узнаем в четырнадцать лет, когда в бороду ударит рыжинка…
Таинственное пророчество, скрывавшееся за витиеватостью, хоть и не давало основания видеть грядущее зло, но тем не менее с полным подтекстом трусило к тому, кто был единственным носителем в городе рыжей бородки…
Айзгануш, как степные жители надвигают на лоб кепи от ослепляющего солнца, надвинув на мерцающие зрачки отяжелевшие веки до маленьких щелочек, понимающе кивнула, изучая из едва заметных прорезей крупное лицо Баси с лукавством, присущим полукровке, чья вторая половина пребывала в постоянном противоречии с первой.
– Каждый подол покоит свою судьбу! – сказала в ответ Айзгануш, стараясь не переходить границы дозволенного, и подняла продолговатое лицо на свет керосиновой лампы, словно призывая его в свидетели.
Обескровленная Циля сонно шелестела сухими губами, слыша хурканье того, кто был неотъемлемой частью ее плоти и крови и, отделившись, лежал теперь под правой рукой.
Не в силах оторвать от постели утомленное в муках материнства тело, она рассеянно блуждала глазами по комнате, внове узнавая населенные в ней предметы.
– Поспи! – сказала Айзгануш Басе, отделяя сестер от обращения к ним во множественном числе. – Я посижу до рассвета… – Она встала со своего места в изножье и подошла к Циле. – А тебе, девочка, тоже нужно хорошо отдохнуть! – И, коснувшись ладонью лба роженицы, ощутила жар, о чем сообщила глазами Басе. Та моментально вышла в соседнюю комнату за компрессом.
На окраине ударили петухи. Голоса их, увязая в предрассветной мгле, на время угасли, а затем через равные промежутки, набравшись сил, вновь вспыхивали с новой силой, неся просоленный озноб с тяжелым придыханием моря.
Айзгануш, как всякий суеверный человек, недолюбливала петухов за их суматошный нрав. Они для Айзгануш всегда оставались предвестниками плохих вестей. Вроде бы не о чем тревожиться: давно схоронила мужа, не давшего ей потомства, но, когда ором орали петухи, всегда сжималась до боли в костях и с затаенной скорбью ждала чего-то такого, чему не было имени, кроме подспудного страха.
Вот и сейчас, коротая ночь в изножье на маленьком стульчике, с бьющимся в горле страхом она прислушивалась к слабому дыханию Цили, так приятно напоминавшей Айзгануш своими мягкими чертами лица Фиру, мать. Особенно теперь, когда с лица Цили сошла игравшая смуглость, она повторяла возраст и красоту той женщины, которой восхищался весь город со дня приезда Муничей.
Появились Муничи нежданно-негаданно из северных ворот города на роскошном фаэтоне, разукрашенном разноцветными пампушечками, словно оповещая своим выездом начало затевающегося карнавала.
Экипаж вкатился в город в полдень и, описав круг, въехал в блаженный апрель, волнующий и горячий безмятежным течением остановившегося времени, чтобы приобщить каждого смертного хоть на мгновение к чувству бессмертия.
Тепло разодетая семья Муничей с достоинством и удивлением разглядывала улицы города, утонувшего в тропической невидали, ублаготворенной диковинными пальмами и широколиственными гигантами, и под шуршание вращающихся шин улыбалась открыто, ослепленная солнечным светом и синью моря.
Айзгануш, как и многие другие жители города, ставшая свидетельницей этого события, не могла скрыть своего восхищения…
А каурые, грозно всхрапывая, лихо неслись по мощеным улицам, гулко отбивая дробь искрящимися на солнце подковами. Когда же фаэтон несколько раз кряду промелькнул на одной и той же улице и взял наконец направление к особняку Месропа Микоэляна, неугомонного контрабандиста, умерщвленного турками во время очередного рейса из Трабзона в проливе Дарданелл, вслед за фаэтоном потянулась и толпа со всех близлежащих околотков, сообщая свои догадки друг другу относительно особняка, распроданного со всем имуществом последним из клана Микоэлянов, его двадцатипятилетним сыном Киркором, наделенным приятной наружностью при томных девичьих глазах, унаследованных от матери-эфиопки из народности сидамо.
Киркор со своей темнокожей матерью, убитой горем, встретил новых владельцев у ворот, и, когда фаэтон осадил возле, он подошел к фаэтону и любезно помог сойти красавице, умирая от соприкосновения с ее рукой.
– Пожалуйте, сударыня! – сказал Киркор, чувствуя, как прирастает язык к небу, а по спине разгуливает лихорадка. Затем, теперь боясь поднять глаза, он помог сойти девочке-толстушке со сдобными щеками, продавленными с двух сторон чьим-то неудержимым нажатием указательного пальца, и встал рядом с матерью, облаченной в траур.
С другой стороны фаэтона сошел сам хозяин с черной, аккуратно подбритой бородкой и, не разделяя особой радости жены и дочери, уже раскланивавшихся с зеваками, что-то шепнул фаэтонщику, наряженному диким абрагом целым арсеналом оружия, и повернулся к калитке:
– Ведите, князь!..
На что фаэтонщик ответил хохотом белков, сверкнувших холодом мусульманской ярости в адыгейских мелких чертах чертенка.
Киркор, повинуясь чужой воле, ввел во двор микоэляновского клана чужеземца и навсегда покинул его, неся сладостную истому в крови от встречи с красавицей.
– Клянусь! – прошептал он по-армянски и поднял два пальца. – Я еще вернусь и сполна верну украденную честь рода Микоэлянов…
Эта клятва несла в себе угрозу, как всякая клятва, и полный и беспощадный смысл ее открылся лишь Айзгануш, стоявшей тогда в толпе зевак, и защемило у нее в груди от того, что рано или поздно должно было открыться всему городу. Не мигая крупными красивыми глазами, Айзгануш сочувственно провожала взглядом Киркора с его матерью, неотступно думая о семействе Муничей, к которому она прониклась уважением и жалостью. «А что, если всякий житель города обяжет себя подобной клятвой?» – подумала Айзгануш и обмерла, вспомнив о муже, который пропадал на табачных плантациях, на которых работали лукавые турчанки.
Айзгануш, разматывая нить прошлых дней, огляделась. Фитиль керосиновой лампы, изрядно обгоревший, мерцал под стеклом, как память по миновавшим дням.
Уронив голову на подол, тяжело дышала Бася, не расставаясь и в дреме со своим беспокойством.
А синий густой рассвет наотмашь бил по стеклам, ослепляя комнату туманной мглой, пропахшей морской прогорклой солью и запахом истлевшей рыбы.
Помолодевшая на добрую половину своего возраста, Айзгануш вновь погрузилась в воспоминания, с некоторым смущением ища оправдание своей звериной привязанности к Ефиму Муничу, которого втайне от своего мужа Геворга и самой Фиры страстно любила. И хоть все они давно пребывали в запредельном мире, в нетях, но волнующие чувства к Ефиму не покидали ее сердце и по сей день. Если в те годы думать о Ефиме было строго-настрого запрещено самим богом под смертным страхом позора, то и теперь Айзгануш преследовали усопшие – Геворг и Фира, так как свято верила в то, что им из запредельного мира ведомы все ее прежние прегрешения с сегодняшними помыслами о грехах…
Это открытие она сделала вскоре после смерти мужа, оставившего бренный мир от внезапного удара во время попойки с молоденькими турчанками с табачных плантаций.
Похоронив Геворга со всеми почестями на армянском кладбище, Айзгануш возвратилась в свои комнаты и упала замертво от усталости и непомерной для молодой женщины свободы… Но недолго спала. В образе темного платяного шкафа явился Геворг и, широко расставив громадную фигуру в углу комнаты, громовым голосом прогрохотал:
– Спишь, значит, и млеешь!..
Айзгануш вскрикнула и замерла от животного страха перед Геворгом.
– Зачем ты пришел? – вдруг неожиданно для себя вымолвила Айзгануш и, тут же поняв весь ужас, заключенный в этих словах, ладонью прикрыла рот.
Геворг сердито двинул стул и сделал шаг к кровати:
– Рассказывай, ахчиг[1], как ты с бородачом на еврейском ворковала?.. – Геворг вдруг расхохотался. – Недолго ему мять чужую жену в отместку своей… Умрет Фира, оставив помет от Киркора, но и та девочка, которая родится, будет несчастна…
Айзгануш потеряла сознание, а когда пришла в себя, то за окнами комнат занимался солнечный день. Шкаф, который давеча был Геворгом, теперь был неподвижен, но таил в себе тайну ночного посещения.
Айзгануш захотелось незамедлительно умереть в этой комнате, где неотступно преследовал ее дух Геворга, смущая даже мысли, зарождавшиеся против ее воли.
Она перевернулась на другой бок, чтобы не видеть ненавистный шкаф, и сладостно заплакала слезами обреченной на немедленную смерть, дабы упиться сознанием собственной кончины. Но тут на ум ей пришел Ефим, оставленный всеми, даже любимой Басей, лукавившей с ним, и она, мужняя жена, вдруг всем существом своим ощутила неистовство чужого мужчины… «Вдовица, дай мне жаждой твоей упиться! – И запрыгало сердце в груди. – Господи, откуда все это? Кто устами моими говорит?»
– Бес, ахчиг, бес! – шепнул ей на ухо знакомый голос, тонувший в благовониях лукавых турчанок, заставлявших неразумную голову большую часть от выручки с табака на стамбульских рынках тратить на себя.
Ночью вновь явился Геворг, круша на пути стулья и низенький столик.
– Трепещи, грешница великая! – сказал он весело и встал над ней.
Айзгануш вскрикнула что было мочи, выбежала в чем была на крыльцо дома Аракела Аракеляна, сдававшего комнаты за умеренную плату, и тут же рухнула. И, когда до смерти оставалось всего лишь несколько секунд, ее привел в себя знакомый запах чесночного соуса.
– Айя! – сказал человек. – Бобошка моя пропала да Басеньки нет…
Айзгануш, которую назвали так нежно, обвила шею Ефима и вместе с ним заплакала от отчаяния и радости…
Так изо дня в день Айзгануш платила за свою радость буйством Геворга, не желавшего ее простить. Он являлся еженощно к ней и до смерти запугивал свою неверную, пока она не обратилась к старой турчанке, занимавшейся заговорами.
Старушка внимательно выслушала Айзгануш и, ворочая двумя сухими сливами-глазами на пепельном лице, несколько раз кряду чихнула на сердолик, покоившийся у нее на засохшей, как кизяк, ладони. Потом она крепко зажмурила глаза, откинула голову назад и, словно мертвая, приоткрыла рот, откуда зажурчало колдовское журчание.
Айзгануш сидела как истукан, затаив дыхание, и ждала, когда колдунья наконец откроет глаза.
Но вот на лице турчанки сухо засверкали сливы, подернутые мглой.
– Твоего мужа, – сказала она, часто-часто шлепая губами, – я увела в Трабзон… Он теперь будет являться тем, кто пользовался от труда его…
Айзгануш открыла рот от удивления и досады. «Боже мой, – подумала она, – зачем его так далеко?.. Там же турки!» Она не понимала, что усопшего уже нельзя зарезать, как еще сравнительно недавно зарезали армян.
Расплатившись с турчанкой, Айзгануш бежала домой, подобрав подол платья, чтобы дать волю слезам. Хоть она и не любила своего мужа, но было его жаль. Как-никак чужбина есть чужбина. И там долмой[2] не кормят…
Даже теперь, когда минуло столько лет со дня кончины Геворга, так ни разу и не побеспокоившего ее после заговоров благодаря старой турчанке, она нет-нет да вспоминала его попреки за ее принадлежность к еврейской крови, словно от нее зависело, кем ей родиться.
– Жидовка пархатая! – кричал Геворг на Айзгануш, когда она, нафаршировав мясо, рыбу или овощи по наущению одного из своих предков, подавала на стол. – Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не смела подавать еду, однажды кем-то уже жеванную?!
И Айзгануш, не очень уж лелеявшая в себе первую часть своего дыхания из-за отца, слишком рано сделавшего ей ручкой и сгинувшего в направлении Житомира, сейчас невольно была вынуждена защитить то, чем в равной степени – и от евреев, и от армян – владела, отвергая при этом одну из составных частей целого другой.
Чаще всего для протеста Айзгануш пользовалась местными выражениями, на первый взгляд безобидными, но довольно желчными, что выслушивать конечно же не доставляло удовольствия Геворгу, имевшему помимо острого языка и тяжелую руку. Но промолчать Айзгануш не могла, потому что две крови раздирали на части своими беспощадными противоречиями ее плоть.
И вот, получив очередной урок от Геворга в виде шамаров – затрещин, Айзгануш роняла голову на подол и начинала причитать.
– Получили как следует!.. – Она имела в виду две крови, из коих состояло ее существо. – Теперь тащите, как волы, в одной упряжке не очень-то удобную колымагу…
И две эти крови, как они там ни вздорили друг с другом, вполне удачно провели «колымагу» через революционные бури до сегодняшних дней и даже сделали Айзгануш причастной к тому, что на свет появился новый человек, внук Ефима.
Айзгануш живо представила доктора с чесночным запахом бороды и с профилем Иисуса, отощавшего заботами о ближних. Правда, заботы доктора были далеко не альтруистическими, но тем не менее он работал не зная ни дня ни ночи.
Медная табличка на дощатых воротах, за которыми и стоял особняк в два этажа, сложенный из темного кирпича, указывала каждому страждущему, что именно в нем у доктора Мунича можно получить исцеление от всех болезней.
И город валом повалил к нему, выявляя у мужской половины повальную малярию.
Мучительный озноб, полученный в ребро во сне без сна, к утру поднимал князей в дорогу и лабиринтами города вел к порогу Муничей, где за особое пристрастие к семейству доктора надлежало проглотить три-четыре таблетки тут же из рук хозяйки, чьи голубые небеса, словно умытые грозой, лучились синевой на беленьком лице нежного овала.
– Бобошка, – тихо бросал доктор за ширму, заканчивая осмотр своего пациента с лукавством Иисуса, проведавшего чрезмерную слабость человека к грехопадению, – дай-ка, пожалуйста, нашему дорогому князю четыре таблетки хинина!
И очередной князь за свою золотую принимал добровольные муки на глазах одной из красивейших женщин с героической стойкостью, запивая горечь хинина горечью своего унижения – теплой водой, чтобы в конце этой унизительной процедуры вожделением отравленным взглядом прелюбодействовать с НЕЮ в сердце своем…
Покидали князья двор Муничей так же внезапно, как и появлялись, оставляя за калиткой желчные плевки досады. А доктор, сиживая в своем кресле, улыбался в бороду.
– Азия!
Шли дни, теперь уже тихие, унимая желтую тоску азиатов, не получивших новую струю в скиснувшую кровь, и жизнь в городе потекла монотонно. Город стал забывать лихорадку малярии и о приезде доктора Мунича с его красивой женой и ушел с головой в новые заботы о животе и плоти, разрывающейся изнутри, как почки, чтобы изойти эротическими слюнями…
…Всхрапнула Бася, а вскоре и проснулась, измученная всем тем, что легло ей тяжестью на плечи.
– Совсем рассвело, – чуть слышно проговорила Айзгануш и, поднявшись со своего места, двинулась к окну, за которым уже кипела жизнь воскресного дня.
Спешили лавочники на базарную площадь, где, обступив ее тесным кольцом, стояли их лавочки вперемежку с колхозными духанами, являвшими собой миниатюрные прообразы деревянных од тех времен.
– Лучше бы вовсе и не наступал этот день! – устало отозвалась Бася и тоже поднялась со стула.
– Можно ли так, дорогая Бася, в день великого праздника?.. – назидательно проронила Айзгануш. – Как-никак в этот день наши предки вышли из рабства…
Но вместо ответа Айзгануш услышала тревожный крик далекого петуха, и она передернулась, невольно вслушиваясь всем существом в крик.
Циля, по-детски надув губы, спала, показывая всем своим видом, что и во сне помнит обиду, которую не простит никогда жестокому богу, позволившему насмеяться над ее плотью…
Бася склонилась над сестрой и, щекой коснувшись ее лба, ощутила легкий жар.
– Что же теперь будет?
– А ничего страшного! Младенец вырастет в большого!.. – уверенно затвердила Айзгануш. – А людская молва – морская волна… Пошумят и позабудут.
За домом послышалась мингрельская речь. Шли крестьяне и, не жалея глоток, переговаривались между собой, словно высевая кукурузными зернами поле, отпуская при этом смачные шуточки. Теперь эти шутки были адресованы горожанкам, чья плоть им виделась необыкновенно нежной и сладкой, как плод инжира, с которого содрали кожу и обнажили туговатую суть…
– Я в прошлое воскресенье… – начал было один из крестьян хвастаться, предваряя рассказ смехом, но Бася отрывисто оборвала хвастуна из окна.
– Ты бы лучше щетину свою поскоблил! – сказала Бася на мингрельском.
Айзгануш тоже высунулась в окно, но не стала мешать перебранке, зная, что Басю теперь раздражает все, даже случайные прохожие.
– Бесстыжие! – заключила Бася и отошла от окна, оставив его раскрытым. – Ходят тут под окнами и покоя не дают!
Дав выговориться Басе, Айзгануш вздохнула, как показалось хозяйке дома, вполне искренне, и сказала:
– Вы можете на меня рассчитывать! А сейчас я пойду домой и немного сосну…
Бася проводила Айзгануш до калитки небольшого двора, прилегавшего к площади, и вернулась в дом, а Айзгануш, кивая в знак приветствия лавочникам, пошла к себе через всю базарную площадь к парку Сталина, напротив которого жила в коммунальной квартире в аракеляновском доме, перешедшем сразу же после революции к ее арендаторам. В сущности, она осталась там же, где и жила, только теперь у нее была одна комната вместо снимаемых двух у Аракела Аракеляна, исчезнувшего из своих владений вместе со своим классом. Жили здесь и семейные, и одинокие вроде Айзгануш. Жили отчужденно, не желая заводить близкого знакомства друг с другом. Айзгануш ничего не связывало с жильцами этого дома, большинство из которых были из пришлых.
Она упала на кровать и тут же уснула, пока под вечер не разбудил ее стук в дверь.
Чья-то рука, удерживаемая смущением, осторожно, едва слышными ударами кулака стучалась к Айзгануш.
– Иду! – откликнулась Айзгануш после некоторого молчания и встала с кровати. А когда отворила дверь, была немало удивлена…
Перед ней стояла заплаканная Бася и беззвучно шевелила губами в тщетной попытке донести до Айзгануш ту тревогу, которая привела ее сюда. Слова ее застревали в горле, вызывая астматический кашель.
Айзгануш стояла спокойная, и, словно из опыта прежней жизни, когда-то прожитой ею, виделось повторение того, что уже было однажды с ней. А кто-то из того далека нашептывал ей из какой-то книги, не ею читанной, откровения. Они были спокойны, рассвеченные мудростью смертного. «…И наступит час, и заплатит каждый по счету: скорбью за скорбь, судом за суд… и будет он прощен перед лицом собственной скорби, ибо и он умрет, завещав свою мудрость тому, кто пойдет по следу его, совершая те же ошибки… Бесконечна жизнь, но смертны мы! Заплатил ли ты, человек, сполна за свои прегрешения? Если же нет, то расплата грядет! И не прячь ты лица своего и не вопрошай: за что? Ибо мудрость идет за поздним раскаянием! Раскаявшийся мудр и чист на тот час, так как впереди подстерегают его новые ошибки и новое раскаяние! Живи, человек, в скорби, ибо мысль и деяние твое скорбно! У кого поднимется рука смеяться над ним?!»
– Айзгануш, ты меня слышишь? – растолкала ее Бася, едва выдавливая глухие звуки из себя. – Беда пришла! Новая беда!
– Знаю, – ответила Айзгануш. – Лишившийся рассудка – свободен от скорби земной!
– Что ты говоришь? У нее младенец!.. – запротестовала Бася, сердито поглядывая на Айзгануш. – Здорова ли ты, Айзгануш?
Айзгануш захлопнула дверь и поспешила на улицу, увлекая за собой растревоженную Басю.
– Пришел и мой час платить… – сказала Айзгануш, вступая за порог Басиного дома.
Младенец сучил ногами и слюняво плакал, стараясь сползти с намоченных пеленок. А в темном углу сидела на мокрых тряпках обнаженная Циля и распевала песню, не обращая внимания на вошедших.
Айзгануш подошла к Циле, обхватив ее за талию, подняла с тряпок, на которых алела отдельными лужицами кровь, и увела в постель. Тем временем Бася поменяла младенцу пеленки и поднесла его к Циле, чтобы покормить грудью, но Циля наотрез отказалась кормить дитя.
– Принеси стакан! – приказала Айзгануш Басе. А когда та принесла стакан, она посадила Цилю и стала сцеживать молоко с набухших грудей, вызывая у роженицы тихое хихиканье. – Ну вот, девочка, сейчас совсем полегчает… Ишь как у нас молочко-то брызжет. Потерпи еще…
Вскоре младенец был накормлен, а Циля вновь погрузилась в сон. И так продолжалось изо дня в день, пока не стало ясно, что Циле, помешанной в рассудке, не быть матерью. И Айзгануш, на радость Басе, единственной кормилице, стала жить с ними, воспитывая младенца и следя за Цилей, норовившей выйти за ворота.
Маленький домик из двух комнат и флигелька стоял в одном из углов базарной площади на виду духанщиков и мелких лавочников, уже прознавших про все несчастья Цили и не спускавших глаз с него, чтобы пополниться новыми сведениями впрок, как запасаются на зиму пищей.
Площадь, не умевшая привыкнуть к редкой красоте Цили, ждала ее со всеми многочисленными лавками, разбросанными беспощадною нуждою времени, чтобы воочию убедиться в том, что она по-прежнему красива и желанна…
Однако их вожделению был поставлен заслон: Айзгануш глаз не спускала с Цили, держа на запоре калитку.
– Мужская похоть слепа! – говорила она Циле, запирая калитку на замок, на что Циля очаровательно улыбалась, не понимая ни слова из того, что внушала ей Айзгануш. – Вот и хорошо. Понимаешь, стало быть! Мужчина – это животное! Да еще какое… Самое лютое…
Тут Циля начинала петь одну из трогательных своих песен о птицах, мешая русские, грузинские, а то и еврейские слова. Хоть слов так и нельзя было разобрать, но тембр ее голоса не обманывал. Он был так волнующ и чист, что казалось, с какого-то уступа звенит чистый родничок, чтобы утолить людскую жажду и приободрить на этой горестной земле, где всякое любопытство оплачиваемо дорогой ценой.
– Пой, девочка, пой, – с доброй укоризной подбадривала Айзгануш, – пока я выгребаю из подгузника твоего уродца то, что больше всего напоминает масть парикмахера…
Так в хлопотах старой Айзгануш прошло три года. Бася исправно ходила на пристань, где работала бухгалтером, и, ничем особенным не обременяя себя, иногда стирала белье, но не уродца, а сестры, которую она содержала в чистоте, и темными ночами кляла в тайне от посторонних еврейского бога, недоглядевшего сестру…
– Хорош, нечего сказать! – попрекала она вслух. – Небось и сам, сальная морда, из греховодников!.. – Бася никогда не видела лика своего бога, только лишь слышала в устных рассказах о нем, но свой портрет того, кого евреи называли богом богов, она создала в воображении. И так уж получилось, что он был похож на шапочника Габо, этого известного скрягу, пропахшего всем существом, от темного лица до толстых ляжек, дезинфекцией, чтобы уберечься от тифа, а может быть, и от моли…
И вот наступил день, когда Айзгануш, в отсутствие Баси, решила выгулять семейство Муничей по городу.
Она одела трехлетнего мальчонку, довершив коротенькие брюки и рубашку панамкой на продолговатой голове и, взяв за ручку его – маленького Габо, а другой за руку Цилю, вышла за калитку, чтобы разом у всех лавочников оказаться в поле зрения.
– Габо, ставь ровнее ступни! – нарочито громко командовала Айзгануш, ведя неразумных детей по площади «любопытства», подмечая лукавым взглядом испепеляющий интерес к ним лавочников, прятавших свои носы будто бы за работой.
Проходя мимо первой лавки, Айзгануш остановилась, разглядывая шапки, висевшие на обозрение покупателей.
– Здравствуй, Габо! – сказала она и сильно поморщила нос – Чем это ты так, что с тобой не поговоришь?..








