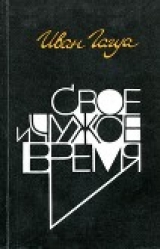
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Опасаясь именно изобретательности бугра, мы загодя начали переживать и гадать, как это может случиться, переругиваясь и расшатывая и без того шаткие позиции сомнением в возможности устоять, что уже само по себе давало нашему патрону гарантию на успех.
– Три раза по сто семьдесят пять… – стал считать я воздух, заранее определяя нашу твердую позицию и призывая к единомыслию. Но ничего не понявший Кононов, пренебрегая подвохом со стороны бугра до жестокой схватки, высмеял мою арифметику, показывая карты сопернику.
– Цыплят по осени считают! – сказал он, по-детски радуясь.
Лишь Лешка, наблюдая из-за стола, на котором он протирал ветошью металлические пластинки, казалось, не желал ни уточнять получки, полагавшейся ему за две ездки, ни знать о том, что будет получке предшествовать. Не давая воли языку, соображал глазами.
Мне же, чтобы работать дальше, нужна была полная ясность сейчас. Но бугор уходил от ясности, внушая моему сознанию напряжение, чтобы погасить дух противостояния.
Походив по цеху, он вышел в подсобку, помещавшуюся за стеною в пристроечке, где, свернутые в рулоны – бухты, громоздились медь, латунь, алюминий, прихваченные синеватым налетом.
Мгновенно охватив взглядом содержимое склада, потребовал пропустить все сырье за три дня. Слово «три» было подчеркнуто особо и потому ясно рисовало картину предстоящей борьбы.
– Значит, – сказал Кононов, радуясь своей догадке. – Через три дня будет получка…
– А то как же! – осуждающе процедил дядя Ваня, гася преждевременную радость Кононова.
– А что, не будет, что ли? – стал обижаться Кононов на дядю Ваню. – Сказал же человек, что через три дня… Значит, так и будет!
Бугор, не отвечая, только поднял на Кононова глаза, словно прося сохранить тайну до самой получки, зная загодя, что с его уходом эта нарочная «тайна» будет обсуждаться и, стало быть, цель частично достигнута.
– В общем, надеюсь на вас! День и ночь работайте, но сделайте! – наказал бугор и, потирая руки, будто от холода, покосился на Лешку, поманил меня в сторону, вывел за собой на порог, пару раз смущенно откашлялся и принялся посвящать меня в свою тайну, тем самым как бы выказывая особое ко мне расположение.
– Знаешь, я попал в дурацкое положение, – выдохнул он с наигранным смущением и взглянул мне прямо в глаза. – Знаешь, Гуга, одному тебе и могу я довериться…
Напустив на себя вид духовного пастыря, поклявшегося не разглашать чужой тайны, я не спускал с бугра сочувственного взгляда ни на мгновение.
– Гуга, недавно я пережил свою смерть… Самую тягостную для мужчины…
Представив на минуту бугра погибающим на алтаре любви, я с трудом подавил в себе готовую вырваться усмешку.
– Я знаю, – исторгая всю горечь своего тяжелого положения, продолжал между тем бугор, – что ваш древний и мудрый народ хранит секреты против такого позора… И обращаюсь к тебе за помощью…
Он вдохновенно и долго говорил о моем народе такое, о чем я никогда и слыхом не слыхал от самого народа, но выслушал его с достоинством и, кивая в знак согласия, время от времени повторял:
– Спасибо, Никифорыч!
– Когда это со мной впервые случилось, я хотел наложить руки…
– Когда мужчина в твоем возрасте так постыдно кончает дни, – сказал я шепотом, заимствуя у него слово «когда», – уберечь его не в силах сам бог!
Убитый столь мудрой сентенцией, бугор захлопал ресницами, словно прося пощады.
– Гуга, запроси для меня снадобье!
Изобразив на своем лице глубокомыслие, я спросил в деликатной форме.
– Никифорыч, а как с этим, когда ты бываешь с другими? – спросил я, хотя, чтобы бывать с другими, бугру пришлось бы отказать себе даже в вареных яйцах.
– Ну как тебе сказать… – Он в смущении опустил ресницы, давая всем своим видом понять, что при всей любви к жене и принципам верности иногда все-таки нарушает…
– Так как же? – допытывался я, желая во что бы то ни стало на чем-нибудь его подловить.
– Видишь ли… как бы это сказать… я бываю чрезвычайно редко, чтобы судить об этом… – по привычке осторожничал он.
– Меня, Никифорыч, совсем не интересует твоя моральная устойчивость! – почти выкрикнул я. – Я всего лишь спрашиваю: как у тебя с другими?
Бугор, почувствовав некоторое облегчение, открыто взглянул мне в лицо.
– Можно сказать, – поспешил он с ответом, – нормально, если бы не угрызения совести…
– Ах, оставь, пожалуйста, в покое такой пустяк! – сказал я с пафосом актера-бездарщины.
– Ты так считаешь? – спросил бугор после недолгого раздумья.
– Считаю! – с твердым убеждением отозвался я и, на этом ставя точку щепетильности бугра, занялся установлением безоговорочного диагноза. – Вот что, Никифорыч, – повысил я голос, совершенно убежденный в правильности своего заключения. – Заболевание твое кожное…
Бугор вытаращил глаза, не ожидая такого поворота.
– Да, да… не удивляйся! Произошло размагничивание озноба! Словом, утрачено чувство озноба… отсюда угасающий интерес к жене… и, наоборот, к другим…
Бугор, собрав кустистые брови на переносице, зарумянился над моими словами, должно быть, уже жалея, что так по-глупому поспешил со своей «тайной».
Вся наша полубригада знала, что бугор без памяти любит свою жену за молодость. Любит плотоядно, как кошка молочных мышат.
– Гуга, что теперь делать? – затревожился бугор, придавая своему голосу почти натуральный оттенок тревоги. – Ведь есть, наверно, средство…
– Пиши! – сказал я отрывисто и, подождав, когда бугор раскроет блокнот, испещренный мелкими знаками, должно быть, затем легко преобразующимися в рубли, стал диктовать рецепт моего древнего и мудрого народа: – Итак, два килограмма очищенных грецких орехов и связку горького перца… К ним четыре банки аджики, желательно кутаисского производства, в ней больше полезных солей…
– Так, – засопел бугор, осчастливленный тем, что на этом может быть положен конец дурацкой игре. – Записал: четыре банки кутаисской аджики…
И я, чтоб всласть позабавиться над бугром, дав волю фантазии, повелел ему все это пропустить через мясорубку и три раза в день есть по столовой ложке столь ценное снадобье, которое, по предположению бывалого человека из древнего и мудрого племени, могло вернуть бугру подкожные ознобы, так подкачавшие на алтаре любви…
– Спасибо! – сказал бугор, захлопнув блокнот и положив конец бессмысленной игре, затянувшейся по неискренности двух враждующих сторон.
Я дружески похлопал его по плечу и, пожелав быстрейшего выздоровления, покосился на дверь, за которой натужно работал пресс.
Вскоре из нее вылетели дядя Ваня и Гришка Распутин и бросились атаковать бугра, чтоб вырвать у него взаймы два червонца.
– Пойми ты, Никифорыч, задолжали в магазине… – нудили они хором.
– А вы меньше бы жрали! – в сердцах крикнул бугор. – Ни гроша вам не будет! – И, решительно направляясь через гречишное поле к полустанку, зашуршал в карманах газетой, должно быть, отыскивая запасы съестного.
Вернувшись в цех, где Кононов по-прежнему неистово выстукивал… морзянку, я встал у стола против Лешки и тоже включился в работу, перемалывая посеянную бугром смуту.
Неопределенность вытравляла из меня последние силы и вселяла злость на того, кого я только что упустил без должного объяснения.
Делать было нечего! Кость брошена, а значит, нужно глодать ее, ощетинившись друг на друга, пока не набьем оскомину и не поймем, что и на этот раз проиграли без боя.
А он, наевшись вареных яиц, покатит на машине кого-нибудь из «воздушников», ободрав нас как липку, и сделает ручкой, суля новую встречу. А мы, тихие и присмиревшие, стой, и лупи глазами на удаляющуюся машину, и обзывай себя дерьмом за трусость и уступчивость.
Всем нам, оказавшимся по разным причинам на мертвой точке, надлежало жить в той инертной застойной зоне, до тех пор пока каким-то чудом наша мертвая точка не обратится в активную.
Ощущение сиротства, и физического, и духовного, разжигало тоску по близким, подтачивающую психическое равновесие и, как правило, кончавшуюся горячечным бредом в постели.
Я и оказался в постели, в которой со стремительной скоростью временами проваливался в бесконечную бездну, оглашаемую диким криком и, выкарабкавшись, хватался за чью-нибудь руку и обмирал перед очередным испытанием.
Не смерть, но дорога к ней лишала начисто мужества, и я судорожно сжимал чью-то плоть в своих пальцах, всей краткой вспышкой сознания старался удержаться над разверзавшейся бездной.
– Черт бы вас побрал, поскорее! – слышал я голоса в промежутках меж приступами и снова летел в мучительную пустоту…
Но вот после длившихся неведомо сколько испытаний сознание воротилось. Отчетливые глухие удары пресса, от которых слегка подрагивал пол, доходили до меня.
Под лампочкой над столом сидела Стеша и выжимала компресс.
Ночь, и свет, и Стеша, и пресс, и воспоминания, и еще что-то впереди вызывало детские всхлипы, разом и радостные, и печальные. И уже, не стесняясь ни присутствия Стеши, ни вернувшегося сознания, я обливался слезами, как когда-то в детстве, домогаясь материнского утешения.
– Ну ничего, это от слабости! – проговорила Стеша голосом умудренной опытом женщины. – Сейчас кисельку поедим, и все разом пройдет… – И, подсев поближе, принялась осторожно выспрашивать то о том, то о сем, задумываясь и хмурясь. – Судим, что ли?
– Осужден! – отвечал я ей кратко.
– И на сколько?.. – осторожно спрашивала Стеша, понимая слова мои буквально.
– Не знаю, – признавался я чистосердечно.
Стеша, по-своему оценив мой ответ, умолкла, давая понять, что теперь хорошо бы поспать…
Под утро ввалился Кононов и, найдя меня живым, весело сообщил, что «наклепали семьдесят пять… то есть тысяч»…
– Гуга, амба! Старики уже упаковывают. Отгужевали, звери тамбовские! Скоро по домам разбредемся… отмокнем в ванной да побалуемся пивком.
Стеша как завороженная двигалась по избе, всю неделю менялась с кем-то сменой, чтоб не работать ночами.
– Присушил бабу кобель! – сочувственно вздыхал Кононов, тайком глядя на беспокойную Стешу.
Было ясно, что Стеше открылась мучительная тайна любви, не изведанная, должно быть, с мужем. Теперь она, потеряв осторожность, тенью преследовала Лешку, платившего ей также привязанностью.
– Накостыляют ей за любовь! – качал головою все тот же Кононов, подмечая, как любовники в огороде, где все уже начинало всходить и наливаться, льнут друг к дружке на глазах у соседей – Карпа Васильевича и Агафьи Никаноровны.
Заметив Стешино увлечение, они все чаще и чаще садились у межевого забора, обиженно поджимали губы на молодое бесстыдство соседки и напоминанием о муже отравляли ей радость.
– Как там Колька? Пишет али как?.. – спрашивали соседи громко, чтобы сказанное могло долететь и до Лешкиных ушей. – Скоро ли выйдет срок?
– Не скоро! – мстительно отзываясь им, Стеша, как побитая, опускала в землю глаза.
Но старики, позабыв о милосердии, донимали ее плохо скрытыми намеками на супружеский долг.
– Коли соберешься ехать, не забудь зайтить к нам… Гостинцев от нас передашь. Агафья прошлым годом вареньев наготовила пропасть… – говорил Карп Васильевич, маленький иссохший чертенок в худой телогрейке, то и дело выкашливая на землю тягучую слизь.
– Вобла астраханская! – посмеивался Кононов над стариком, слушая его слова, напоенные упреком. – В самый раз его в огород пугать воронье!
В ожидании зарплаты мы все чаще выходили во двор, убивая тоску подсматриванием чужой жизни, тоже тоскливой и грустной от бремени старости и одиночества.
Уйдя в себя, я мало-помалу стал обретать равновесие именно в одиночестве.
– Ну тебя, Гуга, – обижался Кононов, когда от назойливых его вопросов я отделывался молчанием или вопросительным долгим взглядом.
– Устал парень! – возражала Стеша на сетование Кононова относительно моего отчуждения. – Не лезь ему в душу! И без тебя у него там мрак! Понял?
Гришка Распутин, пропадавший теперь у Лизаветы, тоже остерегался встречи со мной, чувствуя, как я раздражаюсь его повадкой говорить и ходить.
– Ничего говорить ня буду! – спешил он заверить меня и, прихватив с собой что-нибудь, улепетывал из избы к своей дородной зазнобе.
Но однажды ему все же не удалось избежать стычки со мной.
– А ну-ка, Григорий Парамонович, подь сюда! – сказал я, когда он заглянул в очередной раз с заверениями в том, что «ничего говорить ня будет». – Не таись, подь сюда! – веселея от неистребимой потребности подраться с ним, двинулся к нему сам.
– Во дает паря! Дак я тебя видь в порошок могу… – ухмылялся он, поглядывая по сторонам и пятясь.
Ныло все мое тело, начиненное зудом самоуничтожения, ныло в желании выплеснуть дикую энергию, чтобы, в жестоком единоборстве растратив ее, угаснуть.
Поняв, что не подраться с Гришкой, я стрелой вылетел со двора и пустился по деревенской улочке к лесу, подталкиваемый в спину усмешкой.
– Сволочь! – бормотал я. – Мерзкая сволочь!..
В 1969-м, окончив один из самых престижных институтов Москвы, я чрезмерно возгордился своей причастностью к культурным процессам того периода, полагая, что теперь и сам буду вовлечен в священное таинство издательств, толстых журналов и газет.
Ничего подобного, однако, не произошло.
Утратив свою прежнюю принадлежность к среде, я невольно оказался в разряде разночинцев двадцатого века, поскольку диплом, чуть откинув завесу с жестокой реальности, стал на моем пути к армии пролетариев непреодолимой преградой.
Предвидя охоту на свою персону со стороны вполне конкретного человека – участкового, – я стал чуть свет уходить из дома и возвращаться за полночь.
Прошлявшись год по закоулкам Москвы, но не найдя милосердия ни в одном из учреждений, свалился в глухом отчаянии, не решаясь поднять глаз на жену, на чью скудную зарплату медсестры мы перебивались вдвоем. Но вот нежданно-негаданно телефонный звонок посулил мне работу в одной из газет.
Работа внештатного литконсультанта, да и Маргарита Соломоновна, коллега, были мне по душе. Деликатная, тихая, мудрая, она вызывала к себе такую же тихую, скромную, не кричащую симпатию. Век бы нам вместе работать, храня уважение друг к другу, но судьбе было угодно развести нас в разные стороны, разорвав служебный контакт через несколько месяцев после возникновения. А причиной разрыва явилось мое отношение литконсультанта к пишущей братии, что стало сказываться на скудевшей с каждым моим ответом редакционной почте.
– Не рубите ли вы сук, на котором сидите? – озабоченно проговорила Маргарита Соломоновна, раскладывая очередные конверты. – Напрасно вы думаете, что вам удалось остудить их пылающие головы леденящим ответом! Вы, голубчик, имеете дело с хроническими больными. Они переметнутся в другую газету.
– Похоже, что так, – отозвался я с грустью на озабоченность Маргариты Соломоновны, поняв крепким задним умом, что все наше благополучие находится в зависимости от потока пишущей братии.
Покрутившись еще некоторое время вокруг опустевшей кормушки, куда нет-нет да подбрасывала кое-что неискушенная молодежь, я был вызван к Бабурке. Так за глаза называли заведующего отделом за сходство с конем.
– Будьте любезны познакомиться, – сказал мне Бабурка и поворотился лицом к своему визитеру, утонувшему в мягком кресле.
Визитер был при орденах. Скромен и сед.
– Вот, Степан Ерофеевич, этот самый…
Я поклонился визитеру, не испытавшему радости от знакомства со мной, и отпрянул назад, догадавшись, что вижу вживе одного из своих отвергнутых авторов.
– Очень приятно! – сказал я, хотя приятного встреча сулила не много.
Бабурка, дав мне освоиться с обстановкой, взял со стола рецензию на вирши визитера и заговорил о литературной этике. Из речей его следовало, что я ею пренебрегаю даже в отношении человека, чьи заслуги отмечены рукопожатием на Эльбе.
Изрекал он медленно, с многозначительными паузами между словами, чтоб подчеркнуть важность каждого. Косил глазами то на меня, то на оскорбленного автора, продолжал развивать тему в той плоскости, какая нужна была для защиты авторского самолюбия.
В смущении опустив глаза в знак признания виновности, я ничем не возражал Бабурке, но и особого уважения визитеру тоже не выказывал.
– Работа с авторами, – сказал в заключение Бабурка, – требует особого такта… К сожалению, такой работе вы еще не соответствуете, о чем свидетельствует случай…
– Ну что ж, – перебил я его, мысленно возвращаясь к прежней жизни, и двинулся к выходу.
Выходя, оглянулся на визитера, у которого не возникло желания даже со мной попрощаться.
Маргарита Соломоновна, уведомленная по телефону, перехватила меня у лестничной клетки и, сочувственно пожимая руку, просила мою обиду на всю газету не переносить на нее.
– Звоните…
Я вытряхнулся на свежий воздух, не зная, куда направиться, так как все закоулки Москвы были мною давно измерены. Теплилась надежда, что, возможно, где-то затесалось нужное мне учреждение, которому могли бы понадобиться мои услуги, и я не жалея ног пустился на поиски, выбиваясь из сил и впадая в отчаяние…
Сухопарый доктор, обстрелявший меня пронзительным взглядом темных блестящих глаз, определил в палату, а наутро принялся терпеливо выстукивать, как настройщик – рояль, выискивать отказавшее звено в сложной цепи моего инструментария.
– Будем лечить, – сказал он, завершив осмотр и закинув гриву смоляно-черных волос на затылок. – Фирма гарантирует…
Разумеется, я ничего не имел бы против, чтобы фирма гарантировала мне возврат, как сказал какой-то писатель, в первобытное состояние.
Приобретая с больничной койкой и горизонтальное положение, я стал обустраивать себя как можно удобнее. А чтоб меньше зависеть от ходячих больных, сложил две подушки, одна на другую, и принялся обозревать заоконный простор. Благо что два широких окна давали такую возможность, выводя мой взгляд на тихую улочку с синагогой в форме правильного треугольника. Во всяком случае, такой представлялась она моему глазомеру.
Расположившись поудобнее на подушках, с высоты третьего этажа я развлекался пристальным обозрением прихожан, шести колонн, сведенных по три, клочком бирюзового неба меж ними, необычным узким, неожиданным сводом.
С приближением вечера тихая улочка оживала. Прихожане приступом брали несколько ступеней синагоги, чтобы прочно обосноваться в ней под всемогущим покровом Яхве.
Так проводил я лучшие минуты больничной жизни, запасаясь наблюдательностью и проницательностью, стремлением не упустить ничего из того, что лежало в обозримой моей близости.
Иногда мой лечащий врач вглядывался в улочку вслед за мной, дабы лучше понять суть моего существа.
– Интересно? – спрашивал он и сам льнул к стеклу, но, не найдя ничего привлекательного, подозрительно вглядывался мне в зрачки.
– Увлекательно, – отвечал я, усугубляя его подозрения.
– Ну-ну… – бормотал доктор и спешил в ординаторскую, соседствующую с нашей палатой, откуда к нам доносились обрывки происходивших в ней разговоров. Чаще всего это были сетования на плохое знание медициной генетических предпосылок… Не избегали молодые врачи и вольной темы, в центре которой неизменно оказывалась Леночка, молоденькая медсестра, недавняя выпускница училища. Разговоры о ней ранили мое самолюбие, так как она была предметом моего обожания.
Легкий флирт между нами вызывал у моих соседей острую зависть, и я отворачивался от них, не отрывал взгляда от улочки. Скрупулезно изучал все тонкости заоконного мира, высвечивая для себя некую тайну. Многих прохожих уже узнавал по походке, манере держаться. Все они начинали свой путь от Солянки, но далеко не все сворачивали к синагоге. Обозрение не ослабляло драматизма событий. Микромир, имевший в своем арсенале все пороки большого мира, дышал, а стало быть, жил по всем правилам жизни, двигаясь по заданной схеме к развязке драмы, забавляя, должно быть, всевышнего на небесном престоле…
Мало-помалу я стал садиться в постели, стараясь, как новорожденный, удержать голову, поникающую из-за расстройства вестибулярного аппарата, но жить, как говорится, стало намного легче.
Разложив какое-нибудь чтиво, запрещавшееся врачами, на подоконнике, я подолгу просиживал над ним, не отрывая бдительного ока и от Солянки. Между тем легковые машины подкатывали и, взяв к больничному скверу, тормозили у синагоги. Многие из приехавших, успев в три пробежки взять дистанцию к ее порогу, напяливали ермолки и исчезали в утробе красивого треугольника.
Как-то в дежурство Леночки, совпавшее с выпечкой в синагоге мацы – пресного хлебца под стать даже самому строгому схимнику, – присев у подоконника, я послал ее по мартовской оттепели за покупкой.
Шла она быстро и легко, весело оборачиваясь на окно, у которого я ждал ее возвращения с лепешкой мацы…
– Сволочь! – бормотал я. – Мерзкая сволочь!
Поднявшись на какой-то угор со следами былой жизни, где еще уцелели два грушевых дерева и дикие яблоньки, лохматившиеся от подгнивших стволов кверху, я повалился среди старых обломков кирпичей и жести, и заскулила во мне звериная тоска по чьей-то угасшей жизни, коснувшись памятью разбросанных вокруг предметов. И сквозь приоткрытые веки явственно увидел я золотистого жеребенка с черными копытцами. Он стоял на пятачке зеленого луга и пристально глядел мимо меня скорбными глазами женщины. Разбросанные веером ресницы неподвижно застыли, вбирая видимый мир в память. Но вот ресницы ожили, и жеребенок, вскинув голову, медленно, стройно перебирая тоненькими ногами, двинулся прочь. По мере того как он удалялся, взрослел и, переходя на бег, сливался с розовыми лучами, а топот бесконечного бега западал за горизонт, уходил в вечность и этот видимый мир с человеческими страданиями…
Поздним вечером я вернулся в избу.
Стеша сидела за столом и лущила кабачковые семечки, аккуратно выплевывая в ладонь шелуху.
Лешка же, стоя над Стешей, вырезал из газетного листа какую-то живность, ловким движением ножниц ловя контуры.
Стеша встала и, вытряхнув шелуху с ладони на обрывок газеты, спросила:
– Горячего будешь?
– Буду! – бодро ответил я, поняв, что Стешин вопрос не потерпит возражения.
– Ребята в цеху! – сказал Лешка, откладывая ножницы в сторону. – Завтра продукцию отправляют. С утра машина подъедет.
– А ты почему здесь?.. – спросил я, стараясь разгадать причину. – Подрался, что ли?
– С Гришкой поцапались! – сказала Стеша, ставя мне грибной суп. – И все из-за куска жести… Гришка не дал Лешке, ты, говорит, умеешь стучать, а не чеканить.
– А Сергей что?
– Сергей? Коли, говорит, жести для Стешкиного портрета пожалел, ночевать не приходи!
– А Гришка?
– Я, говорит, и так не приду! У Лизаветы, стало быть, будет…
– Плохо Сергею придется! – сказал я, разжевывая разбухшие в супе опенки. – Еще один долг погашать придется…
– Ну тебя! – рассмеялась Стеша, прощая мне дерзость и видя в ней признаки моего выздоровления. – А жесть эту я у себя на работе спрошу. – Она обняла Лешку за спину. – Сделаешь портрет?
– Постараюсь, – ответил Лешка и, стесняясь Стешиной нежности, отстранился.
В полночь из цеха вернулись Кононов и дядя Ваня, оба измученные и злые.
Дядя Ваня не раздумывая сразу пошел в «темницу», лег на топчан. Повалился и Кононов, и изба, погруженная в мглу, ознобисто зазвонила колокольцами…
На рассвете грубыми толчками в плечо меня разбудил дядя Ваня.
– Вставай! В Москву с Лешкой ехайте! Ребята устали…
Продукцию в Москву я никогда не возил, не видел, как делается гальваника, а потому без лишних слов собрался и пошел в цех под едва слышное напутствие подставного бугра, то и дело напоминавшего не спускать глаз с Иуды.
– Гляди, чтоб не отлучался…
– А если у него портативная рация имеется?.. Что тогда, дядя Ваня? – спросил я, настраиваясь на веселый лад.
– Брось, Гуга, ломать дурака!
Возможность встретиться с бугром еще до получки наполняла меня жаждой мести. Как бы стычка ни кончилась для меня, я выскажу ему все и поборюсь с ним в одиночку.
– Поди разбуди Лешку! – сказал я, открывая цех. – Пусть собирается в дорогу… Как видишь, он не холостяк… Попрощаться, то да се – время уйдет!
– А как я его будить буду, со Стешкой-то?!
– Обыкновенно… Как меня…
Дядя Ваня сердито нахмурился, медленно воротился в избу, косясь на магазин под двумя замками.
Присев у окна, чтобы видеть Лешку, когда он двинется в цех, я достал припрятанные письма отца и разложил их по датам, чтобы проследить события по порядку.
«Дорогой Ивери! – писал отец, пренебрегая пунктуацией, делая исключения лишь для восклицательного знака и всеобъемлющей точки, как бы поделя саму жизнь на редкие праздники и бесконечные серые будни. – Мать очень волнуется что ты не приезжаешь и писем не пишешь. Думали что приедешь на пасху. Козленка купили на вербной неделе и все время кормили его чтоб он стал как крутое яйцо. С города приехала твоя сестра. Она не захочет стать на колени. Все твои братья стали перед кувшинами с вином где мы по пасхам даем обещание Ёсе Христе. Мина говорит что вступила в партию а партия штука серьезная и не будет заигрывать с богом она говорит запрещает становиться на колени. И еще говорит что все что мы делаем есть большая дурость. Я рассердился и хотел ее ударить но вспомнил что в этот день нельзя обижать бога таким крайним поступком. Мать тоже очень обижена на Мину…
Дорогой Ивери! Когда будешь ехать домой купи мне очки чтоб я мог читать передовицу. Говорят Брежнев обещает инвалидам войны увеличить пенсию. Ты сам все там разузнай и напиши что думает об этом Москва.
Теперь Ивери сообщу что у нас радость! Помнишь красную корову Янали она отелилась. Так что скоро у нас будет сулугуни приезжай. Конечно ты теперь большой там человек но родителей и своих товарищей не забывай! Пишет твой отец Лаврентий сын Степана».
Второе письмо оказалось грустным. В нем отец сообщал о гибели деревьев, к которым я был привязан сердцем и памятью.
Третье письмо расстроило меня вконец.
«Дорогой Ивери! Опять пишу тебе что вчера к нам ворвался бульдозер и раскорчевал сад который ты посадил перед армией. Все яблони хурму и виноградные насаждения груши и черешню тоже сравнял. Я сразу поехал в райком и сперва зашел к твоей сестре Мине. Она сейчас работает инструктором. Она сказала есть такая установка свыше. Говорит что с индивидуальными хозяйствами надо бороться если мы хотим построить коммунизм а коммунизм обязательно построим. Значит говорит с вами надо бороться и очень крепко. Я говорит папа в этом деле тебе ничем помочь не могу иначе с партии снимут. Вот Ивери как у нас делают партийные работники! Прямо как какой-нибудь праздник устроили с бульдозерами. Агрономы которые за свою жизнь ни одного дерева не посадили тоже помогали как будто их главное дело не сажать а уничтожать насаждения. Приехали городские ребята и валят деревья которые они не сажали. На фронте в керченской бойне никто не видел моих слез а здесь ночью все время плачу потому что не смог сохранить и защитить деревья. Они такие благородные что ничего не говорят этим туркам. Раньше турки вырезали наши виноградники а теперь новые турки уничтожают деревья. Эх Ивери зря вы учитесь если сердцем не постигаете законы доброты. Больше сейчас писать не могу. Гляжу на поваленную черешню и плачу. Уже две недели как лишили ее земли а она все цветет розовым цветом. Умирает а все же о других думает. Приезжай и успокой нас пишет твой отец Лаврентий сын Степана».
Я аккуратно сложил затасканные в кармане письма, спрятал их, в бессильной ярости придумывая месть тем, кто так жестоко измывался над деревней, и горько затосковал, явственно видя перед собою отца, поскрипывающего по усадьбе протезом.
Просидев полдня в цеху и не дождавшись машины, я вернулся в избу и набросился на дядю Ваню:
– Где же твоя машина? Что тут расселись? Делайте что-нибудь!
– Дак что же я сделаю?
– А кто же тогда? – наступал и Кононов, поддерживая меня.
– Да что с вами? Осатанели, что ли? – вступилась за дядю Ваню Стеша. – Скоро, как волки, перегрызетесь! Что вы все его виноватите? Он такой же, как вы, да еще побольнее вас!
Устыдившись своей горячности, я вышел из избы и скорым шагом направился в сторону ткацкой фабрики, чтобы оттуда, упросив кого-нибудь, позвонить в Москву и узнать последние новости из дому. Задержавшись в Федюнине дольше обычного, я сильнее скучал по дому.
Вернувшись через часок из безрезультатного похода на фабрику, я уселся на завалинке и стал наблюдать за петухами, ухитрившимися тайком друг от друга приударить за единственной представительницей прекрасного пола, беленькой курицей, охотно принимавшей ухаживания обоих кавалеров.
Петухи поочередно прибегали к своеобразным хитростям, как бы невзначай оказывались рядом с курицей, с натуральным удивлением в голосе подзывали ее полакомиться какою-нибудь находкой, и курица, не прочь быть обманутой, спешила на званый пир, чаще других устраиваемый Октавианом, петухом золотистой масти с роскошным, переливающимся золотом и медью хвостом. Наблюдая за курицей черной выразительной бусинкой глаза, он с достоинством императора приглашал хохлатку отведать лакомство, над которым замирал, держа в поле зрения соперников, притаившихся по разным концам двора.
Любопытное это зрелище заканчивалось, по обычаю, посрамлением Октавиана.
К вечеру с заднего крыльца вышли Стеша с Лешкой и, устроившись поудобнее на лесенке, принялись развлекать живность игрой на расческе.
Играл в основном Лешка, мусоля расческу губами и бешено хохоча глазами при взгляде на петухов, выстроившихся в шеренгу и вслушивающихся в мелодию, на удивление льнувшим к забору соседям – Карпу Васильевичу и Агафье Никаноровне.
Торча черной головешкой на табурете, Карп Васильевич выкашливал слизь из легких и не спускал с соседского двора глаз. А Агафья Никаноровна что-то тихонько нашептывала ему.
Мне, сидевшему ближе всех к старикам, порой были слышны их осуждающие восклицания.
Поворотив голову к своему старику, Агафья Никаноровна твердила, что «негоже бабе сидеть без дите в подоле, поколева мужик в отлучке»…
– Дите – не помеха, – утверждал Карп Васильевич, смеясь водянистыми глазами. – Опять же, – продолжал он, сплюнув мутную слизь под ноги Агафье Никаноровне, – паскудство бабьей крови не можно остановить ангелом в подоле…
Беспросветная, тягучая жизнь жалась в пространстве, питаемая любопытством.
– А курица чья, Агафья? – вдруг завопил Карп Васильевич на пределе своих возможностей, чтоб донести вопль до крыльца, откуда сейчас Стеша с Лешкой обозревали мир с полями и дальним лесом, над которым едва уловимыми пятнышками кружили вороны. – Степанида, не твоя ли беспутница с нашим петухом тут разгуливает?
Стеша мигом отлепилась от Лешки, сжалась от противного ощущения слова «беспутница» и, в самом деле увидев в огороде соседей свою курицу, досадно откликнулась:
– Как же она там оказалась?
Но соседи, только и ждавшие обратить на себя внимание, пропуская слова Стеши мимо ушей, вели свой разговор к намеченной цели.








