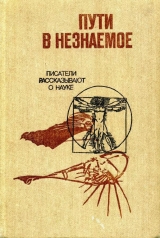
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 48 страниц)
Теперь все бегают. «И несется все быстрей время стрессов и страстей», как поется в одной песне.
Автомобиль – результат всеобщей спешки? Или одна из причин ее? И стрессов… и расточительства…
Экологические и энергетические проблемы, вещизм и гиподинамия – фрагменты великой драмы XX века, в которых автомобиль оказывается на первом плане. Миллионы тонн металла исчезают ежегодно в воротах автомобильных заводов, целые моря нефтепродуктов сгорают в автомобильных двигателях. Шумят на улицах моторы, гибнут в авариях люди. А очередной счастливчик, получив открытку из автомагазина, бросается к телефону. Он обзванивает знакомых, выпрашивая у них взаймы недостающие пять тысяч, чтобы скорее стать обладателем заветного четырехколесного чуда – очередного пожирателя кислорода, бензина и здоровья.
Небезызвестный сэр Уинстон Черчилль мрачно пошутил: «Изобретение автомобиля стало худшей катастрофой в истории человечества». Но ездить на автомобиле после этого не перестал.
Писатель Стивен Кинг, слова которого вынесены в эпиграф, знает автомобильные дела не понаслышке. Он родился в 1948 году, живет в стране, более других гордящейся своими автомобилями и страдающей от них в первую же очередь. По образному выражению одного социолога, американец рождается в автомобиле, проводит в нем полжизни и умирает тоже на колесах.
Девять романов Кинга стали бестселлерами, разошлись в количестве свыше 50 миллионов экземпляров. Все они рассказывают о жизни людей второй половины XX века. Марки машин в них выписаны не менее тщательно, чем имена героев. А сами герои называют автомобили человеческими именами.
«Автомобиль преобразовал наше представление о мире, само наше мышление…» А если мы преобразуем наше представление об автомобиле, изменим его? Быть может, решая проблемы автомобильные, мы развяжем узлы многих жизненных проблем. И немало стрессов снимем, и мышление упорядочим, и жизнь сделаем светлее…
Недалеко от крупнейшего московского железнодорожного узла, на сплетении нескольких автомагистралей расположен Институт комплексных транспортных проблем Госплана СССР. Это один из самых молодых НИИ Союза, образован в конце шестидесятых годов. Здесь трудился Дмитрий Петрович Великанов, около сотни научных работников продолжают его дело. Они думают над тем, как преобразовать все автомобильное хозяйство страны в единое, гибкое и гармоничное целое, увязать его наилучшим образом с другими видами транспорта. И рекомендации ученых становятся государственными стандартами.
Генри Форду в том не было нужды. А Евгений Алексеевич Чудаков о таком мог только мечтать.
Научно-исследовательский автомобильный и моторный институт давно переехал с Вознесенской улицы вблизи МВТУ в район Химки-Ховрино. Здесь работал Чудаков. С тех пор территория НИИ расширялась многократно, целый научный автомобильный городок вырос вокруг стоявших здесь не так давно нескольких скромных зданий. В нынешнем НАМИ разрабатывают принципы создания автомобилей 2000 года – предельно экономичных, экологичных и комфортных. Их проекты подчинены прежде всего идеям удобства для человека – каждого в отдельности и общества в целом. Борис Михайлович Фиттерман – один из нескольких сотен конструкторов и исследователей, которые трудятся над воплощением этих принципов в жизнь.
Когда-то, четверть века назад, попал я впервые на ЗИЛ. Пришел работать токарем в 4-й механический. На станке образца тысяча девятьсот какого-то года обтачивал полуоси грузовиков «ЗИЛ-164». Мы ходили по территории, путаясь в стружках, проваливаясь в масляные лужи. Стенд с тормозными барабанами, на котором можно было гонять автомобиль, не выезжая из помещения, был тогда главной, а пожалуй, и единственной исследовательской установкой на заводе. Эту штуку в просторечии называли «троллейбусом». И потому что конструкция ее сильно напоминала известную городскую машину, перевернутую вверх колесами, и оттого что была она так же примитивна, как троллейбус, придуманный еще в начале века.
Теперь тот цех, в котором мне довелось работать, перестал существовать. Стиснутый со всех сторон городскими районами, Московский автозавод имени Ивана Алексеевича Лихачева не расширил свою площадь, но принципиальным образом качественно изменился. Теперь это – головное предприятие мощного всесоюзного объединения «АвтоЗИЛ». Теперь здесь, на старой автозаводской территории, вырос крупнейший в автомобильной промышленности научно-исследовательский центр.
Оснащенные новейшим оборудованием лаборатории шума и вибраций, двигательные стенды, информационно-вычислительные комплексы, огромная аэроклиматическая камера вступили в строй совсем недавно, но уже работают на полную мощность. Александр Ильич Ставицкий вместе с несколькими десятками ученых-автомобилистов стараются не только автомобили улучшить, но и сами методы улучшения сделать максимально эффективными. Деятельность эта приносит добрые плоды.
Внедрение науки в автомобильное дело становится повсеместным. И «АвтоВАЗ» в Тольятти, и «БелавтоМАЗ» в Жодине, и другие крупные автомобильные фирмы разворачивают свои исследовательские центры. Главными конструкторами этих предприятий становятся кандидаты и доктора наук.
Науки меняют автомобиль и все, что с ним связано. Оттого есть основания ожидать перемен и в нашей жизни. К лучшему.
А. Семенов
РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ «ДЗИТЫ»
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ДЕЗИПоезд из Москвы приходит в Гамбург спозаранку, в шесть сорок утра. На такси минут за двадцать можно добраться до уютного зеленого района на окраине города, где расположен физический центр ДЕЗИ – «Немецкий электронный синхротрон» – так расшифровывается эта аббревиатура. ДЕЗИ – один из трех международных центров Европы, занимающихся исследованиями в области физики элементарных частиц (два других – ОИЯИ, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, и ЦЕРН, Европейский центр ядерных исследований, расположенный неподалеку от Женевы).
Итак, ранним июльским утром мы прошли мимо приветливо кивнувших нам охранников ДЕЗИ, оставили чемоданы в гостинице и отправились к установке, где нам предстояло работать ближайшие месяцы.
Мы – это два экспериментатора одного из московских физических институтов (из скромности не будем создавать ему рекламу), а кивнули охранники приветливо потому, что узнали одного из нас, работавшего здесь год. Незнакомых пришельцев обычно останавливают и спрашивают о цели визита. Если устное объяснение удовлетворяет стража ворот, как чаще всего и бывает, он выдает посетителю подробную карту территории ДЕЗИ, а с ней – и необходимые советы. Однако если вы за рулем, проверки можно избежать: машины здесь останавливаются не все подряд, а по случайному выбору. Электронное устройство после множества беспрепятственных подъемов шлагбаума вдруг издает гудок и перед очередной машиной путь закрывает. Тогда охранник вылезает из будки и проверяет содержимое автомобиля.
В центре – не один, а целых три ускорителя. Первый из них, самый маленький, был пущен более двадцати лет назад. Его назвали тем же симпатичным именем, похожим на девичье, – ДЕЗИ. Второй ускоритель – более мощный. В нем сталкиваются встречные пучки электронов и позитронов, каждый с энергией по 5 миллиардов электрон-вольт, 5 ГэВ. Называется он ДОРИС. И, наконец, ускоритель ПЕТРА с энергией пучков более 20 ГэВ.
Из повседневной жизни известно, что столкновение автомобилей лоб в лоб во много раз опасней и разрушительней, чем наезд на неподвижный столб. На этом эффекте основано действие ускорителей со встречными пучками частиц: в них разгоняются два пучка в кольцах ускорителя и потом сталкиваются лоб в лоб. Принцип этот предложен советским физиком академиком Будкером, и сейчас в Новосибирске работает ускоритель со встречными пучками электронов и позитронов, почти такой же, как ДОРИС.
По частям разбитой машины можно кое-что узнать о ее устройстве, по осколкам сталкивающихся частиц – тоже. Но чтобы разобраться, надо проследить за разлетом частиц-осколков. Раньше для этого использовали камеру Вильсона. Сейчас в ходу уже другие детекторы – дрейфовые камеры, ливневые счетчики. В них создается как бы мгновенный снимок дорожно-транспортного происшествия микромира – столкновения частиц и разлета осколков.
Нам предстояло работать на ускорителе ДОРИС, а точнее – на установке, расположенной вокруг одного из двух мест столкновения встречных пучков.
Естественно, что установка, или, как чаще говорят экспериментаторы, детектор, имеет свое название: АРГУС – ARGUS – American – Russian – Germany – und Swedish. Уже из самого названия ясно, кто на нем работает. Правда, сейчас добавились еще канадцы, японцы и югославы, но в названии буквы для них не были предусмотрены, что нисколько не умаляет их вклада в общее дело. Московские физики принимают участие в этом сотрудничестве более шести лет. Они разработали и изготовили важную часть детектора АРГУС – устройство для регистрации мюмезонов, мюонные камеры, а теперь эксплуатируют их и участвуют во всех работах на установке. Каких – речь еще впереди.
Чем выше энергии сталкивающихся частиц, тем сложнее разобраться в их столкновении. Экспериментальные установки вырастают до размеров двухэтажного дома, обрастают шкафами электроники. И в одиночку, то есть одной лабораторией, такие махины не осилить. Поэтому приходится кооперироваться: одни делают одну часть, другие – другую, так, с миру по нитке, и собирают современный детектор.
В физике высоких энергий для больших международных групп, работающих на одной экспериментальной установке, есть специальное название collaboration. Однако слово это со времен войны стало синонимом предательства, поэтому будем использовать другое – «сотрудничество». И чтобы не проговаривать каждый раз длинную фразу – «международная группа ученых, участвующих в сотрудничестве на установке АРГУС», – последуем примеру самих членов сотрудничества и будем говорить короче: сотрудничество АРГУС; семинар сотрудничества АРГУС. Конечно, это жаргон, но времени на выговаривание правильных и длинных словосочетаний, увы, нет.
ТЕМП, ТЕМП, ТЕМП…По пути на установку мы почти не встречали людей – было еще слишком рано, но сам детектор работал, шел обычный сеанс набора информации.
Дежурный весело поприветствовал нас и в считанные минуты ввел в курс дел, так что без четверти восемь я стал ощущать себя причастным ко всему происходящему, хотя видел АРГУС впервые.
Если быть совсем точным, то в тот момент, когда мы вошли, установка не работала, более того – попискивал сигнал аварии, а дежурный – это был канадский студент Питер Ким – с блаженной улыбкой ритмично покачивался на стуле в такт музыке: на ушах его красовались наушники от карманного магнитофона. Никакого аварийного сигнала он, естественно, не слышал, да и слышать не мог. Не видел он и мигания аварийной лампочки, потому что прикрыл глаза от удовольствия, а может, и от усталости – ведь подходила к концу ночная смена – с 0 до 8.
Такой непорядок возмутил моего спутника (назовем его Владимир Михайлович), к первым делом он бросился устранять неполадку – к счастью, совершенно пустяковую. Через минуту установка заработала вновь, а очнувшийся дежурный так и не понял, что случилось за время его музицирования. Ради объективности стоит сказать, что такая невнимательность – случай редкий, обычно дежурство проходит напряженно и времени для музицирования просто не остается.
Разбудив канадца, Владимир Михайлович заговорил с ним о текущих делах таким тоном, будто только вчера вечером ушел с установки, а я озирался вокруг, разглядывая тысячи мигающих лампочек и проводов в шкафах электроники. Самого детектора не было видно – при работе ускорителя он спрятан за толстым слоем блоков бетона. Мы же зашли в расположенный по соседству домик электроники, откуда ведется управление установкой. За окраску стен этот домик прозвали «blue Hütte» – «голубая хижина».
В «голубую хижину» тянутся сотни тысяч электрических кабелей от всех частей детектора.
И все же первое мое впечатление от ДЕЗИ и Гамбурга – это темп. Спрессованность времени и жизни.
Знакомство с новой страной началось с электронных блоков и распечаток ЭВМ. Через два часа мы уже ковырялись на установке, а через неделю освоились полностью. Зато в город на прогулку удалось выбраться только дней через пять или шесть – не помню.
Так вот темп. Еще в Москве я обратил внимание, что Владимир Михайлович никогда не ходит обычным шагом – только бегает. Я не придавал большого значения этой его странности, тем более что она вполне могла быть вызвана предотъездной суматохой. Однако первые же метры по территории ДЕЗИ мы не прошли, а пробежали: в столовую, на установку, в гостиницу – всюду мы передвигались вприпрыжку, и могли перевести моего спутника на ходьбу только два тяжелых чемодана. Поскольку Владимир Михайлович был и формальным, и неформальным лидером нашего небольшого коллектива, мне ничего не оставалось делать, как учиться разговаривать на бегу, а первой моей покупкой стали спортивные тапочки.
Сначала я задыхался и воспринимал практически непрерывный бег как тяжелую повинность, но очень быстро втянулся и уже через месяц вовсю трусил и в одиночку. Жалко было тратить драгоценное время на неспешную ходьбу, когда была возможность работать.
В таком же необычном темпе – «бегом» – двигалась и наша работа, но об этом – чуть позже, а пока – в «голубую хижину».
Первой из новостей, которые сообщил нам Питер Ким, было открытие новой частицы – «дзиты».
Как потом я узнал, правильное произношение этой греческой буквы – «дзета». Но услышал его впервые я как «дзита», а потом еще несколько месяцев только так слышал и говорил сам. Вероятно, американские экспериментаторы, избравшие эту букву для своего открытия, произносили латинскую транскрипцию «дзеты» на английский лад. Но дело сделано, и мне не хочется ради буквальной точности менять имя героя рассказа, потому что эта частица в моей памяти всегда останется «дзитой», пусть и дальше будет так, как было в жизни.
Находка была из неожиданных. Частицу с массой 8,3 ГэВа – почти в девять раз тяжелее протона – никто не ожидал. Она не вписывалась ни в одну из существующих теорий и поэтому вполне могла стать началом нового бума в физике элементарных частиц.
В начале июля по ДЕЗИ поползли слухи о новой частице, в середине месяца уже шли обсуждения на семинарах, в конце – на международной конференции в Лейпциге было официально объявлено об открытии, а в августе на ускорителе ДОРИС уже организовали специальный сеанс набора новой информации для тщательного исследования возмутительницы спокойствия. Темп, темп, темп…
Перекраивались все графики работ, менялись планы, но никто не возражал, потому что «внеплановые» находки в физике часто бывают окошками в новые области, началом новой науки. Так что приехали мы очень и очень вовремя. Прямо-таки повезло.
КОЛЛЕГИИз «голубой хижины» мы отправились в комнаты экспериментаторов – это в том же корпусе, этажом выше. Сначала заглянули в свою – с табличкой «Moscow» на двери. Устранили беспорядок, оставленный нам предшественниками, выбрали, кто за каким из шести столов будет сидеть, и пошли в гости к коллегам. Время подошло к восьми утра, многих можно было застать на рабочих местах.
Вторым «аргусянином», которого мы встретили в коридоре, был профессор Дарден из университета Южной Каролины. Полгода он преподает в своем университете, полгода – работает в ДЕЗИ. Всегда в костюме, галстуке, с неизменной сигарой в зубах, этакий типичный англичанин из романов Жюля Верна. Сходство довершали усы. В галстуке всегда вколота булавка – маленький самолетик. По словам Владимира Михайловича, это символ хобби Дардена: он коллекционирует старые самолеты и очень любит летать на них, только вот времени на это совсем нет. Правда, недавно самолетные права получила его супруга, – может, теперь станет полегче. До сих пор не могу понять одного: где Дарден хранит свою коллекцию? Спросить у него – постеснялся.
Дарден с восторгом поприветствовал Владимира Михайловича, с не меньшим энтузиазмом познакомился со мной и вместо обмена светскими новостями стал тут же обсуждать возможности нашей установки по исследованию новорожденной «дзиты». Так было и со всеми коллегами – и в этот день, и потом: поздоровались и сразу же – о работе. О физике говорили за обеденным столом, по пути домой – в гостиницу, даже за кофе, который непременно пьют дважды: после обеда, часов в 12, а потом – в пять вечера. В столовую и кафетерий ходят большой компанией, человек в двадцать, – там мы и познакомились с большей частью членов АРГУСа. Точнее, я знакомился, а Владимир Михайлович большинству был уже знаком.
В первый день все мои силы уходили на то, чтобы понимать английскую речь, поэтому я мало кого запомнил по именам. Усвоил только, что среди наших коллег человек десять канадцев, примерно столько же немцев из Дортмунда, Гейдельберга и Гамбурга, три или четыре японца, а вот американцев, кроме профессора Дардена, углядеть не удалось.
Однако оказалось, что меня запомнили все и на следующий день приветствовали поднятой рукой, улыбкой и возгласом «хэлло» или «хэй». И не просто приветствовали, а всегда старались познакомить еще с кем-нибудь, попавшим в поле зрения. Через неделю мне казалось, что я знаю в ДЕЗИ почти всех. Может быть, окружающие чувствовали, что я явно не в своей тарелке, и старались помочь мне адаптироваться.
Среди новых знакомых было много студентов старших курсов университетов, которые сами совсем недавно освоились в роли полноправных членов сотрудничества; во всяком случае, Владимир Михайлович их не помнил.
В первый же день меня остановил в коридоре солидный молчаливый человек и, представившись как «профессор Аммар из Канзаса», завел разговор о моих научных интересах и наиболее ярких сюжетах только что закончившейся Лейпцигской конференции. До того дня ни один профессор не разговаривал со мной о моих научных интересах, да и самих интересов у меня было не столь много, чтобы можно было их обсуждать с профессорами, поэтому вначале я растерялся, но через десять минут успокоился, а к концу разговора уже высказывал собственные взгляды на развитие современной физики. Этот разговор как-то успокоил меня, особенно тем, что профессор понимал мой английский язык.
Еще через несколько часов, когда я сидел за дисплеем ЭВМ и, глядя на экран, пытался принудить компьютер к осмысленным действиям, ко мне подсел невысокий и всегда улыбающийся Робин Кучке (как позднее я узнал, один из основных экспертов по ЭВМ) и предложил помочь. За полчаса он объяснил мне больше, чем я потом понял за месяц, самостоятельно изучая книги.
Такое доброжелательное внимание со стороны коллег очень помогло освоиться в непривычной обстановке, а разговоры – это, во-первых, практика в разговорном английском, а во-вторых – необходимая для работы информация. При работе большого международного сотрудничества, когда состав группы все время обновляется – одни уезжают, другие приезжают, – постоянное общение с коллегами – совершенно необходимая часть дела, благодаря которой каждый может узнать, что сделано другими, и поделиться своими достижениями. В таком общении и идет кооперативная исследовательская работа.
Основной темой всех бесед в день нашего приезда была «дзита» – частица, найденная на установке «Хрустальный шар».
ЧТО МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ В «ХРУСТАЛЬНОМ ШАРЕ»?Элементарных частиц известно уже много, больше трех сотен. Казалось бы, стало одной больше, что особенного? Но дело в том, что частицы бывают разные: одни отличаются от уже известных лишь количественно – массой, зарядом, другие обладают новыми, доселе неизвестными свойствами.
В 1974 году в опытах С. Тинга, профессора Массачусетского технологического института, и Б. Рихтера, президента Стенфордского университета, была впервые найдена частица, состоящая из неизвестных в то время кварков – «очарованных». Потом семейство «очарованных» частиц сильно разрослось, а первооткрыватели в 1976 году получили Нобелевскую премию.
Сегодня исследователям микромира известно шесть кварков – кирпичиков, из которых «сделаны» почти все элементарные частицы. Три легких – из них «сделаны» протоны, нейтроны, ка-мезоны, пи-мезоны и прочие. Массы этих частиц лежат в районе одного миллиарда электрон-вольт – ГэВа. Частицы, состоящие из четвертого кварка, группируются в районе от трех до четырех ГэВ. Семейство пятого – «прелестного» – кварка разместилось между 9,5 и 10,5. Между семействами – пустоты, частиц там нет, и теория не может объяснить их появление.
Новая частица из Гамбурга появилась как раз в том месте, где, по современным понятиям, ничего быть не должно.
Обнаружили ее, как уже было сказано, на установке «Хрустальный шар», стоящей в одном из двух мест встречи пучков ускорителя ДОРИС. В другом – стоит наш АРГУС.
Если бы можно было взглянуть на «Хрустальный шар» в разобранном состоянии, то более всего он напомнил бы свернувшегося в клубок метрового ежа, каждая из иголок которого – кристалл, где при прохождении частицы возникает свет. К хвосту каждой иглы прикреплен специальный прибор – фотоумножитель, собирающий кванты света.
«Хрустальный шар» лучше всего ловит фотоны, или, как их иначе называют, гамма-кванты. «Дзита» родилась именно при исследовании фотонов.
В столкновении электронов и позитронов из встречных пучков рождаются разные частицы, в том числе и из семейства пятого кварка, семейства ипсилон-частиц. Чтобы различать членов этого семейства, их метят штрихами: самый легкий обитатель семейства – просто «ипсилон», следующий – «ипсилон-штрих», потом – «ипсилон – два штриха» и так далее. Конечно, не очень удобно, но частиц стало так много, что персональной буквы для каждого просто не осталось.
Вновь рожденные частицы через очень короткое время распадаются, и по тому, как происходит распад, можно, во-первых, многое узнать об устройстве самих частиц, кварков и их взаимодействий, а во-вторых, поискать что-нибудь интересное и неожиданное среди продуктов распада.
Экспериментаторы «Хрустального шара» изучали распады ипсилона – самого легкого – на фотон плюс еще «что-то». Еж «Хрустального шара» с высокой точностью определяет энергию фотона, а в том, что такое это «что-то», не разбирается. Все члены семейства ипсилонов, как различные уровни атома, могут переходить друг, в друга, испуская фотон, и только самому легкому распадаться не на что. А в экспериментальных данных «Хрустального шара» было ясно видно, что он все же распадается на фотон плюс еще какую-то частицу, о рождении которой и было сообщено на конференции в Лейпциге.








