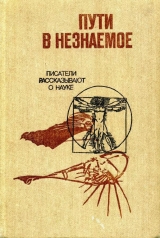
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 48 страниц)
«Еще носилась около сего времени одна странная история, – пишет Болотов, – не только о бесчеловечии, но о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уезде и делающей пятно всему дворянскому корпусу». И рассказывает со всей присущей ему основательностью о том, как в помещичьей семье погибла крепостная девушка-кружевница. Она дважды бежала от зверей хозяев, «но, по несчастью, опять отыскана и уже заклепана в кандалы наглухо; а сверх того надета была на нее рогатка, и при всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке и днем плесть кружева, а ночевать в приворотной избе под караулом и ходить туда босая. Сия строгость сделалась наконец ей несносною и довела ее до такого отчаяния, что она возложила сама на себя руки и зарезалась, но как горло не совсем было перерезано, то старались сохранить ей жизнь, но, разрубая топором заклепанную рогатку, еще более повредили, так что она целые сутки была без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, но жила целый месяц, и хотя была в опасности, но кандалы с нее сняты не были, и она умерла наконец в них, ибо рана, начав подживать, завалила ей горло».
Представим себе, что в поместье вошел Пугачев и спас девушку, – разве это не было бы счастьем? А если бы не успел, отомстил тем, кто ее замучил, – разве возмездие это не было справедливым?
Но в том-то и дело, что пугачевцы, ворвавшись в поместье, верные своей программе истреблять дворянство под корень, наверняка бы повесили всю помещичью семью вместе с малыми детьми – сколько их в списках погибших…
Пугачевщина – одно из самых мучительных событий нашей истории. Благородное движение за народную свободу, принявшее форму зверской расправы. Необходимое, потому что крестьянам больше терпеть было нельзя и потому что это был единственный доступный народу способ противостоять дикому произволу. И неизбежное, но бессмысленное, так как победить не могло. И осмысленное, так как сильно напугало помещиков! А если бы победило? Когда Пугачев осаждал Оренбург, он поклялся повесить жившую там семью отличившегося при обороне капитана Крылова. «Таким образом, – пишет Пушкин, – обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов». В другом месте своей «Истории пугачевского бунта» Пушкин рассказывает, как Державин едва ушел от пугачевской погони, и действительно, будь лошадь Державина менее резва, недосчиталась бы наша культура великого поэта. Да и с самим Пушкиным неизвестно еще как бы дело обернулось, если учесть, что пугачевцы побывали в имении Пушкиных, самого хозяина Льва Александровича (деда поэта) с семьей дома не было, и они повесили дворового человека.
К слову сказать, потому-то, наверно, так мучительно и болезненно внутреннее противоречие Радищева, потому он и мечется так между жаждой справедливого народного восстания и пониманием всего связанного с ним кровавого ужаса, что жегший его совесть крестьянский вопрос был в ту пору неразрешим.
Одни из самых интересных воспоминаний о пугачевщине – это мемуары Дмитрия Мертваго, который четырнадцатилетним мальчиком оказался в водовороте крестьянской войны.
Помещики, жившие в Поволжье недалеко от Алатыря, уже получали грозные предупреждения, но с места не двигались, все еще надеясь, что «злодей далеко, а правительство сильно и примет меры». И вдруг, как раз когда в семье праздновали именины матери, пришло письмо от соседа, который сообщал, что Пугачев в тридцати верстах. Мертваго кинулись было в Алатырь под защиту правительственного гарнизона, но по дороге узнали, что самозванец уже там и народ встречает его хлебом-солью. «Весть эта была громовым для нас ударом; надо было бежать, а куда, бог знает». Скоро стало ясно, что в деревнях им оставаться нельзя, что здесь повсюду ждут Пугачева, и они пустились в лес, в густую чащу, где и обосновались на какой-то поляне, построив себе шалаш. «Так пробыли (мы трое суток, не слыша ничего, кроме птичьего крику. В продолжении этого времени почтенный родитель мой делал нам наставления, основанные на чистой добродетели, говорил нам, что спокойствие человека составляет все его блаженство, что оно зависит от согласия поступков его с совестью, что, нарушив это согласие для каких бы то ни было выгод, потрясает он то драгоценное спокойствие, которого ничто заменить не может […]. Потом, прогуливаясь наедине со мной, говорил он, что если случится ему проститься со мной навеки, то помнил бы я слова его и наставлял бы братьев, которые были гораздо моложе меня, чтобы радел о своей душе и сердце и строго замечал свои склонности и поступки […] и, наконец, заклинал меня быть достойным имени его, угрожая в противном случае божеским наказанием».
Этот разговор на поляне в лесу, когда кругом гудело пламя пугачевщины, мы запомним – к нему нам предстоит вернуться.
Крестьяне, окружив лагерь, напали на него со всех сторон, люди разбежались, дочери под руки утащили мать в лес, «злодеи кинулись на батюшку. Он выстрелил из пистолета, и хотя никого не убил, но заставил отступить, и, схватив ружье, лежавшее возле него, и трость, в которую была вделана шпага – не видя никого из своих около себя, побежал в чашу леса, закричав нам: «Прощай, жена и дети!» Это были последние слова, которые я от него слышал».
Мальчик долго блуждал один по лесу, встретил маленьких братьев с няней, они все вместе переночевали в лесу, а утром вышли на дорогу. «Уже солнце высоко поднялось, когда приблизились мы к речке, берегом которой шла дорога; прелестные места кругом, небольшие полянки, приятный утренний воздух и повсеместная тишина заставили было нас забыть ужасное наше положение, но вдруг услышали мы страшный крик: «Ловите, бейте!» Я схватил за руку одного брата, бросился к речке и скрылся в густой траве у берегов, а няня с меньшим братом моим побежала по дороге. Злодеи, приняв ее за дворянку, погнались за нею, и один из них ударил ее топором; в испуге она подставила руку, которая, однако, ее не защитила; острие, разрубив часть ладони, вонзилось в плечо; страшный крик сильно тронул мое сердце. В то же время слышу я вопль брата, которого схватили и спрашивали, куда мы побежали», – и юный Мертваго вышел из укрытия.
На этот раз их отпустили, Дмитрий дотащил, как мог, окровавленную няню до какой-то мельницы, где мельник сказал, что оставит только раненую, поскольку она не дворянка, «а нас он принять не смеет, боясь быть за то убитым со всем своим семейством», но обещал накормить. Только они сели за стол, как на мельницу ворвались казаки-пугачевцы, мельник точас показал, куда спрятались мальчики; младших вынесли на руках, Дмитрия выволокли за волосы.
«Я увидел всю толпу у мельничного амбара, – рассказывает Мертваго, – нас поставили в середину ее и стали произносить приговор. Всяк говорил свое и предлагая, как меня убить; а братьев, как малолетних, отдать бездетным мужикам в приемыши. Некоторые предлагали бросить меня с камнем на шее в воду; другие – повесить, застрелить или изрубить; те же, которые были пьянее и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не привыкших еще к убийству». Но тут кто-то вспомнил, что Пугачев ищет грамотного мальчика себе в секретари и обещал за него пятьдесят рублей. «Меня начали экзаменовать, заставили писать углем на доске, задавали легкие задачи из арифметики и наконец признали достойным занять важное место секретарем у Пугачева». Потом юному дворянину топором отрубили косу («батюшка не любит долгих волос, это бабам носить прилично») и захватили с собой. По дороге детям удалось бежать. Долго скитались они, одни крестьяне, рискуя жизнью, их прятали, другие выдавали. Наконец попали они в алатырскую тюрьму и здесь нашли мать и сестер. Но когда сын кинулся к матери, та холодно протянула ему руку. «Где отец?» – спросила она. Оказалось, что она уже двое суток как молчит и в поступках ее заметно помешательство.
«На другой день, – продолжает Мертваго, – поутру вошла к нам в тюрьму […] горничная двоюродной сестры нашей, убитой во время смятения. Матушка спросила ее, не знает ли чего о батюшке. «Его вчера повесили в деревне вашей», – отвечала та хладнокровно». Известие было верным».
Но ведь и у дворян, присутствовавших при расправе с мятежниками, сочувствия к ним не было. Добрейшему Болотову не пришло в голову связать судьбу замученной девочки-кружевницы, которую он так жалел, с народным мятежом. Попав на казнь Пугачева, он «неведомо как рад был», что занял наилучшее место «для смотрения», возможно ближе к эшафоту; вместе с «добрыми людьми» опасался, что Пугачева помилуют, а потом был глубоко возмущен, когда палач (потайной инструкции Екатерины) отрубил Пугачеву голову и не дал ему «долго мучиться». Просвещенный Болотов предстает нам тут в свете куда более страшном, чем горничная Мертваго: та была по крайней мере равнодушна к судьбе погибшего барина, а Болотов жаждет мучений врага.
Словом, возникло положение, для страны трагическое: как дворяне не видели в «подлом народе» людей, так и крестьяне своих господ за людей не считали. Конечно, и тут картина отношений была много сложней, дворянство и крестьянство были не только разъединены, но и соединены общностью жизни (Гринев – Савельич, маленькая Анна и ее няня), соучастием в едином культурном творческом процессе. Были одновременно и единство, и глубокий, как пропасть, общественный раскол.
Если рассматривать портреты в неестественном и кровавом свете гражданской войны, они предстанут нам уж и вовсе непонятными. Впрочем, социальная система вернулась к своему прежнему пусть и неустойчивому, но равновесию. Кое-где еще погромыхивало, но, в общем, порядок (опять же несправедливый и опять же большой кровью) был восстановлен.
И все же еще острее стоит перед нами прежний вопрос: почему искусство эпохи, столь тревожной и противоречивой, не отразило нам ни тревоги, ни противоречий, почему, напротив, оно являет нам райскую пестроту росписей, безукоризненно льющийся мрамор в бесчисленных нимфах и психеях с их совершенным спокойствием (разве что одни гении смерти со своими факелами, опрокинутыми и потухшими, позволяли себе скорбеть у погребальных урн); почему так великолепно гармоничны фасады классицистических дворцов и усадеб?
И опять же, почему при таком непокое, при столь трагическом расколе общества XVIII века так спокойны, так безмятежны его портреты?
* * *
Страна была полна жизненных сил – страна была больна. Она рвалась вперед – рывку мешали пудовые кандалы крепостничества.
Как ощущали себя в столь противоестественной ситуации думающие люди страны?
Никак особенно.
Тут нам необходимо напрячь наше историческое воображение, заставить его идти не от нашего времени назад, как оно обычно делается, а наоборот: от допетровских, предположим, времен вперед – к екатерининским. Только тогда сможем мы примерно понять социальное самочувствие русского дворянина (и крупного, и мелкого). Нельзя забывать, что родился он в данной социальной среде, что не только с ней сроднился, но иной себе и не мыслил, – сложившаяся веками, она была для него естественной. У него не было сомнений в его праве владеть крестьянами, покупать их, продавать, карать их или миловать.
Когда жизненная система русского дворянства пришла в столкновение с новым направлением мыслей, принесенных веком Просвещения, с его культом свободы, равенства, естественного права, к услугам дворянина была целая, опять-таки веками слагавшаяся система обоснований и доводов. Тут была (еще от средневековья идущая) теория свыше установленного разделения общественных обязанностей (одни молятся за всех, другие всех защищают, третьи всех кормят); у каждого сословия свои добродетели, добродетель крестьянина – трудолюбие и покорность.
Точка зрения на крестьян, как на помещичьих детей, была всеобщей, помещик отвечает за мужика перед богом, обязан его воспитывать, а стало быть, вправе и наказывать (применять телесные наказания как бы вменялось в обязанность любому воспитателю – и отцу, и педагогу, и помещику). Болотов, узнав, что в деревне крестьяне воруют, был в большом смятении именно от необходимости применять наказание. «Будучи от природы совсем не жестокосердным, а, напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорбить и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи, и видел тогда сущую необходимость оказывать жестокость и с сими бездельниками для унятия их от злодейств драться, терзался я оттого досадою и неудовольствием. Но нечего было делать».
Весь вопрос сводился к тому, каковы личные качества помещика: если он человек добродетельный и кроткий, если, еще лучше, он относится к своим крестьянам, как граф Строганов к своему крепостному архитектору Воронихину, тогда никаких тревог и вообще-то нет.
Можно не сомневаться, что тот же А. С. Строганов, умирая и подводя жизненные итоги, не ощущал никакого раскаяния. Его, просвещенного, ни в какой мере не тревожило то обстоятельство, что он был владельцем человеческих душ, хозяином их жизней, что он жил за счет их (часто непосильного) труда. Он не только не видел ничего противоестественного в крепостном праве, но даже отстаивал его необходимость; во всяком случае, Екатерина, жалуясь, что ее попытка в начале царствования выступить против крепостнических порядков натолкнулась на сопротивление ближайших к ней вельмож, говорит, что в числе их был и Строганов, хотя он и добрейший в мире человек.
Да и какая в том беда, если крестьянин перейдет от одного помещика (отца родного) к другому (тоже отцу родному)? Факт продажи человека человеком отнюдь не заставлял вздрагивать дворянские сердца. Мы говорим не о зубрах реакционерах, ярых сторонниках крепостничества, нет, речь идет о передовых людях эпохи. Когда сам Новиков, великий просветитель, продал свою деревню, этот факт, по-видимому, не вызвал в его душе никаких сомнений и тревог.
И уж во всяком случае никто из дворян XVIII века не желал быстрых социальных перемен. В этом отношении интересен спор княгини Дашковой с Дидро. Говоря об освобождении крестьян, Дашкова, просвещенная, образованная, президент двух академий, прибегает к аргументации-аллегории: слепорожденный, который живет на скале, окруженной пропастью, счастлив, пока не видит пропасти; глупый глазной врач возвращает ему зрение, бедняга в ужасе, не ест, не спит (не поет песен, как раньше) и в конце концов «умирает в цвете лет от страха и отчаяния». Дашкова пытается уверить читателя, будто Дидро (Дидро!) был повержен в прах ее замечательной аргументацией. Что до практики, то княгиня убеждает собеседника, будто под ее управлением крепостные богаты и счастливы. Зачем открывать им глаза на их положение?
Если мы хотим изучить эпоху, у нас нет другого пути, как попытаться понять ее точку зрения. Другое дело, что от этой точки зрения нас прошибает озноб. Русского дворянина XVIII столетия озноб не прошибал.
Конечно, жили в этом столетии также и люди с обостренной совестью, они смириться не могли. Пылкое, ранимое, благородное сердце Радищева как раз не могло смириться, его знаменитое «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала» выстрадано глубоко. И он вступил в борьбу, поразив смелостью и современников, и ближних потомков (Пушкин), и нас, далеких. Не смог смириться Федор Кречетов, ставший на путь неустанной проповеди, горячих обличений. Ярославский помещик Опочинин покончил с собой, в предсмертной записке очень ясно объяснив причины своего рокового шага. «Отвращение к нашей русской жизни, – писал он, – есть то самое побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу». По завещанию он отпустил две семьи дворовых на волю, велел раздать крестьянам барский хлеб.
Но все это исключения, передовые дворяне эпохи в борьбу не кидались и самоубийством не кончали, потому что в существующем положении дел непоправимой трагедии не видели и, в общем, с существующим порядком мирились.
Пугачевщина всколыхнула помещичий слой до самых его глубин и научила дворян некоторому уму-разуму, в этом, повторим, огромная заслуга крестьянской войны: теперь помещик твердо знал, что в случае нового мятежа своего доброго барина крестьяне, может быть, на расправу не выдадут, зато уж злого выдадут непременно.
Взволнованное до глубины души, перепуганное до обморока, русское дворянство вместе с тем успокоилось довольно быстро, убежденное – и не без оснований, что государыня и ее генералы примут меры и больше подобного не допустят.
Но социальной совести дворянина крестьянская война не разбудила.
Социально-психологическая система дворянского общества неуклонно стремилась к равновесию и легко его достигала. Это относится и ко всему дворянству, и к каждой отдельно взятой дворянской душе.
Тяжкие противоречия эпохи, острая борьба старого и нового, полная невозможность хотя бы как-то согласовать идеи Просвещения, притягивавшие своим благородством и ясностью, с тем, что происходит в действительности, – это ужасное несоответствие, казалось бы, должно было неизбежно привести дворянскую душу к трагической раздвоенности. А душа не раздваивалась.
Жизнь испытывала русского дворянина на разрыв – он не разрывался.
Я думаю, что происходило это совсем не потому, что он неглубоко и не очень всерьез (в чем обычно упрекают «русское вольтерианство») воспринимал новые идеи; напротив, новая культура как раз через него-то и шла, сильно его трансформируя. Просто не пришло еще время благотворного социального раскаяния.
Век рождал натуры упругие, цельные, веселые (сама Екатерина тому пример) – такие были ему нужны. Еще не настала пора душевной тревоги и раздвоенности, благодетельных для русской культуры и породивших великую литературу. Еще не родились те мятежные натуры, которые столь сильно жаждали бури, «как будто в буре есть покой». Людям XVIII века хотелось просто покоя, они считали его высшим жизненным благом.
Помните разговор в лесу на поляне, который старший Мертваго вел с младшим, когда кругом пылала пугачевщина? В этом предсмертном разговоре старший говорил младшему о том, что считал самым важным в жизни. Он говорил, «что спокойствие человека составляет все его блаженство и что оно зависит от согласия поступков его с совестью, что, нарушив это согласие для каких бы то ни было выгод, потрясает он то драгоценное спокойствие, которого ничто заменить не может». Высшее благо!
Но ведь и Пугачев в своих великолепных воззваниях к народу тоже, как высшее благо, желает мужику «спокойной в свете жизни». Именно о мирном труде мечтал народ.
И поэзия не устает твердить о том же – что высшее человеческое счастье состоит в душевном спокойствии. Даже мятежный Державин:
Одно лишь в нас добро прямое,
А прочее все в свете тлен:
Почиет чья душа в покое.
Поистине тот есть блажен.
В послании к Львову, своему другу, центру притяжения их кружка, Державин дает как бы его нравственный портрет, портрет человека, чья жизнь безупречна. Вот почему:
Ему благоухают травы,
Древесны помавают ветви,
И свищет громко соловей.
За ним раскаянье не ходит
Ни между нив, ни по садам,
Ни по холмам, покрытым стадом,
Ни меж озер и кущ приятных.
Но всюду радость и восторг.
Труды крепят его здоровье,
Как воздух, кровь его легка;
Поутру, как зефир, летает
Веселы обозреть работы,
А завтракать спешит в свой дом.
Потому и «кровь его легка», что «за ним раскаянье не ходит».
Чтобы достичь идеала эпохи – спокойствия души, – нужно одно непременное условие: чистая совесть.
Социальная совесть крестьянина была чиста, это нам понятно: он нес на своих плечах все тяготы государства, кормил страну и одерживал победы в ее кровавых войнах.
Но в том-то и дело, что совесть русского дворянства, указом о «вольности» освобожденного от каких бы то ни было обязанностей по отношению к государству и обществу, удивительным образом тоже оказалась чиста.
Ведь и в самом деле это странно. Мы, знающие историю русской интеллигенции, помним, как остро в XIX и начале XX веков ощущала она свою вину перед теми сословиями, которых гнула, унижала, истязала современная им социальная система, и потому ждем от дворян XVIII века (но крайней мере от передовых) той же боли, тех же сильных, бескорыстных и благородных чувств. Мы ждем напрасно: для подобных чувств, повторим, пора еще не наступила.
Душой интеллигенции XVIII века владела надежда. Надежда на бога – жизнь Болотова, например, базировалась на такой надежде целиком (кажется, что у бога нет иных забот, как опекать болотовскую семью) Во дворце Строгановых в торжественной раме хранилось наставление Строганова, известного вольнодумца и весельчака, сыну: доверься богу, он твоя главная, незыблемая жизненная опора. Другие не менее свято, чем в бога, верили в благость природы, в здравость человеческой натуры, в силу разума. Все эти надежды могли сливаться в одну. Уверенность, что все в конце концов устроится самым лучшим образом, владела людьми эпохи Просвещения. В общественном сознании работали могучие успокаивающие факторы.
Но в том-то и дело, что душевный покой нужен был XVIII веку не для того, чтобы благодушествовать и веселиться (хотя он и веселился, и благодушествовал вовсю), но для того, чтобы работать.
А работу он себе выбирал по силам.
У Пушкина есть посвященное князю Н. Б. Юсупову стихотворение «К вельможе», где XVIII век (его поэт живо чувствовал) изображен сжато и точно, а Юсупов представлен как бы его воплощением. Путь Юсупова и в самом деле характерен для знати той поры. Как и Строганов, как и многие другие молодые вельможи, он долго живет за границей, учится и внимает «за чашей медленной афею иль деисту, как любопытный скиф афинскому софисту».
«Как любопытный скиф» – поразительное понимание века!
И вот теперь, в конце жизни, старый князь в своем Архангельском. «Ступив за твой порог. // Я вдруг переношусь во дни Екатерины. // Книгохранилище, кумиры и картины, // И стройные сады свидетельствуют мне, // Что благосклонствуешь ты музам в тишине, // Что ими в праздности ты дышишь благородной».
Но почему праздность, которая всегда, а в XVIII веке особенно, считалась пороком, вдруг стала благородной? Потому что Юсупов стар? Да, он стар и многое на своем веку видал – и предреволюционную Францию (Вольтера, Гольбаха, Дидро, «энциклопедии скептический причет»), и революционную («вихорь бури, // Падение всего, союз ума и фурий, // Свободой грозною воздвигнутый закон. // Под гильотиною Версаль и Трианон»), на волнения нынешней жизни глядит «насмешливо в окно», умудренный опытом, видит «оборот во всем кругообразный» и не видит никаких оснований в нею вмешиваться. Отчасти потому, что стар. Но праздность Юсупова – это не обычная пустая праздность. В свое время она нужна была для духовной работы, дала возможность духовного накопления и сейчас, в старости, дает возможность жить жизнью поэзии. Впрочем, она всегда была полна, его долгая жизнь.
Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил.
Вот это «искал возможного»кажется мне ключом к пониманию дворянской интеллигенции XVIII века.
В сущности все они, интеллигентные дворяне XVIII века, искали возможного. И Екатерина, конечно. Ее преобразовательные планы натолкнулись на сопротивление дворянства? Ну что же, нельзя, значит, надо делать то, что можно. Общество не готово к преобразованиям? «Извольте его приуготовить». XVIII век и выполнял эту программу – «приуготовление» умов к будущим грандиозным преобразованиям.
Надо начинать с себя – тут теоретически сходились все: и умеренные, и крайние. Об этом со свойственной ей сухой горячностью твердила Екатерина в своих журнальных выступлениях. Об этом со свойственной ему трагической страстностью и глубиной говорил Радищев уже не теоретически, а доказав собственной жизнью.
«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвленна стала» – эти знаменитые слова приводятся повсюду. Но за ними следуют другие: «Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом […]. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных». И написал свою великую книгу.
Начните с себя – вот XVIII век и начал. Его главной задачей, возможно более глубокому проникновению во внутренний мир человека, служили и философско-нравственные трактаты, и лирика, и комедии, и другие виды литературы и искусства, но, как мне кажется, прежде всего те источники, которыми пользуемся мы с вами, мемуары и портрет (нужды нет, что одни лежали в столе, у автора, а другой висел на стенке в помещичьем доме).
* * *
У Рокотова есть портрет Дарьи Федоровны Дмитриевой-Мамоновой. Перед нами гордое, торжественное лицо, на губах полуулыбка, а глаза замкнуты, словно бы хранят какую-то тайну. Нетрудно было бы подобрать к тайне биографический ключ: судьба этой женщины, урожденной княжны Щербатовой, была сложна и необычайна. Ее полюбил Дмитриев-Мамонов, фаворит Екатерины, – история эта известна. Но красноречивей всего расскажут ее два портрета из Русского музея.
Они написаны Михаилом Шибановым в 1787 году, на одном царица, на другом ее фаворит. Портрет Екатерины на удивление прозаичен. Екатерина похожа на мужчину – перед нами именно пожилой мужчина с лицом еще крепким (но все же линии его чуть волнятся жиром), с румянцем несомненно здоровым (но уже чуть склеротическим). И меховая шапка с кистью (Екатерина в дорожном костюме), висящей над левым плечом, и дородность, и красный кафтан с орденами, и твердый рот, и деловой взгляд – это крепкий хозяин (а не хозяйка; кстати, мемуаристы говорят, что в ее повадках той поры, в манере кланяться, например, появилось нечто мужское). А. М. Дмитриев-Мамонов на портрете совсем юный, его миловидно неясное лицо выглядит таким слабым ввиду сильных черт императрицы и таким гладким и тающим ввиду ее морщин, что несоответствие возрастов и характеров выглядит почти пугающе. И тут легко представить себе, как молодой человек («паренек» – называл его екатерининский камердинер) влюбился в юную фрейлину (Дарья Федоровна Щербатова родилась в год екатерининского переворота и, стало быть, была младше императрицы на тридцать три года), как они тайком встречались во дворце, как дрожали, боясь разоблачения. Екатерина в этой сложной ситуации вела себя достойно, сперва долго плакала, запершись, а потом, как видно, взяла себя в руки, закрепила за Мамоновым все свои дары, устроила пышную свадьбу, сама убирала невесту к венцу, и молодые уехали из Петербурга. Когда через год «паренек» стал проситься обратно, он получил вежливый, но непреклонный отказ (да и «известная должность» была уже занята Платоном Зубовым).
Нетрудно предположить, что жизнь молодой графини Мамоновой была не из легких: иметь своей соперницей царицу, долго дрожать и прятаться, а потом, в замужестве, видеть, как муж рвется обратно – к власти, к роскоши двора, к центру, где бьется пульс государственной жизни. Всех этих сведений, как бы ни были они скудны для понимания характеров и отношений, все же достаточно, чтобы объяснить сложность лица, его вызывающую, как бы что-то преодолевающую гордыню, легкую, чуть презрительную улыбку и непреклонную замкнутость глаз, как бы противостоящих страданию.
Но улыбка Дмитриевой-Мамоновой, и ее замкнутый взгляд, и ее независимость – все это принадлежит не только ей, вот что удивительно.
Портрет Новосильцевой – один из самых блестящих рокотовских портретов. Здесь ей двадцать, но она, как и Дмитриева-Мамонова, выглядит много старше и словно бы умудрена годами. А вид у нее такой же победительный, на губах очень похожая улыбка, и так же замкнуты глаза, в них, как справедливо заметил один искусствовед, некое «пугающее всеведение».
Этот ряд улыбок и взглядов можно продолжить.
В Третьяковской галерее есть превосходный портрет Е. Н. Орловой (жены Григория Орлова), очень парадный. Если Новосильцева в простом просторном платье, похожем на домашнее, то Орлова тонко перетянута в стане и великолепно одета: темно-красным горит идущая через плечо орденская лента, сверкает алмазами портрет императрицы (знак статс-дамы), по краю мантии виден горностай (знак княжеского достоинства), высоко взбита роскошная прическа, а на грудь спадают два крутых тяжелых локона. Торжествующая полуулыбка и гордая аристократическая посадка – все это представляет нам блестящую светскую львицу. Но подобное представление сохраняется лишь до того, пока не заглянешь в глаза, они куда сильнее и значительнее всего этого великолепия. И с ними та же история: они тоже знают, да не говорят. Неясность черт, дымчатый расплыв контуров – и ночная мгла в глазах.
«Ночная мгла», как вы помните, лежит «на холмах Грузии», и память тотчас нам подсказывает одну из следующих строк: «Мне грустно и легко». Казалось бы, тональность очень близкая портрету Орловой, есть в нем и туманная легкость, и печаль, но печальная интонация тут сильна настолько, что в конце концов уже и нелегко: томительное чувство охватывает вас при виде этого лица, есть в нем что-то обреченное, даже если не знать (а впрочем, можно ли это – не знать?), что жить этой юной даме осталось недолго, всего года два.
Нет, дело не в биографии модели. Вот перед нами еще одна – графиня Е. В. Санти. Ей двадцать два года, но перед нами вновь лицо немолодое, сосредоточившее в себе значительный жизненный опыт, только, пожалуй, еще более замкнутое. И прищуренные глаза те же – опять те же длинные, загадочные, и пространство между веками опять заполнено таинственными тенями.
«Таинственный», «загадочный» – эти слова так часто употребляются, когда речь идет о рокотовских портретах, что уже стали общим местом, едва ли не банальностью. Глядя в эти глаза (прямо в них не заглянешь, они словно бы смотрят на вас, но всегда чуть-чуть мимо), хочется уловить и что-то другое – ведь сказать «тайна» это, в сущности, ничего не сказать.
Новосильцева, Мамонова, Санти – они так похожи, что наша память легко может их перепутать. Есть в их лицах что-то недостоверное, ускользающее, двусмысленное. «На смех и назло здравому смыслу, ясному солнцу, белому снегу – я полюбила: мутную полночь, льстивую флейту, праздные мысли» – или это колеблющиеся цветаевские строчки тоже слишком определенны для такой текучей неустойчивости, какую являют собой рокотовские портреты?








