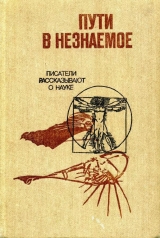
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц)
Неисповедимы пути обретения благостного покоя, за который неустанно борются в подсознании партизанские механизмы защит.
Это они, как к радостной находке, обращают человека вспять – к старым шаблонам поведения, давним знакомым, привычным делам и связям, если новое не заладилось или обещает провал. Это они властно побуждают к возмещению реального или выдуманного недостатка головокружительным успехом в каких-либо других областях, как можно ближе к той, где слаб. Так, согласно легенде, божественно красноречивый Демосфен развил свой талант в борьбе с природным косноязычием; а два знаменитых древних полководца, известные молниеносным передвижением своих войск, оба были безногими; отсюда же вошедшее в поговорку пресловутое честолюбие низкорослых мужчин и будто бы всегдашняя тяга физически хилых к интеллектуальным успехам. В этих одиозных «комплексах неполноценности» есть, очевидно, много надуманного, спекулятивно литературного, но, несомненно, и крупное рациональное зерно.
Это, защищая владельца, энтузиазм, спасаясь от разочарования, склоняет к настойчивому стремлению убедить других даже путем насилия. Американские психологи наблюдали одну небольшую секту веривших в конец света и точно знавших эту дату. Пока они были полны уверенности и энтузиазма, они хранили гордое молчание, кастовую замкнутость и никого не старались убедить. Первая дата обманула их и была какими-то ухищрениями руководителей перенесена. Обманули и вторая, и третья. Секта не распалась! Но ее адепты кинулись яростно обращать в свою веру других, чуть ли не силой вынуждая их поверить и присоединиться. Это пошатнувшаяся внутренняя вера побуждает жажду обратить других, чтобы в них уже черпать себе поддержку.
Один из распространенных видов защиты – фантазия. Мысленное, в мечтах, разрешение душевного конфликта: наказание обидчика, кара виновным, совершение деяний, покрытие постыдного поступка целой цепью героических, воздвижение воздушной триумфальной арки над вчерашним действительным поражением, вымещение, отработка отрицательных эмоций и прерванных действий, недозволенных поступков, отмененных обстоятельствами планов – все это может совершаться в мире мысленных образов, принося успокоение, утоление, радость.
Оттого столь велика склонность человека к мечтам, ярая приверженность его к иллюзиям – они гарантируют скорейшее исцеление любых душевных ран и неуютов. Это влечение наиболее ярко воплощено в приверженности многих к сладким утопиям, душещипательным и закрученным, но со счастливым концом сюжетам массового искусства – всяческим вестернам и прочей продукции «фабрик снов и иллюзий».
Ибо работают психологические защиты и на добычу радости, гордости, душевного утоления.
Это чрезвычайно действенный психологический механизм – возвышение и усиление своего «я» путем отождествления с другими: чтобы перенять на короткое время, пережить как свое и насладиться ощущением могущества, успеха, ума, процветания, находчивости, юмора, взрослости, проиграть в себе состояние героя, лидера, старшего товарища, мастера на все руки, удачливого храбреца. Здесь невозможно переоценить роль массовых коммуникаций, ибо из собственного окружения очень трудно заимствовать образцы для благодатного отождествления. Образ близкого не может сиять таким же безупречным светом, ибо помешает пятно какой-нибудь бытовой детали. А герой массовых коммуникаций чист от приземленности бытовых отправлений (даже уборной он пользуется лишь для гениальных побегов), всегда усмешлив, брит, в настроении, строго подобающем минуте, одет удивительно подходяще для ситуации, прекрасно выглядит и удобен для общения, ибо говорит и делает лишь то, что уже ожидают от него.
Такое же душевное слияние может произойти у человека с великим делом, и здесь работает один особенно интересный прием защит, давно и пристально рассмотренный исследователями человеческой психики, ибо он часто бывал причиной неврозов и разнообразных душевных срывов.
Человек может томиться жгучим стремлением к власти (обнажить которое зазорно или опасно), может быть много лет ущемлен самодурственной тиранией отца или воспитателей, может быть снедаем, сжигаем честолюбием, а примыкает (в любом из трех вариантов) к крупному делу, преобразованию, борьбе. За религиозные, социальные, научные, любые иные реформы. С интересами дела сливаются все его помыслы и стремления, для дела – и только – он добивается победы, овладения, свершения, взятия верха. И все – в интересах всех. И все-таки ради самоутверждения.
Здесь, естественно, возникает справедливое сомнение, и я спешу оговориться. Да, можно быть просто борцом против тирании, против любого гнета – социального или духовного. Просто по убеждениям и глубокой уверенности в своей правоте можно примыкать к любому делу, не ища выхода властолюбивым устремлениям.
Более того, часть реакций, в пружинах которых исследователи усматривают психологические защиты, могут, возможно, обходиться без участия этих механизмов. Более того, существует масса людей, непрерывно терзаемых то многообразными угрызениями совести, то тревогами и страхами, и ни одна из защит не включается в их психике, будто и нет вовсе этих защитных механизмов.
Наконец, главное: отождествление с героем, прикидка себя в его образе – один из самых действенных путей воспитания самых прекрасных качеств.
Однако мы разбираем здесь случаи и ситуации, когда именно представления о защитах оказываются наиболее достоверным инструментом объяснения поведения, с помощью которого поддаются наиболее правдоподобной расшифровке (возможно, временной, но незыблемых, абсолютных истин в науке пока не было) самые причудливые запутанности человеческих отношений и действий.
Спасительные механизмы перенесения – это стрелочные переводы, направляющие поток скрытых побуждений, порывов и устремлений в каждом случае в то русло, на тот путь, где они могут реализоваться, сбыться, найти утоление. Ибо жизненная задача личности – утолить сокровенные жизненные мотивы, воплотить свои духовные потенции, дабы не томиться всю жизнь от их мучительного неизбывного напора.
Так ученый, сполна отдавший себя науке, вдруг начинает усиленно заниматься общественной, организационной, административной работой. Да что вы, его тянет к науке, он по-прежнему ученый до мозга костей, он только и думает, как вернуться к столу и надеть рабочий халат, он и не мыслит себя иначе как ученым, все его помыслы по-прежнему здесь, дайте только разделаться с этими проклятыми околонаучными делами. А их все больше, они все неотложные, и польза-то от них какая явная, от проклятых! Это не случайно и не временно. Это подсознание увело хозяина с пути, где его ждут одни разочарования и скука, туда, где он может реализоваться, выложиться целиком и с упоением.
Здесь, однако, самая пора спохватиться автору повествования, Ибо одно дело – описывать те пределы познания личности, на которых стоит сегодняшняя психология, но совсем другое дело – вдруг задеть ненароком личность самого исследователя. Так что о многом другом, познаваемом сегодня в человеке, – соблюдем традиции Шехерезады – расскажем в следующий раз.
II
Е. Альбац
БЕЛОЕ ПОЛЕ С ЧЕРНЫМИ КВАДРАТИКАМИ
Вопросы, почему это происходит так, а не иначе, возникают каждый день и по всякому поводу. Я отношусь к той категории людей, которым интересно знать: почему?
Из интервью с Б. В. Раушенбахом
…Только прожив большую жизнь, испытав все ее радостные мгновения и затяжные ненастья тоже, человек, с высоты своего возраста и опыта, может оценить, какой же была эта жизнь, каким было поле, по которому он шел: черным, словно измерзнувшаяся земля, с одинокими проталинками, куда лишь изредка забегало солнце, или же снежным, с наледью, но все же снежно-белым, перемеженным точками, полосами, квадратами то ли им самим, то ли кем-то занесенной грязи…
Полутона хорошо видны лишь вблизи.
1Самолет держал курс на восток. Лететь предстояло часов десять – не меньше, и потому пассажиры «ИЛ-14» старались поудобнее устроиться в креслах и наверстать те часы и минуты, что недоспали дома и – с гарантией – недоспят и там, на космодроме.
На Байконуре готовились испытания корабля, аналог которого через год поднимет в космос Гагарина.
Разговор какое-то время еще крутился вокруг столичных дел и предстоящей нервотрепки. По привычке переругивались смежники, впрочем – мирно: обоим накануне крепко досталось от Королева, и это невольно сблизило их… Кто-то предлагал расписать пульку, кто-то, наставляя новичка, в красках рассказывал, что он увидит на космодроме, переводя в прозу популярную тогда песенку «и в виде обломков различных ракет останутся наши следы…». Кто-то взывал к совести окружающих: «Тише можешь?.. Трое суток глаз не закрывал».
Короче, все как всегда: традиционный быт спецрейса Москва – Байконур. Быт тех, кого сейчас более всего остального заботило одно: как-то поведет себя машина.
Среди всей этой компании явственно выделялся один человек. Выделялся, конечно, не внешностью, хотя и она была неординарна – крутой лоб, умные, живые, распахнутые глаза, виски с проседью, энергичная подтянутая фигура, открытое лицо. И еще какое-то поразительное благородство движений. Держался он особняком.
Еще на аэродроме, ожидая самолета, он уютно пристроился к стенке возле крошечного буфета. Вытащил из большого портфеля толстую книгу. Проходя мимо, его будущий сосед по самолетному креслу украдкой прочитал название – Ло Гуаньдчжун «Троецарствие», – тихо ойкнул, однако про себя удовлетворенно отметил: в портфеле тоже не детектив – «Фауст».
«Фауст» их и познакомил, и добрую треть пути они беседовали о Гёте.
– У вас не самый удачный перевод, – говорил «китаист». – На мой взгляд, лучший – Холодковского. В его переводе тоньше, чем у других, передано то, что раньше называли «философией природы»… Это для Гёте очень важно… Вы, может быть, не знаете: Холодковский был профессором химии…
Говорил он быстро, ясно, мгновенно реагируя на реплики собеседника.
Молодой человек (в то время ему не было еще тридцати) – баллистик, технарь – согласно кивал, однако в глазах его читалось недоумение: с какой стати филолог летит на Байконур?
– Вот, посмотрите, – продолжал сосед, – здесь у Гёте «ведьмина таблица умножения» – так называемый магический квадрат, – как ни глянь, сумма чисел везде одинакова, а в переводе что? По-немецки это звучит так:
Du mußt verstehn!
Aus Eins mach Zehn…
Ха-ха-ха… Здорово, да?..
Смеялся он азартно, весело, так что не поддержать его было невозможно.
Скоро к их разговору прислушивался уже весь салон.
Спустя двадцать лет эту историю расскажет мне «владелец» «Фауста» – космонавт Георгий Михайлович Гречко:
– На Байконуре я узнал: тем «филологом» был ведущий специалист в области управления и ориентации космических аппаратов, доктор технических наук, профессор, ныне академик АН СССР, действительный член Международной академии астронавтики Борис Викторович Раушенбах.
Добавлю: за полгода до описанной истории профессор Раушенбах получил Ленинскую премию за фотографирование обратной стороны Луны, через год – орден Ленина за работу по созданию систем управления ориентацией корабля «Восток».
2– Дяденька, пожалуйста, можно посмотреть?
На углу Литейного возле книжного магазина стоял мальчик. Стоял и шепотом, чуть слышно повторял фразу, которую он скажет, когда старик букинист откроет дверь, позволит войти ему внутрь и тогда, быть может, – это уже почти счастье – разрешит полистать книги, выставленные на витрине: Рынин, Перельман, «Межпланетные сообщения», «На ракете к звездам», «В мировые дали»…
Ах, как хотелось бы окликнуть мальчика, о чем-то спросить его! Но он не услышит. И ничего не ответит. То ли потому, что рядом, на Невском, шумят трамваи, гикают извозчики, переругиваются торговки и отстукивают сапогами первые годы революции красноармейцы в длиннополых шинелях, то ли потому, что он очень увлечен, то ли… Да просто невозможно: невозможно докричаться через время толщиною в шестьдесят лет.
Наверное, это покажется банальным, но что поделаешь: Боренька Раушенбах – сын обрусевшего немца, мастера с кожевенной фабрики – действительно грезил небом. Еще ничего не понимая в математике, ровным счетом не зная ни одной формулы, он попросил отца выписать ему журнал «Самолет». Читал все подряд, не замечая заголовков, от корки до корки, до дыр затирая его своими пальцами, не расставался с ним ни днем, ни ночью, аккуратно укладывая его в портфель, когда шел в школу, и пряча под подушкой, когда ложился спать…
Кто бы мог подумать, что именно в этом журнале, десятью годами позже, в тридцать четвертом, он, уже будучи студентом второго курса, задавшись вопросом, почему бесхвостые самолеты не переворачиваются, опубликует свою первую научную статью «Продольная устойчивость бесхвостых самолетов». И в этой первой работе, в этих первых, еще неумелых страницах, уже можно разглядеть истоки того дела, которое не отпустит его всю жизнь. Дело, которое он начнет и в котором он же, спустя десятилетия, поставит последнюю точку. Если можно ее в принципе поставить в по-настоящему большом деле.
А тогда, конечно, были удивительные годы! Тогда казалось, что все, абсолютно все реально! Тогда в каждом дворе и в каждом переулке мальчишки говорили о небе. Тогда на домах, оградах, афишных тумбах были расклеены призывы школы летчиков и кружков Общества друзей воздушного флота. Тогда висели плакаты «Пролетарий, на самолет!» и верилось в фантастические объявления инженера Лося, искавшего себе спутника для полета на Марс… Знал ли инженер Лось, сколько таких энергичных, нетерпеливых спутников бродило тогда по Ленинграду?! Да и только ли по Ленинграду? А по Одессе?..
На «фирме» – так и сегодня называют КБ Сергея Павловича Королева – Борис Викторович Раушенбах впервые, уже официально, как штатный сотрудник, появился лишь в феврале шестидесятого года. Можно было бы, наверное, назвать дату и поточнее. Но стоит ли? Ведь она бессмысленна. Ибо любой человек, связанный с ракетной техникой, вам скажет, что БВ – так его там звали – был коллегой, сподвижником, единомышленником Королева всегда, даже когда тот не был еще Главным, не был Королевым, даже когда конструкторского бюро этого не существовало вовсе. Они всегда были едины в самом важном – делать новое! То, что никто и никогда до них не делал.
Раушенбах не был членом Группы изучения реактивного движения (ГИРД), обосновавшейся в Москве, в подвале на Садово-Спасской. Не пускал вместе с гирдовцами ракету «09», не кусал себе губы, когда видел прожженные сопла этих первых ракет, не слышал, как в угаре работы неистово бормотал Цандер: «На Марс! На Марс!» И после… Он был в Москве, когда Королев – на Севере. Был на Севере, когда Королев – в Москве, а потом долго, до февраля шестидесятого, трудился совершенно в другом институте, руководимом Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, трудился там счастливо тринадцать лет и… своим переходом на «фирму» несказанно удивил всех и вся. Он был к тому времени уже доктором и профессором, без пяти минут членкором, был спокойным теоретиком, а ушел на сумасшедшую работу, по сути дела на производство, на работу без отпусков, по восемнадцати часов в сутки, с бесконечными командировками и полным отсутствием выходных; на работу, которую потом он сам назовет самыми счастливыми годами своей жизни. Это ли не судьба?..
Но все еще только будет, будет. А тогда в другом городе, в Одессе, другой мальчик, сын учителя Сережа Королев, ночами просиживал над книгами немецких аэродинамиков, учился в Киевском политехе, потом в МВТУ и тоже мечтал, мечтал… Как интересно им было бы тогда встретиться, поговорить, но, видно, не пора.
Боря Раушенбах заканчивает школу и идет рабочим на авиазавод. Там машины, и там металл, и там возможность строить эти машины, которые… придумал не ты… и разработал, опробовал, испытал тоже не ты… Он подает документы в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота. На факультет самолетостроения. А его отправляют на отделение аэрофотосъемки… И все же через полтора года, сдав за зимние каникулы два курса теоретической механики (не потому ли он сейчас возглавляет одноименную кафедру в Московском физико-техническом институте?) и курс сопромата, он добивается своего! И удирает с лекций, чтобы попасть на заседания первой Всесоюзной конференции по стратосфере.
В президиуме сидят Вавилов, Карпинский, Шмидт и многие другие известные ученые. Но он смотрит не на них и слушает не их, а ракетчиков. Они в явном меньшинстве. Они пасынки штурма стратосферы, завоевание которой ведется с помощью аэростатов. И потому к сообщениям ракетчиков зал относится безразлично, бесстрастно – второстепенный, малоперспективный путь. Им мало кто верит. Он – верит, и эти доклады его интересуют более всего. Значит, где-то над этим работают. Значит, уже начинается. Началось!
Он обрадуется этому ужасно.
Там же, на конференции, Раушенбах впервые увидит Королева. Но они пройдут мимо друг друга. Пройдут мимо и позже, на планерном слете в Крыму, куда оба привезут свои летательные аппараты. Тяжелая, неповоротливая, несуразная конструкция Королева Раушенбаху не понравится совершенно. И лишь потом он поймет: характер будущего Главного не позволял ему делать то же, что и все. Тяжелая? Да! Но зато на его планере можно крутить мертвые петли, а на других – нельзя!
Потому они и шли навстречу.
Встреча эта была неотвратима. Ибо мечта уже приобретала свою вторую ипостась – она облекалась в реальное дело. Ибо только в микромире частицы одного заряда отталкиваются. В мире большом и тесном действует универсальный закон притяжения. В общем, это была судьба. Их общая судьба.
Пространство насыщалось и уплотнялось, расстояние теряло свой смысл. И вот оно свелось к нулю.
– Вы понимаете, какая штука… Как сделать ракету, мы знаем, как ее отцентровать, куда поставить баки – тоже более или менее представляем, двигатели кое-какие у нас есть, но с управлением – полная беда… Ракета в небе вытворяет что хочет, и как ее обуздать, сделать устойчивой – никакой теории… В общем, теперь все зависит от вас, вашу тематику я считаю самой главной…
Так они и познакомились: заведующий группой летательных аппаратов Реактивного научно-исследовательского института С. П. Королев принимал на работу недавнего студента, а ныне – после научных публикаций в «Самолете» – специалиста по устойчивости (в то время – запомним, это очень важно, – сиречь и управлению) полета Б. В. Раушенбаха. По своему обыкновению, Сергей Павлович старался убедить нового сотрудника, что ничего важнее его задачи сегодня нет и в ближайшем будущем не предвидится. Впрочем, в данном случае он почти не лукавил. Ибо ракета в небе действительно вела себя, мягко говоря, легкомысленно. Хотя, казалось бы, за спиной – трудный, головоломный, многолетний опыт авиации…
Как и на самолете, у нее были рули. Был и автопилот – правда, уже свой, разработанный инженером-механиком РНИИ С. А. Пивоваровым… Было еще и много всякой специфической начинки, какой и на самолетах масса. Не было только одного: теории, а следовательно, и практики того, как новый летательный аппарат будет этот опыт применять в совершенно иных – и целевых, и конструктивных – условиях. Когда вместо воздушного винта – реактивный двигатель, а вместо летчика, подправляющего автопилот в воздухе, – полное отсутствие оного.
Это, знаете, как с хорошо знакомой книгой, которую вдруг видишь на другом языке: тщишься прочесть, даже что-то угадываешь, но понимаешь – это уже другая книга и читать ее не тебе…
В общем, управление ракеты нужно было переделывать, доводить до ума. Придумать нечто, что, заменив человека, дало бы ей способность действовать осмысленно, целенаправленно, по строго определенной программе. Этим и занялся Раушенбах, важно называемый в группе Пивоварова «теоретик»! Кстати, та статья в журнале «Самолет», которую Борис Викторович опубликовал в 1934 году, еще студентом второго курса, была первой подобной работой в Советском Союзе: на нее потом ссылались во многих монографиях и учебниках, и потому в РНИИ помимо этого официального – «теоретик» бытовало в обращении к нему и шутливо-уважительное – «наш классик».
Так или иначе – через два года, уже в отсутствие Королева, необходимая система гироскопических приборов была установлена и опробована на ракете «212»… Придумана, построена, испытана!
Потом было много всего разного. Пути их снова далеко и надолго разошлись… Менялись люди вокруг, менялись города и письменные столы, принимая то вид кухонных тумбочек, то простых нар. Привязанности не менялись. И на Севере, в Нижнем Тагиле, на кирпичном заводе, Раушенбах по заданию КБ авиаконструктора Болховитинова продолжал считать параметры устойчивости самолетов и артиллерийских снарядов. Это было во время войны.
Наверное, когда-нибудь, пусть и не в этом веке – долго ли до следующего? – в Москве повесят памятную доску: «Здесь начиналось создание первой в мире системы управления ориентацией для межпланетной автоматической станции «Луна-3». Человек сторонний скорее всего подумает, что в этом доме работали конструкторы аппарата, впервые увидевшего, по образному выражению Ярослава Голованова, затылок Луны. А узнав, в чем дело, верно, рассмеется и не поверит: «Да неужели? Бросьте, это байки». Но было именно так. Как – расскажу чуть позже. Прежде вот об этом.
Однажды Борис Викторович Раушенбах задался одним, в общем-то довольно очевидным вопросом, который, однако, столь же очевидного ответа не имел: как будут управляться летательные аппараты в космическом пространстве? То есть в невесомости. То есть там, где нет внешней среды, а значит, и точки опоры.
Раушенбах не первый поставил этот вопрос. Он волновал еще пионеров космонавтики: и Циолковского, и Цандера, и Кондратюка, и других. Все понимали, что, не решив его, в космосе летать нельзя, дальше орбиты Земли не уйти и, что еще печальнее, домой не вернуться. И тем не менее…
Великий Циолковский едва касался проблем управления и предлагал довольно упрощенный вариант. «Рули направления и поворота подобны аэропланным, – писал он. – Помещены они снаружи, против устья взрывной трубы. Они действуют в воздухе и в пустоте. Их уклонение, а вместе с тем и уклонение ракеты в атмосфере происходит от сопротивления воздуха и от давления стремительно мчащихся продуктов горения. В пустоте же – только от вылета взрывающихся веществ». Та же идея привлекла и фон Брауна: он приделал к своей «Фау-2» графитовые рули. Однако это хорошо при работающем двигателе. А когда аппарат уже в космосе и никаких «взрывающихся веществ» и «мчащихся продуктов горения» уже нет, тогда как быть?
У Циолковского лишь легкий намек на гироскопы и солнечную ориентацию: «Компас едва ли может служить руководством к определению направления. Для этого пригодны более всего солнечные лучи, а если нет окон или они закрыты, то быстро вращающиеся маленькие диски» (так он называл гироскопы).
Юрий Кондратюк тоже говорил о гироскопе, сам изобрел «двуосный астатический гироскоп». Но всей проблеме в замечательной своей рукописи посвятил всего три страницы.
Француз Робер Эсно-Пельтри в «Астронавтике» писал, что устойчивости космического корабля можно достичь при помощи «трех небольших электродвигателей, каждый из которых снабжен маховичком с достаточным моментом инерции, причем оси двигателей расположены под прямыми углами». Совет хорош, но, к сожалению, умозрителен. Какая масса должна быть у этих «маховичков»? Какая мощность у электродвигателей, чтобы их раскрутить? И где эту энергию взять?
Первым, кто попытался систему (если можно ее так назвать) управления воплотить в металле, был американец Роберт Годдард: 19 апреля 1932 года он запустил первую ракету с гироскопическим управлением. Но опять-таки сигналы от гироскопов шли на газовые рули, и управление осуществлялось на активном участке полета. Это же совсем другая задача, которую и у нас в Советском Союзе тоже решали в 30-х годах в РНИИ… Нет, не то, не то… И понятно, почему не то. Время еще не пришло…
Космическая скорость, эффективность двигателей, создание ракеты как таковой – вот что тогда беспокоило прежде всего! Быть в космосе или не быть? А уж потом, если быть – то как? В общем, никакой теории, никаких даже приблизительных инженерно-технических расчетов и проектов не существовало. Проблема оставалась абсолютным белым пятном, континентом, лишь пунктирно обозначенным на карте космонавтики, который еще только предстояло открыть. И, откровенно говоря, не очень было ясно, как к нему подступиться.
Нет, конечно, определенный опыт, знания были. Слава богу, к середине XX века машинами – и какими! – управлять научились. И кораблями, и самолетами, и даже ракетами. Много воды утекло с тех пор, когда Борис Викторович ломал себе голову над автопилотами в группе Пивоварова в РНИИ. Целые институты потом над этим работали и продолжают работать, не один десяток учебников и монографий встал на полки библиотек. Не могло же это – ну пусть для целей и вне Земли – совсем не пригодиться? Так в науке, в технике так не бывает. Они не отменяют, а продолжают достигнутое ранее. Развивают, преломляют в зависимости от новых задач, но не откидывают же в сторону, в ничто?..
Раушенбах думал: наверное, пригодятся оптические датчики, это глаза – они поймают, увидят ориентир. Гироскопические приборы? Конечно. Сии навигационные умники, уже не один десяток лет помогающие на море и в воздухе, дадут возможность привязать объект к определенной системе координат. Тут Циолковский и Кондратюк правы… Реактивные двигатели – да, безусловно. Без них либо… либо без особых маховиков – конечно, не таких, о которых писал Пельтри, – в безвоздушном пространстве не выполнить ни один маневр: ноги, мускулы аппарата… Впрочем, одного чего-то тут мало, – видимо, лучше комбинация: маховики – первый контур управления, движки – второй… Наконец, электронные мозги. Нужен какой-то блок логики, памяти, который выберет оптимальный путь. Нужен. Но какой? Какие гироскопические приборы? Какие датчики и двигатели?.. Все это было совершенно неясно – полный туман.
Точнее – пустота. Вакуум. Космос! Где аппарат, созданный человеком, беспомощен. Он кувыркается, тычется в разные стороны, силится понять – куда? А направлений бесконечно много, а это все равно что их нет вовсе. Ведь бесконечно большое и бесконечно малое – суть одно и то же, обычной логике не поддающееся: их не «пощупаешь» руками. Там нет одного ориентира, одной цели, а потому так трудно выбрать одну дорогу, по которой поведет упрямая ось гироскопа. Там нет сопротивления, трения – того, что так всегда мешало на Земле, – и потому привычным рулям и колесам не за что зацепиться, не от чего отталкиваться. Там «работает» другая логика. И потому на Земле, чтобы эту, другую, логику создать, нужен иной принцип, иной подход, иная психология.
Раушенбаху предстояло из привычного, уже обыденного, сотворить некое другое качество. Создать теорию управления движением корабля в космическом пространстве. И воплотить ее в практику. Никому и никогда, прописью: никому и никогда до него подобную проблему решать не приходилось.
Белое поле – вот что привлекло его более всего. Вот почему он так загорелся этой задачей. Устойчивость ракеты – это уже был пройденный для него этап, вибрационное горение – тема, которой он занимался последние годы, – тоже. Там, конечно, еще оставалось немало иксов и игреков, но над ними бились уже сотни людей. Тут он был один. Или практически один: во всем мире от силы десять – двадцать ученых занимались тем же.
Короче, он вновь почувствовал себя в своей стихии.
Над этой проблемой Борис Викторович начал работать в пятьдесят четвертом году. Сначала один. Вечерами, дома. Ибо никто, понятно, в институте научной темы ему не менял и от служебных обязанностей не освобождал. Королев занимался повышением точности баллистических ракет, и до управления в космическом пространстве – это был следующий этап – руки еще не дошли…
Потом Раушенбах привлек к своим расчетам аспиранта Женю Токаря. Тогда – Женю. Ныне доктора наук Евгения Николаевича Токаря, человека в кругах, близких к космической технике, весьма известного. А еще через год-два, когда стало ясно, что вопрос выходит за рамки чисто научного любопытства и переходит в сферу реальной, причем, видимо, недалекой уже практики, Борис Викторович стал собирать свою первую, еще маленькую группу. На горизонте замаячила идея фотографирования обратной стороны Луны. Хотя, конечно, ни станции такой, ни названия, ни порядкового номера не было: первому спутнику еще только предстояло взять разбег. Кстати, ни на нем, ни на последующих двух спутниках системы управления ориентацией не было – они оказались как раз теми слепыми котятами, которые кувыркались и тыкались в разные стороны, сообщая всему миру, как младенцы – «агу», радостное, неосознанно горделивое «бип-бип». Они впервые «осязали» космос. Задачи ориентации, маневра, серьезного исследования пространства, тем более – посадки перед ними не стояло: им надо было еще подрасти, Разум обретут аппараты, которым они проложили дорогу, которые пойдут вслед.
Наделить их этим разумом и должна была – уже должна! – группа Бориса Викторовича.
И вот тут-то и оказалось, что письменных столов, стопки бумаг, карандашей и ручек – обычного атрибута теоретиков – недостаточно. Ибо проблема была трудна не только по самой своей сути, но и потому, что привычная методика научной работы – от идеи – к уравнению, от уравнения – к металлу – здесь не годилась. Так как любое решение, самое красивое, любая формула, самая точная, любая теория, отвечающая всем канонам современной науки, должны были прежде всего соответствовать соображениям здравого смысла, в космической технике определяемого килограммами, ваттами, метрами и минутами. Другими словами – весом, потреблением энергии, уровнем точности и длительностью процесса ориентации аппарата в космосе.
Именно эти «рамки» стали камнем преткновения для других групп, которые тогда же взялись за ту же проблему. Они делали интересную науку – важную и необходимую, но не думали о конкретной машине. Они бились над тем, что будет, скажем, с корпусом корабля, если маховик закрутится с ускорением, а надо было прежде знать, каким должен быть этот маховик, сколько он потянет на весах и какую задачу ему предстоит выполнять.
Раушенбах же, всю свою жизнь привыкший идею доводить до металла, знал: решение «вообще» тут не проходит. И потому самый замечательный на бумаге проект в реальной практике нередко становится абсолютно неприемлемым. Ну что поделаешь, если в корабле или в станции на данную систему отведено столько-то места, такая-то масса – и ни сантиметром, ни граммом больше!..









