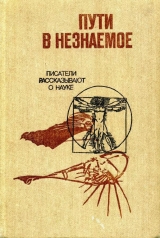
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 48 страниц)
Где же теперь его место после столь долгого отсутствия, длившегося три с лишним года?
Тянуло, конечно, в Вильно. Центр умственной, духовной жизни края. Академия с ее профессурой, с ее библиотекой, где было проведено столько возвышенных часов. Ораторы и проповедники. Обилие храмов божьих. И там же крепкое виленское братство: объединение горожан православной веры – ремесленников, торговцев, купцов, служилых – ради общей поддержки друг друга против всяких притеснителей. Братская школа, братская типография-друкарня. В ней печатают сочинения-казанья в ответ на призывные сочинения католических авторов, что печатает типография иезуитов.
И тянуло в Вильно, и приходилось его остерегаться. Слишком горячее место. За эти годы «униатское веселие» нисколько не приутихло; напротив, еще более развязалось.
Рассказывали, что в Вильно был день большого торжества. Прибытие знамени св. Казимира – покровителя города. Знамя проделало путь из Рима, получив благословение самого папы. Пышная процессия встретила священную хоругвь еще за городскими воротами. И канцлер Великого княжества, и жемайтийский кастелян, и виленский епископ, и важные магнаты, сенаторы, и, конечно, духовенство от всех костелов. К ним примкнули колонны ремесленных цехов – портные и сапожники, ткачи и кожевники, маляры и столяры, каменотесы и кузнецы, пивовары и сабельщики… Их ведь более тридцати, разных ремесел и искусств в городе Вильно. Шли купцы, шли военные с копьями и секирами, с огневым оружием. И дети, и нарядно разодетые вельможные дамы, про которых говорят, что любой тонкий шелк для них слишком грубый. А по обе стороны шествия теснился простой народ.
Шествие проследовало через весь город от одних ворот до других, разукрашенных картинами, гербами, изображениями святых, цитатами из Священного писания. Песнопение, музыка, гром пушек Верхнего замка, ружейная пальба на сторожевых башнях, звон колоколов. Казалось, по всему краю раздается великое ликование.
Иногда процессия останавливалась. И открывалось действо. Декламация, чтение возвышенных монологов, драматические диалоги.
Пышное представление развернулось у ворот Академии. Ее воспитанники разыгрывали на помосте классические сцены с участием аллегорических фигур: Теология, Философия, Риторика, Поэтика, История, Грамматика, говорящие от лица основных наук, преподаваемых в Академии. Как положено, звучала латынь, звучал греческий. И даже те из толпы, кто не понимал текста, все равно жадно глядели на эффектное зрелище.
Под конец хор ангельскими голосами пел о том, что св. Казимир искоренит всякое зло, церковную рознь, внесет примирение католиков с иноверцами. И толпа восторженно подхватывала.
А назавтра… Если бы все свершалось так, как поется в песнях! И разве он, Максим Смотрицкий, совсем в стороне от всего этого?
Он нашел себе приют в имении княжеской семьи под городом Минском. Мог проводить часы и дни в отведенной ему библиотечной комнате, погруженный в чтение и писание. Книжный человек, отрешенный от жизни? О, далеко уж не так!
Вот эта книжка оказалась последней каплей. Еще одно сочинение Петра Скарги. Выпущенное в Вильно, выпущенное на русском языке. Соловьиная песнь Брестскому собору, воспевание щедрот унии и грозный рык на тех, кто продолжает упорствовать. Читая, Максим не сдержался и в сердцах написал на полях: «Не последний герц иезуитской роты!» Может быть, с этого замечания и созрела окончательно его решимость действовать. А его действие – это его слово.
Все, что видел и переживал эти годы, начиная еще с дней в Академии и прихода унии, что таил про себя, что накапливалось тяжелым грузом, выливалось сейчас в его слове. Сказанном на бумаге и сказанном громко в открытую. Он много пишет. Он идет на паперть местной церкви и там обращается к прихожанам-белорусам с жаркой речью. К братьям своим по вере, пробуждая в них надежду и твердость. Не поддаваться в хитрые сети. К нему стекаются за советом, за утешением. И он находит такое слово. Немало из принявших унию стали возвращаться в свое родное лоно. В Минске горожане тоже основали братство – по примеру виленского, по примеру Львова, Гродно, городов Западной Руси.
И все-таки в Вильно, в Вильно! Теперь он убежден, что именно там его место.
…Город еще не остыл от последнего потрясения. Униаты, все увеличивающиеся в числе, все больше и больше забирающие силу, учинили погром в православных кварталах. Били стекла в домах, выгоняли из братской школы детей, пытались поломать типографию. Били людей, кто попадался под руку… Стон чудится Максиму Смотрицкому, шагающему по тесным израненным уличкам. А как ты, Петр Скарга, пребывающий в королевских покоях? Неужели ты этого и хотел? Слышишь ли ты сей стон?
Максим поселяется в одной из этих уличек. Вступает в члены братства, упрямо поднимающего все же голову. Становится дидаскалом – учителем школы. А у себя дома работает и работает опять как книжный человек. Рядом стены Святодуховского монастыря – прибежище для многих, чтобы не пасть духом. А напротив, на другой стороне улицы, – стены монастыря св. Троицы, отданного теперь в распоряжение униатов. Глубокие затененные ворота, узкий переход, будто через крепостной ров. Они стоят, оба монастыря, друг против друга как две крепости, откуда ведется все время друг за другом пристальное наблюдение, словесная дуэль, совершаются вылазки и попытки «расширить свою территорию». Нападающей стороной чаще всего была униатская.
Говорят, Максим Смотрицкий несколько раз ходил туда украдкой через улицу, в троицкие стены, пытаясь там что-то выяснить, понять тех других и, может быть, устроить публичный диалог двух сторон, чтобы найти путь к примирению. Но получил такое внушение от собственных братьев по братству, что бросил и помышлять о подобных прогулках к соседям.
А немного дальше над городскими строениями высится строгий силуэт академического костела. Оттуда ведь тоже пощады не жди.
На следующий год выходит в братской друкарне увесистый томик в полтыщи страниц под названием «Фринос», по-гречески – «Плач». Плач восточной церкви. В образе матери, стенающей о своей тяжкой доле: «Горе мне, несчастной!.. Руки в оковах, ярмо на шее, путы на ногах, цепь на бедрах, обоюдоострый меч над головой… Отовсюду крики, везде страх, везде преследование». Картина, увы, всем знакомая. В поэтической форме народного плача рисует ее автор. «Беда в городах, беда в селах, беда в полях и дубравах, беда в горах и пропастях земных. Нет ни места покойного, ни убежища надежного».
Какое сердце униженного и оскорбленного не содрогнется от этих строк! А виной всему, считает автор, именно тот, кому заставляют слепо поклоняться. «Не святой, не благословенный, не праведный, а губящий души льстец, надутый баловень мира сего», – говорит о папе римском в отчаянной запальчивости. Вспоминает все ужасы насильственного униатства. Бросает горестный укор тем, кто поспешил предать свою веру: «Придет время, когда вам стыдно станет за все это». Воздается и Петру Скарге, сыгравшему столь роковую роль.
Не пощадил автор и православного духовенства. Его нравы и порядки. «Неучи, лежебоки, фарисеи, несправедливые судьи», – перечислял с болью. Как же с такими пастырями отстаивать свое родное?
Автор «Плача» взывал не только к чувствам – к разуму. Увлекал остротой мысли, широтой взгляда. Множество примеров, сравнений – исторических, литературных. Приводил суждения мыслителей разных веков, от философов древности, от первых христианских богословов и восточного энциклопедиста Авиценны до главы современного европейского гуманизма Эразма Роттердамского. Поместил здесь и знаменитый сонет Петрарки «Папскому двору»:
Риме – источник горестей, доме – гнева полный,
Рассадник бед, ересей костел отменный,
Римом ты был, а теперь стал Вавилоном… —
сначала по-латыни, а затем перевод его на польский, впервые на польском, чтобы возможно более широкий круг читателей мог с ним ознакомиться.
Ни одно полемическое сочинение последнего времени не вызвало такого всеобщего интереса, такого взрыва страстей, восхищения и злобы, как этот томик в четыреста с лишним страниц. «Фринос», «Плач», – говорили коротко, и всем было понятно, о чем речь. Его читали и в одиночку, и на тайных братских сходках. Его переписывали для передачи друг другу.
Но кто же это написал, кто автор? На титуле значилось: Феофил Орфолог. Перевод с греческого на славянский, а с него – на польский. Тройная ступень. Но было ясно: кто-то утаивается под этим греческим именем, – уж слишком полная осведомленность во всех обстоятельствах местной борьбы вокруг униатства.
Иезуиты и приверженцы унии поспешили ответить целым роем летучих писаний, эпистол против «Плача», пытаясь ослабить его воздействие. Обвиняли автора во всех смертных грехах. Клеймили государственным изменником, сообщником Лютера. Конечно, немедленно отозвался и Петр Скарга, выпустив словесные стрелы под названием «Предостережение Руси греческой веры против плача Феофила Орфолога», не останавливаясь в своей ярости и перед прямой угрозой: «Погоди, ты скрываешь свое имя; будучи волком, прикрываешься овечьей шкурой, но мы скоро узнаем, кто ты и как тебя зовут!»
Не пустая угроза. Следует королевский указ. Братская типография в Вильно закрыта, сохранившиеся в типографии экземпляры зловредной книжки уничтожены. Каждый, кто дерзнет ее распространять и переписывать, подлежит штрафу в пять тысяч злотых. Корректор типографии посажен в тюрьму. То же ожидает и автора, как только до него доберутся.
Но дознаться так и не смогли. Работники друкарни упрямо хранили круговое братское молчание.
А между тем вон он идет мимо по уличке – в скромной одежде, борода лопатой, священнического вида… Дидаскал, по-здешнему, учитель братской школы, с учебниками под мышкой, Максим Смотрицкий.
О, если бы Скарга вдруг узнал, что неизвестный автор, до которого он так допытывается, не кто иной, как бывший воспитанник его Академии, которому именитый иезуит давал когда-то, в далекий памятный день, свое напутственное благословение! Если бы…
ЕВЬЮ, 1619Все больше предметов вел он в школе. Серьезные предметы. Уроки философии, занятия по риторике. Обучал, конечно, языкам – и классическим, и старославянскому. Многое из того, что познал в студенческие годы в Академии, передавал теперь ученикам братской школы, которая существовала как бы в противовес школе иезуитской. Умел так воздействовать своей речью, что вскоре стал воистину Учителем, в котором нуждались и млад и стар в братской общине.
И все же он готовился неустанно к тому, в чем видел исполнение своего главного долга. Наконец решил, что срок настал.
В тот день приходит он в храм Святодуховского монастыря, получает отпущение грехов и перед всем клиром принимает обряд пострижения. И берет себе имя монашеское – Мелетий. Отныне Мелетий Смотрицкий.
Затворившись в монастырской келье, накладывает на себя обет: совершить завещанное ему свыше. Кто же еще, как не он, должен это сделать!
Он знал, какой силой обладает слово. Произнесенное, написанное. Сам владел им искусно. И был сейчас одушевлен желанием передать эту силу языка своим братьям по крови, по вере.
Старославянский. Ставший издавна на Руси языком книжным. Орудие грамотности и просвещения. На нем говорит церковь, читаются молитвы, потому и называется еще церковнославянским. На нем пишутся духовные, богослужебные книги, переводные и оригинальные сочинения, порой важные грамоты. Он и опора, защита в трудный час от чужеземной «ласки».
Это хорошо понимал и Петр Скарга. Старался всячески принизить роль славянского языка. Писал язвительно: «С помощью славянского языка никогда никто ученым быть не может. Своих правил и грамматик он не имеет и иметь не может».
Он был отчасти прав, этот ученый иезуит. Старославянский до сих пор не получил достаточно твердых правил. Много вольностей, произвольного употребления.
Даже священники, казалось бы первые проводники языка, бывают в нем вовсе не тверды. А переписчики книг вводят все больше и больше погрешностей, рождая путаницу. Есть среди русских, украинцев, белорусов кто стал славянский уже забывать. А стало быть, и легче поддаваться чужому. Вот только братские школы в некоторых городах поддерживают обучение старославянскому.
Но в чем иезуитский воин заблуждался, так в том, что «…правил и грамматик иметь не может». Может! И он, Мелетий Смотрицкий, это докажет. Должен доказать.
Он также знает и какая сила заключена в латинской культуре. Древней, многовековой. Достаточно испытал на себе воспитанник Академии. Яркие примеры мысли, искусства. Научился ценить и восхищаться ими. Тем и коварнее, когда она служит средством приманить, подчинить другой народ, стереть его собственное лицо. Как устоять перед таким натиском? Нет, не отгораживаться в страхе, не возводить барьеры – в братских школах изучают, скажем, и латынь, – а иметь силу, встречая чужое, сохранять свое, себя, свои начала. Тем важнее и настоятельнее задача, которую он, Смотрицкий, себе поставил.
Что-то, конечно, предпринималось и раньше. Рукописные и печатные словари славянского – «азбуковники» или «алфавиты». С объяснением непонятных слов, встречающихся в Священных писаниях. В помощь духовенству и все тем же переписчикам. Смотрицкий собирал их уже давно – целая горка у него на столе. Ценнейшие пособия, дающие понятия века об истории и мифологии, о науках и искусствах. В алфавитах были и советы, как писать правильно, как ставить ударения, различать род предмета… Польза немалая, но как далеко еще это от грамматики!
Появлялись и первые грамматические опыты. Мудрый Максим Грек в Москве провозгласил, что грамматика «есть начало и конец всякому любомудрию», первый вход в философию. Писал грамматические рассуждения о славянском.
А здесь, в Вильно, еще тридцать лет назад была отпечатана малая книжица, написанная учителями школы в Остроге, – авторы ставили в пример славянский язык, на котором была издана Иваном Федоровым Острожская библия. Выводили кое-какие правила.
Во Львове трудами братской школы была составлена грамматика на двух языках – греческом и славянском, «страница против страницы». «Адельфотес» по названию. Но назначалась она к изучению греческого, а не славянского, хотя в ней и проглядывала какая-то упорядоченность. Ей и воспользовался Лаврентий Зизаний, видный член виленского братства, школьный педагог, создавая свою «Грамматика словенска». Это уже более основательный шаг. Максим Смотрицкий, заканчивавший тогда Академию, терпеливо штудировал ее страницы, урывая час-другой среди жесткого расписания обязательных занятий. Книга укрепила его интерес к старославянскому, желание глубже познать.
А сейчас, спустя двадцать лет, в келье монастыря он смотрел на нее другими глазами. С высоты уже собственного накопленного знания. Относился к труду Зизания с прежним уважением – смелый почин! – но видел, понимал ее слабые стороны. Довольно ограниченный круг понятий и правил, далеко не отвечающий богатству языка. И автор слишком следовал за чужим образцом, стараясь уложить слова и обороты славянского в готовые формы греческого. Подражательный опыт. С течением времени это становилось все яснее. Труд Зизания оставался лишь шагом на полдороге.
Создать подлинную, полноценную грамматику – поставил себе Мелетий Смотрицкий. Отправной точкой ему служат тоже грамматики классических языков – греческого, отчасти латинского. Располагает материал в той же последовательности, что и у них. Также разделяет все учение о языке на четыре части. Орфография – «право писати и гласом в речениях ударяти». Этимология – раздел о частях речи и форме слов. Синтаксис – о словосочетаниях, «словеса сложные сочиняти». Просодия – о метрике, «мерою количества стихи слагати». Но при этом он сам исследует строй славянского языка в современном состоянии, как он вбирает новые слова и обороты в своем живом развитии – и русские, и других славянских народов. Он хорошо знает жар речи проповедника, полемического оратора, сочинителя, ищущего наиболее яркое, весомое слово. Сам не раз к нему прибегал. В этом борении между установившейся традицией и самостоятельным взглядом на живую плоть языка, уступая то одному, то отстаивая другое, возводит Мелетий Смотрицкий здание своей грамматики.
Не просто свод отдельных правил и советов, а последовательная грамматическая система, построенная на понимании коренных особенностей славянского языка. Он отвергает то, что ему несвойственно. Ну, скажем, член – вспомогательная частица, обозначающая в других языках род слова, предмета. Вот эти «дер», «ди», «дас» в немецком или «лё» и «ля» во французском. В славянском это лишнее, род обозначается окончанием слова, как и в русском, в украинском, белорусском.
Он вводит много нового, что диктуется практическим применением языка. Такие формы, как деепричастие, междометие, местоимение. Закрепляет термины «буква», «слог». Устанавливает порядок ударений, которые применялись до него без всякого разбора – то так, то этак в одних и тех же словах. И знаки препинания – всякие точки, запятые, черточки переноса со строки на строку, восклицательный и вопросительный и даже скобки… Целая система.
Весьма разработанным вырастает раздел о глаголах, которые называет он «действом или страстью». Подчиняет определенной классификации. И дает верный признак, как отличать глаголы первого спряжения и второго спряжения. Эти вечные сомнения не только начинающих школяров, как писать окончание «еши» или «иши» во втором лице единственного числа!
А затем следуют и правила образования предложений.
Вся грамматика у него насыщена множеством примеров, взятых из лучших произведений на старославянском. Само по себе уже школа высокого вкуса и стиля. Парадигмы, как говорили греки.
Да, иногда он все-таки уступал греческой традиции. Особенно в разделе «О просодии». Предлагал читателям слагать стихи метрическим размером, исходя из долготы и краткости звуков. Так пели в античной поэзии. Может, он и сам чувствовал некоторую искусственность чужой метрики Но не находил еще другого ключа стихосложения на славянском. Ох как непросто даже ему сбросить с себя груз того, что привычно еще со времен Академии, протекавших в атмосфере звучания классических языков! Он и так порвал многие путы, выявил важные особенности языка славянского. Итог, пожалуй, всей его жизни книжного, ученого человека.
«Слава Богу начавшему и совершившему», – написал он с просветленной душой на последней странице. Аминь!
А в начале поставил свое авторское обращение – «Учителям школ». Свой призыв сеять в школах, в народе знание славянского, уменье правильно на нем говорить И писать. Так и назвал свой труд: «Грамматики словенския правилное синтагма», что значит с греческого – правильное сочетание слов. Пусть теперь посмеет какой-нибудь «римский рыболов» вроде Петра Скарги высокомерно утверждать, что у этого языка «нет ни правил, ни грамматик»!
Автору видится и то время, когда на уроках, на лекциях научные предметы будут читать и на славянском тоже. Он был так увлечен своей миссией в пользу этого языка, что в разделе о просодии пересказал легенду, будто великий древнеримский поэт Овидий изучил его в совершенстве и писал на нем прекрасные стихи. Благая вера! Он глубоко верил в высокое предназначение своей «Грамматики».
…А с другой стороны Литвы, из Жемайтии, из той Жемайтии, что не раз вставала щитом литовской народности перед чужеземным вторжением, доносился другой призывный голос, с той же болью за братьев своих. Настоятель костела в отдаленном жемайтийском местечке Миколаюс Даукша, человек глубоких познаний, проникнутый духом гуманизма и владеющий вдохновенным пером, автор первых печатных книг на литовском языке, призывал своих соотечественников, образованное дворянство и духовенство, склонных под натиском чужого забывать свое, кровное, – призывал не отрекаться от родного языка, не принижать его значения с высоты ново-приобретенной польско-латинской образованности.
Он писал в своем знаменитом предисловии к переводу книги проповедей «Постилла»: «Родной язык есть всеобщая связь любви, матерь единства, отец гражданственности, страж родины. Уничтожь язык – уничтожишь мир, единство и порядочность». Он звал к тому, чтобы литовский язык был не только языком проповедей или исповеди в костелах, но чтобы на родном языке издавались законы, сочинялись литературные и научные произведения.
Какое согласие! Два разных автора, разного рода и племени, разной веры, и все же думают одинаково, в тревоге об одном и том же.
…От кельи Святодуховского монастыря до типографии виленского братства рукой подать. Из монастырских ворот направо, в соседнем квартале… Но путь от оконченной рукописи до напечатанной книги оказался куда сложней. В братской друкарне подготовили работу, приступили к печати. Оттиснули и титульный лист в простой рамке украинского орнамента: «Грамматики словенския правилное синтагма, потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотрицкого»… Но печатание пришлось остановить. Друкарня то и дело подвергалась нападкам противной стороны, грубым вторжениям, была под подозрением у королевских и городских властей.
И отправилась рукопись за тридцать с лишним верст от Вильно, в селение Евью, по-литовски – Вевис. Здесь член православного братства князь Богдан Огинский основал в своем имении монастырь, а при нем школу и типографию. В трудные времена, когда плохо было виленской друкарне, переносила она свою работу в Вевис, и там печатались некоторые самые необходимые книги, учебные пособия и под шумок то или иное полемическое «казанье». А вот теперь и «Грамматика» Мелетия Смотрицкого.
На другой год и вышел оттуда плотный томик в светло-коричневой коже. Форматом с осьмушку листа, наподобие карманного молитвенника. Евью, 1619. Год появления его «Грамматики». Отныне ей предстояла своя судьба, свое хождение по белу свету. Независимо уже от дальнейшей судьбы, от хождений самого автора.








