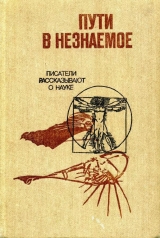
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 48 страниц)
Этого человека я знаю всю жизнь.
Знаю ли?
Помню весну 1965 года, когда снег сошел необычно рано, и так же рано, на горе старушкам, наш двор покрылся прямоугольниками, нарисованными мелом на асфальте. Игра называлась «классики».
Игра была чрезвычайно увлекательной, и мы не заметили, что за нами вот уже битый час наблюдает взрослый. И, наверное, и дольше бы не замечали, если бы он не начал… подсказывать. Уже не помню, какие советы он давал – что-то насчет нерациональности наших движений, – но одно точно: ему была любопытна наша игра! Вряд ли мы вняли его советам, скорее смотрели с недоверием и подозрением: взрослые, торопясь вечером домой, редко обращали на нас внимание, а если почему-то и обращали, то это, как правило, ничего хорошего не сулило.
Борис Викторович скоро ушел. Мы же тогда заключили одно: странный дяденька. Игра сама собой прервалась, и детские языки с недетским усердием стали перемалывать кости «дяденьки», вспоминая и разные другие его странности. Например, на свой четвертый этаж всегда поднимается пешком. Зимой ходит в холодном пальто с поднятым воротником. На голове – коричневая шапка-пирожок. Пирожок – это же так смешно! А летом – в тюбетейке!.. Под сурдинку конечно же досталось и другим взрослым, разговор принял интересный оборот и продолжался вплоть до темноты… Вывод был сделан безжалостный: «И вообще эти взрослые…»
С того вечера мы пристально следили за ним, собирая и обсуждая его новые странности. Ведь дети инстинктивно чувствуют необычность и способны терпеливо ждать чуда…
Дом наш стоял на улице, которая с шестьдесят шестого года носит имя Королева. Сергей Павлович жил совсем рядом – в десяти минутах ходьбы. Мимо его желтого двухэтажного особняка мы каждый день ездили на трамвае в школу… Знать бы, прийти бы в 6-й Останкинский переулок, к дому 2 дробь 28, пройти вдоль зеленого забора и встать у ворот. И дождаться, пока вечером подъедет машина, – увидеть Королева. Впрочем, в то время имя Главного конструктора было известно лишь тем, кто с ним работал. Что же касается Бориса Викторовича, то, естественно, никаких даже смутных догадок касательно его занятий у нас не было. А ведь могли быть!
Каждый космический полет для всех нас был огромным событием, биографии космонавтов знали назубок, и потому мы могли бы сообразить, что за некоторое время до пуска нового корабля «странный дяденька» пропадал и появлялся вновь спустя несколько дней после возвращения космонавтов на землю.
Но мы этого, конечно, не замечали; куда больше нас интересовали «рафик» и «Волга», которые время от времени приезжали за ним.
Потом я узнаю: об истинных причинах своих отъездов Борис Викторович не говорил никому, даже жене.
– Все сказать не мог, полуправду – не хотел: это хуже лжи, потому считал правильным вообще молчать.
Вера Михайловна обижалась: о дне старта она узнавала от других жен.
Первой догадалась дочь Оксана: папа в командировку, следом – сообщение ТАСС.
С тех пор прошло уже немало лет: изменялось время, менялись и мы, постепенно становясь взрослыми.
Я часто встречала Бориса Викторовича в нашем дворе, на лестничной площадке, где мы брали газеты, возле троллейбусной остановки…
Иногда он проходил мимо, не замечая, – задумчивый, сосредоточенный, все в таком же пальто и такой же шапке, засунув руки глубоко в карманы и опустив голову вниз.
Тогда, я думаю, он никого и ничего не видел.
А иногда, наоборот, шел улыбающийся и улыбку эту раздавал всем.
Хотелось подойти к нему и спросить, кто он…
Сейчас мне кажется, что я была в него по-детски влюблена. Нет, даже не в Бориса Викторовича – в ту таинственность, которая его окружала. В непонятность, непохожесть его на других.
Он представлялся мне добрым рыцарем из сказки – из тех детских книжек, что давно уже спрятаны на полатях, но которые время от времени вспоминаешь всю жизнь.
В общем, интерес к человеку с четвертого этажа не пропадал, наоборот – рос. Он по-прежнему оставался для нас загадкой.
Казалось, все стало ясно, когда имя Раушенбаха замелькало на страницах газет, а потом и с экранов телевизоров. Тайны больше не существовало. Но так только казалось…
Однажды, проходя мимо Дома ученых, я увидела афишу с кричащим анонсом: «Двойной соблазн любви и любопытства». На белом ватмане было выписано несколько фамилий известных и неизвестных мне людей. Среди них – автор книги «Пространственные построения в древнерусской живописи» Борис Викторович Раушенбах.
Все начиналось сначала.
4В Италии, во Флоренции, пять столетий назад жил живописец Паоло ди Доно. Современники звали его Учелло, что в переводе значит «птица». Звали так потому, что больше всего на свете ди Доно любил птиц, часто и много писал их, ко был слишком беден, чтобы держать дома.
Вторым пристрастием Учелло – тем, что обессмертило его имя, – было странное стремление рисовать птиц и фигуры так, чтобы, удаляясь, они пропорционально уменьшались и укорачивались.
«…Будучи одарен от природы умом софистическим и тонким, – писал потом Вазари, – не находил иного удовольствия, как только исследовать какие-нибудь трудные и неразрешенные перспективные задачки… нашел путь, способ и правила, как расставлять фигуры на плоскости… между тем как все это раньше получалось случайно».
Забава эта обрекла ди Доно на одиночество и одичание, неделями, а то и месяцами он не выходил из дома, ни с кем не виделся и не разговаривал.
«Она настолько вредила его фигурам, – замечает Вазари, – что он, старея, делал их все хуже и хуже… и при жизни оказался более бедным, чем знаменитым».
Ди Доно нашел путь, способ и правила прямой линейной перспективы, ставшей потом главным методом всей живописи Возрождения.
– Эх, Паоло, – говорил ему скульптор Донателло, – из-за этой твоей перспективы ты верное меняешь на неверное.
Донателло не знал и не мог знать, что отчасти окажется прав и что докажет это человек, управлявший в космосе космическими кораблями.
А тогда пройдет совсем немного времени, и Пьерро делла Франческа – живописец и геометр – математически обоснует перспективу Учелло. (Но что же за проклятие лежало на этом занятии? Ди Доно оно принесло бедность, Франческе – предательство: его труды под собственным именем издаст ученик – брат Лука из Борго.) И тем самым даст уже веские основания считать (о магия чисел!), что художественный метод Ренессанса – единственно правильный, научный и реалистический. Ибо так, утверждали все его последователи, и только так (откуда же в человеке эта страсть к догмам?) люди видят окружающий их мир.
Борис Викторович Раушенбах с помощью строгих расчетов опровергнет это, казалось бы бесспорное, пятью веками проверенное, мнение.
В музей Рублева Раушенбах попал совершенно случайно: то ли кто-то из приятелей затащил, то ли просто шел мимо и захотелось отвлечься; во всяком случае, живопись, а тем более иконы, его интересовали постольку, поскольку интересуют любого среднестатистического интеллигента («Стыдно не побывать в Третьяковке»). Двумя месяцами раньше он, будучи проездом в Новгороде – путешествовал с дочками на машине, – не выкроил времени, чтобы посмотреть собрание икон Новгородского музея.
Это было в 1966 году.
Иконы его удивили. Древнерусские живописцы писали свои произведения как-то не так. Не так, как принято. Не так, как привычно. Поражало странное, неправильное, с современной точки зрения, изображение предметов… Неправильное? Это слово покоробит Раушенбаха уже тогда, в музее. Ибо было основным и в разъяснениях экскурсоводов, и потом, в статьях видных ученых, в лекциях искусствоведов. Оно, это слово, будет повторяться и спрягаться с другими: не умели, не знали, не смели…
Потом окажется: аналогичными категориями оценивалась и живопись Древнего Египта, и миниатюра Ирана, и искусство средневековых мастеров Запада. Критерием истинности по-прежнему избирался метод Учелло.
«Художник не смел изображать мир таким, каким он его видел в действительности, то есть живо, непосредственно», – с возмущением и удивлением прочтет Раушенбах в «Учебном пособии для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов».
Не смели? Они, нарушающие любые запреты?
Не знали? Они, образованнейшие, просвещеннейшие люди своего времени?
Не умели? Они, чьи творения до сих пор покоряют мир?
Аргументы были неубедительными, объяснения – неполными. Казалось, специалисты либо умалчивают, либо… Либо чего-то не знают. И тут он понял: искусствоведы в своих рассуждениях шли только от художественного образа, от философской канвы, причем часто оценивая мировоззрение древних с точки зрения сегодняшних понятий «хорошо» – «плохо», забывая о законах психологии и принципах геометрии. Именно здесь, в математике, как это ни парадоксально, надо было искать главный ответ.
И вот почему.
Процесс видения – процесс очень сложный, в основе его лежит совместная, согласованная работа глаз и мозга. Ведь на сетчатке отражается только двухмерное пространство, и лишь мозг, насыщенный генетической памятью, опытом – своим и предшествующих поколений – всей эволюции делает его трехмерным. Причем все равно необъективным: видимый («перцептивный» – воспринимаемый) нами мир совсем не таков, каков он есть на самом деле, он реален как-то иначе, наш мозг не копирует мир, а создает его образ. И только пощупав, мы можем узнать его реальный лик.
Вглядитесь в ваш прямоугольный стол, и вы без труда заметите, что он похож на фигуру, именуемую в геометрии трапецией.
Обо всем этом специалисты в области психологии зрительного восприятия догадывались давно. Раушенбах – тоже.
Экспериментальными данными этой науки он воспользовался еще тогда, когда решал задачу, как наилучшим образом сконструировать систему ручного управления космического корабля. Ибо людям, работающим в невесомости – да, кстати, и не только там, – совсем не безразлично, где расположена та или иная кнопка, та или иная ручка: каждый прибор на пульте необходимо отчетливо и в определенной последовательности видеть, чтобы иметь возможность мгновенно нажать, повернуть, выключить.
Кроме того, в космических аппаратах иногда нет так называемой прямой видимости: скажем, на корабле «Союз» отсутствует переднее остекление. Однако во время стыковки необходимо видеть другой корабль или станцию. Для этого в аппарате установлены специальные оптические приборы типа перископов или телевизионных камер, которые, как известно, работают по принципу именно прямой линейной перспективы. Вот тогда уже у Раушенбаха нет-нет да возникал вопрос: а можно ли управлять кораблем по телевизионным «картинкам»? Верно ли, точно ли передают они живое ощущение пространства? Не ведут ли к ошибкам в управлении? А ведь эти вопросы – о «правильности» телевизионного экрана, – по сути дела, и есть вопрос о «правильности» перспективы в живописи…
Иконы дали Борису Викторовичу повод облечь свои знания и проверить свои сомнения формулами. Сначала он вывел уравнение работы мозга при зрительном восприятии. Сравнил – «пропустил», как он говорит, через это уравнение реальность и «на выходе» получил уравнение того, что же человек на самом деле видит. Так в абстрактных «а» и «б» оказалась записана «мозговая» картина мира! Та картина, которую, считая достоверной, и пытается написать художник, не ведая, что никому, никогда и ни в какой системе перспективы не удастся передать на двухмерную плоскость холста наше трехмерное, такое объемное, такое сложное пространство. Понятно, что подобных трудностей нет, например, в скульптуре: мастер ничем не ограничен. И он лепит тоже не то, что видит, а то, что знает, постоянно корректируя этим знанием свой взгляд.
Короче, точной копии пространства кистью изобразить нельзя – оно всегда будет условным. И в этом была главная ошибка Пьерро делла Франческа.
Простой пример: из двадцати семи параметров изображаемого предмета (глубина, размеры, соотношения и прочее) «реалистический» метод эпохи Возрождения искажал… пятнадцать!
Так что же: живописцы Ренессанса тоже чего-то не умели?
Формулы победили формулы. Математику победила математика. И в том не вина Франческа – беда. Он оперировал арифметикой и алгеброй, Раушенбах неевклидовой геометрией – геометрией Лобачевского и дифференциальными уравнениями. Науке пятнадцатого века они просто были еще недоступны.
Искусствоведам двадцатого – неизвестны.
Лишь ученый, не только тонко чувствующий искусство, не только относящийся к нему непредвзято (плен канонов – страшный плен!), но и глубоко знающий точные науки, мог сделать это открытие.
Я хочу, чтобы вы поняли: со времен Ренессанса никто и никогда этой проблемой не занимался и решить ее не пытался. В который уже раз за свою жизнь Борис Викторович Раушенбах первым вторгался в неизведанное, причем в область, с предыдущими исследованиями никак не связанную.
…Он приходил домой, садился за письменный стол и рисовал. Квадраты, кубы, прямоугольники.
Утром поднимался затемно, часа в четыре, и отправлялся в ближайший парк, мелом разлиновывал тротуар, и вновь – квадраты, кубы, прямоугольники.
На дачу ехал на электричке, выходил на остановку раньше, вставал посредине рельсового пути, прикладывал к глазам линейки (он сам придумал методику определения, какой глаз ведущий, а какой – ведомый) и снова рисовал. Кубы, квадраты, прямоугольники, сходящиеся параллельные и непрямые прямые.
В субботу и воскресенье считал, строил графики, выводил уравнения.
Впервые за многие годы появились выходные. Впервые не отрывал телефон. Королев умер, и теперь уже никто не мог позвонить в воскресенье вечером и сказать: «Слушай, я тут чистил снег и придумал, как создать искусственную гравитацию: нужна штанга, на концы посадить аппараты и крутить… Только как ее туда затащить?» – «Лучше – трос…» – «Может быть… Посчитай. Завтра, в восемь тридцать жду…»
Теперь таких звонков быть не могло, и никто не отрывал, а потому, значит, была и другая жизнь, в которой творили Андрей Рублев, Феофан Грек, Сезанн и неизвестный египтянин. Они спорили между собой, и все вместе – с Учелло, и каждый был не более прав, чем другой… Ибо правильное и неправильное, напишет в своей книге Б. В. Раушенбах, не существует в искусстве само по себе: все зависит от того, какую задачу ставит перед собой художник, какие цели диктует ему эпоха.
Например, для живописцев Египта самым важным было передать объективную геометрию мира. Объективную! Потому они использовали чертежные методы, потому фигуры людей у них плоские, пруд – не сужающийся, а деревья вокруг него стоят с одной стороны вершинами вверх, с другой – вниз… Наивность восприятия? «Да бог с вами, – спорил Раушенбах, – какая наивность длится две тысячи лет? Неумелость? Помилуйте! Вспомните достижения этой древней культуры. Трудно поверить: не хотели иначе! Целостное пространство с его извивами древнего египтянина вовсе не интересовало, не интересовало и древних греков, и живописцев Индии и Ирана. Их не беспокоил и всегда тревожащий нас вопрос: что подумают? Не случайно в миниатюрах Востока персонажи живут своей жизнью, не вспоминая о зрителе, не чувствуя, что на них смотрят».
Так кто же они – неучи или все-таки мудрецы?..
Совершенно другую идеологию исповедовал мастер Возрождения. Он стремился показать сгусток времени, мгновенную картину бытия. Он уже организовывал пространство (и это величайшее завоевание той эпохи), как будто смотрел на него из окна или в зеркало. На этих принципах построены сегодня все оптические приборы: кино, телевидение, фотография – это они приучили нас видеть мир в прямой линейной перспективе…
Ну, а что же средневековые живописцы? У них была третья, равноважная и диаметрально противоположная ренессансной, идея: философия бесконечности – вот что прежде всего волновало их, и потому они стремились сделать нас участниками и соучастниками изображаемого события.
Нет, они были совсем не столь ограниченны, как кажется нам иногда сейчас. Они догадывались, а то и знали, что данные химии, физики, астрономии, механики не сообразуются, противоречат и перечеркивают Священное писание. Но они верили, а потому искали, как соединить земную реальность, обыденный человеческий опыт с мистикой небес и библейскими преданиями. Причем таким образом, чтобы эти два мира – «видимый» и «невидимый» – сосуществовали в одном большом пространстве. Сосуществовали! Были одним целым, а не разделены, как предпочитали писать художники после, линией облаков.
И они нашли выход. Какой – это снова объяснит Раушенбах. Логика ученого подскажет ему, что древнерусские иконописцы интуитивно использовали принцип многомерных пространств – принцип, который математики придумают лишь в XIX веке и о котором классическое искусство даже не подозревало! Такого пространства нет и невозможно себе представить, ибо помимо трех привычных для нас направлений – вперед, вверх и вбок – там есть еще и некое четвертое. Вот туда, в другое, абстрактное, четвертое измерение, никогда, естественно, потому недоступное и недосягаемое для людей, они и отнесли заоблачное бытие. Воистину «мудрецы преславные, философы зело хитрые»!
…Во Всесоюзном научно-исследовательском институте искусствоведения первый доклад Бориса Викторовича слушали очень внимательно. И последующие четыре – тоже. Вопросов было много, но и скепсиса немало. Дилетантов не любит никто, дважды – тех, кто опровергает специалистов и претендует на открытие.
Раушенбах его сделал, и это произвело необыкновенный эффект! [3]3
Доктор искусствоведения В. Н. Прокофьев писал потом в одной из своих рецензий, что эта работа «имеет исключительно важное значение для искусствоведческой науки. Она поможет ей более систематично подойти к проблемам пространства в изобразительных искусствах, позволит отбросить мешающие этому академические предрассудки и догмы, повысить уровень и научную обоснованность собственных анализов».
[Закрыть]
«А вы не боялись, что вас высмеют?» – спросила я его потом. «Наплевать, – ответил он. – Этого вообще никогда не надо бояться: пусть смеются – даже полезно. Кроме того, я никогда не обнародую непроверенных данных – я был абсолютно уверен в своей правоте».
Сопоставив уравнения зрительного восприятия с уравнениями теории построения различных перспектив, Борис Викторович доказал, что убеждение, будто художники всегда хотели, но не умели писать так, как в эпоху Возрождения, – ложно. Доказал, что перспектива Ренессанса – лишь частное решение, что оно соответствует лишь нашему, причем взрослому, восприятию сильно удаленного пространства. Именно удаленного! Вблизи же мы видим совсем не так. Вблизи мы видим так, как писал иконописец Андрей Рублев, то есть в слабой обратной перспективе, где фигурки не укорачиваются и не уменьшаются и где в силу вступают законы геометрии Лобачевского.
Вот в чем прав был скульптор Донателло, когда говорил Учелло: «Эх, Паоло, из-за этой твоей перспективы ты верное меняешь на неверное…»
(Кстати, однажды, после выхода первой книги, из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша на имя Раушенбаха пришел препринт «Моделирование внешней среды локационного робота» с дарственной надписью и аккуратно выведенным фломастером подзаголовком: «О влиянии древнерусской живописи на современную живопись ЭВМ».
И сие не только шутка. В этом институте разрабатывались математические модели шагающих шестиногих аппаратов – их называют «тараканами». Для того чтобы пронаблюдать на специальных дисплеях, как они «шагают» и как ими управлять, необходимо было нарисовать «поверхность», покрытую буграми, ямами и т. д.
Попробовали применить классическую перспективу – не подошла. Мучились, мучились и… натолкнулись на книгу Раушенбаха (которого, конечно, хорошо знали): построили «поверхность» по другим законам перспективы – дело пошло…)
Казалось, все точки над «и» были поставлены. Однако существовало одно «но»…
Этим «но» было творчество Сезанна. На его картинах пространство было как-то странно деформировано Теоретики искусства называли подобную перспективу сферической, круглящейся, криволинейной. И объясняли ее чистой игрой воображения либо расстройством зрения художника.
Раушенбах этому не поверил, ибо привык измерять и доверять расчетам.
И он измерил.
Дело в том, что еще в начале века сезанноведы провели одну великую работу: они определили место, с которого художник писал свои – какие-то выпуклые, запрокидывающиеся на зрителя, поражающие круговращением форм – пейзажи. Потом обычным фотоаппаратом сфотографировали эту же самую натуру. Так появилась возможность сравнить снимок, который, напомню, подчиняется законам линейной перспективы, с самой картиной. Увидеть, как Сезанн ломал пространство, измерить эту ломку и объяснить.
Расчеты Бориса Викторовича, изложенные им во второй книге «Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов» [4]4
М., 1980.
[Закрыть](она, как и первая, делится на две части: привычное для нас изложение материала – в основной, расчеты и уравнения – в приложении), показали: перспектива Сезанна соответствует нашей зоне среднего видения, то есть пространству, которое лежит меж близью и далью. Здесь прямые перестают быть прямыми, а параллельные – строго параллельными. Здесь они искривляются, как у Сезанна.
Так математика примирила принципы Паоло ди Доно, Поля Сезанна, Андрея Рублева и неизвестного египтянина.
Так рухнула легенда. Легенда о том, что перспектива Ренессанса – фориция всех перспектив. Так родилась теория, основным постулатом которой было: художник может построить пространство разными способами, следуя разным методам, и все они, с точки зрения строгих наук, будут разумными, рациональными и правильными.
Так был снят эпитет «не умели». Все оказались праведниками и все – грешниками. И нет ни одного, кто бы мог бросить камень первым…
Через год после выхода книги «Пространственные построения в живописи» Борис Викторович Раушенбах написал курс лекций по небесной механике для студентов Московского физико-технического института.
Через четыре – 25 августа 1984 года – поставил точку в рукописи «Общая теория перспективы». Последний раз подобный труд был написан в эпоху Возрождения.








