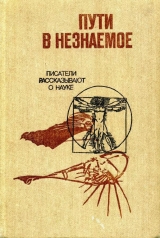
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 48 страниц)
«И сказал таким голосом, что у меня сердце замерло от страха. И я замолчала, но слез остановить не могла. С нами сидела его любимая племянница, которая смеялась моей горести и ему говорила: «Я удивляюсь, что вы не уймете ее: мне уж скучно смотреть на ее пустые слезы!» Он сказал: «Погоди, мой друг, будет еще время. Я в дороге не хочу начинать ничего».
Между тем в любимой племяннице Карамышева тоже заключалась некая странность: по приезде в город оказалось, что она остается у них ночевать, и не где-нибудь, а в их супружеской спальне. «Я молчала, – рассказывает Анна Евдокимовна, – а няня моя зарыдала и вышла вон, сказавши: «Вот участь моего ангела». Муж мой чрезвычайно рассердился и сказал мне: «Ты с ней навсегда расстанешься, и запрещаю тебе с ней говорить, и чтоб она при тебе никогда не была!» А племянница ему сказала: «Я боюсь, чтоб она не сказала вашей матушке, то не лучше ли будет ее отправить в деревню тотчас?»
Анна упросила оставить няню. Карамышев, отложив репрессии, ушел спать, а юная жена осталась размышлять: «Видно, я теперь совсем в другой школе». Ей не спалось, и она решила пойти посмотреть, спокойно ли спит ее муж; она действительно «нашла его покойно спящего на одной кровати с племянницей, обнявшись. Моя невинность и незнание так были велики, – пишет Анна Евдокимовна, – что меня это не тронуло, да я и не секретничала. Пришедши к няне, она у меня спросила: «Что, матушка, каков он?» Я сказала: «Слава богу, он спит очень спокойно с Верой Алексеевной, и она его дружески обняла». Няня посмотрела на меня очень пристально и, видя совершенное мое спокойствие, только очень тяжело вздохнула».
Они не спали всю ночь, рассвело, настало утро, встал наконец и Карамышев. «Няня пошла приготовлять чай, а он сел подле меня. Я хотела ему показать, что я им интересовалась, и с веселым лицом сказала: «Я ходила тебя смотреть, покойно-ль вы почиваете, и нашла вас в приятном сне с Верой Алексеевной; и так я, чтобы вас не разбудить, ушла в спальню». И вдруг на него взглянула: он весь побледнел. Я спросила, что ему сделалось? Он долго молчал и наконец спросил, одна я была у него или с нянькой? Я сказала: «Одна», – и он меня стал чрезвычайно ласкать и смотреть мне прямо в глаза. Я так стыдилась, что и глаз моих на него не поднимала».
Замечательная по психологической точности сцена. И взгляд Карамышева – лживый взгляд прямо ей в глаза, и стыд девочки от этого непонятного ей взгляда и неожиданной (предательской) ласковости. Такого придумать нельзя.
Карамышев был сбит с толку. «Я не знаю, хитрость это или невинность», – сказал он. Но и этого его замечания Анна тогда не поняла. Она очень удивилась, когда няня стала просить, чтобы она ничего не говорила мужу о своем ночном посещении. «Для чего? – сказала Анна. – Я не могу от него ничего скрыть. Я уж и сказала ему». – «Да не сказали ли вы, что я знаю?» – с тревогой спросила няня. «Нет», – ответила девочка. «Дак я вас прошу – не говорите, вы меня любите». Бедная няня, сколько сил приложила она к тому, чтобы вырастить благородную, правдивую девочку, и вот теперь вынуждена была учить ее лгать…
Няню все же услали в деревню, девочка осталась одна. Если она и не понимала отношений мужа с племянницей, то не видеть пьянства и разгула не могла. Когда все бывало пропито, семью выручал из беды их крепостной – ссужал деньгами, рыскал по городу в поисках хмельного барина; плача, корил его, а тот и сам начинал плакать и просить крепостного слугу не оставлять его мать и жену.
Всю жизнь Александра Матвеевича шатало от трудов к беспутству, от научной работы в загул, причем нет сомнений, что свое поведение, особенно же племянницу и посещение «тех мест, где с девками бывают собрания», он рассматривал как осуществление некой жизненной программы, основанной именно на новом мировоззрении. Однажды, когда жена стала грозить ему божьим судом, он рассмеялся и сказал: «Как ты мила тогда, когда начинаешь философствовать! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное, и я не подвержен никакому ответу». Поведение Карамышева было программно и обусловлено учением, которое боготворило природу, «естественного человека», славило раскрепощенность чувств и красоту «натуральных» влечений.
Но Карамышеву мало было следовать его путем в одиночку, он рассудил просветить также и свою молодую жену (в самом деле, почему бы и ей не стать вровень с веком?). Может быть, его разрушающаяся душа в раздражении и злобе (а злоба все чаще на него накатывала) не могла видеть рядом с собою некую нравственную твердость и ощущала ее как укор? Как бы то ни было, он стал убеждать Анну завести себе любовника. Когда она в смятении умоляла никогда не говорить ей об этом («Боже милостивый! Тот, в котором думала найти путеводителя и наставника, – тот хочет меня свести с истинного пути и поставить на распутье!»), он пришел в гнев и стал от нее этого уже нагло требовать и даже представил своего «кандидата». А когда она отказалась, вытолкал ее на мороз «в одной юбке и без чулок». Наутро он пытался сделать вид, что ничего не помнит, но он, говорит Анна Евдокимовна, «был не так-то уж пьян, чтобы без памяти быть». На самом деле он без памяти был от новых идей, которые, как он думал, все ему разрешают и ничего не требуют.
А ведь Карамышев был ученым, принадлежал к высшему образованному слою общества, прошел длительную заграничную выучку, общался с людьми большой культуры. Нетрудно представить себе, в каком искаженном виде идеи Просвещения отражались в менее образованных головах и как воплощались в жизнь!
Если заглянуть хотя бы самым поверхностным образом в религиозную жизнь России XVIII века, какая разноголосица идей, чересполосица взглядов, какой разнобой чувств предстанет перед нами! С одной стороны – набожность, очень глубокая, вложенная в душу с млечного детства и растущая вместе с душой. Она могла соединяться с суевериями, самыми дикарскими, причем верования высшей знати мало отличались от верований мужика какой-нибудь дальней деревеньки.
В своих воспоминаниях Екатерина рассказывает, как однажды в Петергофе императрица Елизавета ждала их, Екатерину и ее мужа. Из окон дворца было видно бурное море, а в нем бился какой-то корабль. Елизавета решила, что они плывут именно на этом корабле, была в отчаянии и наконец приказала принести святые мощи, «поднесла к окну и делала ими движения, обратные тем, какие делало боровшееся с волнами судно», – происходило нечто сродни первобытной магии.
А вот какую странную историю вспомнила Е. А. Нарышкина. Прабабка ее мужа, Наталья Александровна Нарышкина, была подругой царицы Прасковьи Федоровны, при которой жил некий блаженный старец, художник Тимофей Федорович. Однажды после его смерти Наталья Александровна молилась ночью о сохранении своего рода и вдруг получила видение: в воздухе показался коленопреклоненный старец Тимофей Федорович, который поведал ей, что бог обрек на гибель род Нарышкиных, а он, старец, умолил бога его помиловать, и тот согласился с одним, однако, условием: род останется невредим, пока в нем будут хранить его, Тимофея Федоровича, бороду (так странно было божественное распоряжение). Наталья Александровна упала в обморок, а когда очнулась, то увидела, что действительно держит в руках длинную седую бороду. Е. А. Нарышкина, рассказчица, сама видала бороду у свекра Ивана Александровича, она хранилась в особом ящичке на вышитой подушке. И вот однажды шкатулка оказалась пустой, бороду искали напрасно. Возникло подозрение, что Иван Александрович (как видно, естествоиспытатель и вольнодумец) поместил в шкатулку свою коллекцию мышей, которые так объели бороду, что он, дабы не было шуму, вовсе ее выкинул.
Кто-то сказал, что всякий народ в любой момент своего существования живет в разные времена и века, – мысль верная для любой эпохи. Что же до эпохи переломной, когда новое мировоззрение (да еще силой) врезается в старое, сосуществование представлений, характерных для разных веков, разных уровней развития, обозначается особенно четко (и переживается, как правило, мучительно). В одном и том же социальном слое, даже, как мы видели, в одной и той же семье так и могло быть – жена, хранящая в шкатулке священную бороду, и муж, стравивший эту святыню мышам.
Мемуарист Добрынин видел Екатерину во время торжественной службы в могилевском соборе. «С каким достойным зрения благочестием и нравственною простотою предстала она тогда священному алтарю и при важнейших действиях, заключающих в себе таинство греко-восточной церкви, изображала на себе полный крест и поклонялась столь низко, сколь позволяет сложение человеческого корпуса!» Но если вспомнить (и если уместно подобное замечание при столь торжественном случае), что сложение государыни позволяло ей пальцем ноги почесать у себя за ухом, можно представить, что глубокие поклоны большого труда для нее не составляли.
Но как бы истово ни кланялась царица, сочинения Вольтера и других авторов Просвещения (сочинения скептические, рационалистические, а порой и прямо атеистические), которым она покровительствовала, вели свою работу в головах ее подданных. Да и сама она время от времени (не прилюдно, конечно) давала ясно понять свою истинную позицию. Чего стоит, например, место в ее переписке с Вольтером, где зашла речь о жестокостях войны. Война нехороша еще и тем, острит Екатерина, что в ходе ее трудно любить ближнего, как самого себя. Странные шутки для главы русской православной церкви.
«Вера, не тронутая в своем составе, – пишет в своих воспоминаниях Григорий Винский, – начинала в сие время несколько слабеть: несодержание постов, бывшее доселе в домах вельможеских, начинало уже показываться в состояниях низших, как и невыполнение некоторых обрядов с вольными отзывами на счет духовенства и самых догматов», чему виной Вольтер, Руссо и другие, «которые читалися с крайнею жадностию».
Екатерина была осторожна с религией, ее вельможи были неосторожны. Однажды в доме некоего графа Фонвизин был поражен тем, что хозяин открыто да еще при слугах высказывает безбожные мысли. Вскоре после этого, встретив в парке известного вельможу Г. Н. Теплова, Фонвизин рассказал ему о безбожном графе и стал развивать мысль о безбожии как результате невежества. Теплов ответил, что «сии людишки не не веруют, а желают, чтобы их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Вольтером одного мнения», – и рассказал такой эпизод. Некие гвардии унтер-офицеры при нем «имели между собой большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие божие. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть; а бога нет!» Теплов вступил в разговор и спросил безбожника: «Да кто тебе сказал, что бога нет?» – «Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе», – отвечал гвардеец. «Нашел и место», – заметил Теплов. А вся суть рассказа состояла в том, что П. П. Чебышев был ни больше ни меньше как обер-прокурор синода!
Для одних безбожие было модой, для других – убеждением; как бы то ни было, в обществе тут и там вспыхивали споры, «большие прения» шли повсюду – атмосфера накалялась. Однажды в гостиной в присутствии Болотова некий петиметр (то есть щеголь и модник) «язвительнейшими словами смеялся христианскому закону». Его окружили, поднялся сильный шум, «дело бы до превеликой ссоры дошло», если бы не вмешательство хозяина. «Но можно ли было утушить огонь, который каждым еще более возгараем был». Болотов, по натуре терпеливый, мягкий и добрый, вступил наконец в спор, чтобы с высоты знания его окончить, но и ему, как видно, не хватило аргументов и терпения, потому что он в ответ на слова петиметра о философских книгах высказался следующим образом: «А если б мне на волю дали, то бы я все их сжечь, сочинетелей повесить, печатальщиков на каторгу сослать и книготорговцев кнутом пересечь велел». И это Болотов, великий любитель чтения и книг!
Нигде, ни в гостиной, ни в гостином дворе, люди разных мировоззрений не могли договориться друг с другом.
Если уж добродушный Болотов был так нетерпим и резок, то известный нам Карамышев был не мягче. Вот как он проводил в жизнь свои взгляды, правда противоположные болотовским, но важны не взгляды, а сама эта нетерпимость.
«Наступил Великий пост, – пишет Анна Евдокимовна (это происходило в первый год ее замужества), – и я, по обыкновению моему, велела готовить рыбу, а для мужа мясо, но он мне сказал, чтобы я непременно ела то же, что и он ест. Я его упрашивала и говорила, что я никак есть не могу – совесть запрещает, и я считаю за грех. Он начал смеяться и говорить, что глупо думать, чтоб был в чем-нибудь грех. «И пора тебе все глупости оставлять, и я тебе приказываю, чтоб ты ела!» И налил супу и подал. Я несколько раз подносила ложку ко рту – и биение сердца, и дрожание руки не позволяло донести до рту; наконец стала есть, но не суп ела, а слезы, и получила от мужа за это ласки и одобрение; но я весь Великий пост была в беспокойстве и в мученье совести».
Если в дворянской семье возможно было подобное духовное насилие, то нетрудно представить себе, каково приходилось крестьянину, если его набожная душа сталкивалась с насилием барина «новой формации», столь же вольнодумного, сколь и дико деспотического.
Лучшие представители дворянства уже отчетливо ощущали необходимость противостоять потоку низости и подобострастия. «Если человек, скажу шутливо, захочет себя сохранить нетленным, – писал Ф. Н. Голицын, племянник известного И. И. Шувалова (куратора Московского университета), – надобно при входе присвоить себе нерушимые правила. Без сей предосторожности через год, через два найдешь в себе удивительную перемену. Я сказал – правила, но какие? Разум, честь и совесть: их должно стараться сохранить. Тут они на сильном опыте». Действительно, иерархическая система, да еще изуродованная фаворитизмом, это испытывала ежечасно. К фавориту Екатерины, какому-нибудь мальчишке вроде Платона Зубова, с утра являлись сановники, старые, в чинах, – стояли, боялись сесть; известна история с обезьянкой Платона Зубова, которая залезла на парик вельможи, вела себя там самым неприличным образом, и он не посмел ее согнать. В мире низости и подобострастия растущему чувству собственного достоинства действительно приходилось трудно.
Колесил по дорогам империи молодой офицер Александр Пишчевич; смелый, сильный, крепкий. Воевал он тяжело и мужественно, а чины доставались другим. И голодал основательно (в те времена офицеры должны были содержать себя сами). И вот его отец решил помочь ему в добывании чина. «Был тогда в великой милости у князя Потемкина доктор Шаров, вылечивший весьма удачно племянницу его светлости графиню Браницкую от отчаянной болезни; сей господин Шаров пред моим приездом взял у отца моего двух жеребцов, за которые деньги еще не были заплачены; итак отец мой положил, чтобы я сиими лошадьми доехал до капитанского чина». Пишчевич отправился к доктору Шарову, тот обещал поговорить с графиней и представить его ей. И вот после долгих переговоров доктор велел Пишчевичу явиться к нему, чтобы идти представляться. «Я сие исполнил и был уже на пути к дому г-на Шарова, в которое время голова моя обременена была разными размышлениями…» – вот эти-то размышления нам и любопытны. «И между тем представилось мне мое будущее капитанство столь чудны́м, что чем более я об оном размышлял, тем смешнее мне показалось достигнуть до оного посредством жеребцов, лекаря и женщины. Низость такого повышения заставила меня краснеть; казалось, что все, мимо меня проходящие, ведали мою тайну и меня оным упрекали в мыслях; все сие до того мною овладело, что очевидная польза показалась мне гнусною, и я, возвратясь на свою квартиру, положил оставить все сие дело на судьбу, и более моя нога не была у господина Шарова».
Служил Пишчевич под началом генерала Потемкина, племянника «светлейшего», могущественного своим родством. Генерал взял за обыкновение с похода ежедневно посылать Пишчевича к своей жене с письмом. «С начала я сие исполнял с обыкновенной моей скоростию в том чаянии, что сие мое курьерство, видя мою усталость от ежедневной верховой скачки, он прекратит, но когда сие не случилось, то я в один раз вместо одного дня, мною всегда на сию дорогу употребляемого, положил два дня с лишком. Что сие значило, не надобно было быть великим магиком; г-н Потемкин ясно понял, что мне сие посольство не нравилось и что я не в своем месте употребляем быть не хотел». Наконец генерал через третье лицо выразил свое неудовольствие: почему, мол, Пишчевич другие поручения выполняет быстро, а эти – еле-еле? Пишчевич, тоже через третье лицо, ответил: «Посылка моя к г-ну Апраксину (речь тогда шла об очень важном поручении, от которого зависела судьба целого селения. – О. Ч.) была по службе, и потому прилагал все способы, дабы доставить ему как наискорее вверенные мне бумаги. Когда же я еду к г-же Потемкиной, то уверен, что везу письмо от мужа к жене; следственно, скакать сломя голову было бы безрассудно». Каков ответ начальнику, генералу, племяннику самого Потемкина!
Пишчевичу, командиру эскадрона, легко было обогатиться на военном грабеже. Офицеры грабили мирное население без зазрения совести. Вот эскадрон вошел в Анапу, «велено было войско пустить на добычу». Пишчевич стоит на валу при знамени с несколькими ранеными драгунами и смотрит, как солдаты грабят лавки. Он их не осуждает, у них своя нравственность, на них правила дворянской чести не распространяются. Он стоит при знамени и с презрением глядит на дворян, унижающих грабежом свое достоинство. Он нищ, он весь в долгах, а долги, он хорошо это знает, «мучат и убивают душу», он готов сражаться, мучиться в походах, работать, даже идти по миру, но терять достоинство? – на это он согласия не давал.
Если этот офицер полагает, будто у дворян и крестьян разное понятие о чести, это отнюдь не означает, что он относится с презрением к простому народу; напротив, он презирает вельмож, а простой солдат – неизменный предмет его любви и забот. Чувство собственного достоинства этого дворянина растет на самой демократической почве. Санкт-петербургский полк, где он служил, шел из Крыма (уже присоединенного) на родину. «Позднее время, а к тому пространная степь, никем не обитаемая, между Крымом и помянутою линиею делали полку нашему сей переход трудным и опасным, – пишет Пишчевич, – в сем походе еще более я привязался любовию к русскому солдату, ибо имел достаточно случаев удивляться его твердости: ежели начать с его одежды, то нельзя сказать, чтобы она была слишком теплая, бедный плащ защищал его от сильных вьюг и крепкого мороза, но при всей сей невыгоде бодрость его не оставляла. […] И так мы отправились далее, имея степь вместо квартир, а умножающийся ежедневно снег служил солдату, сотворенному крепче всякого камня, вместо пуховика». Из-за стужи драгуны не могли даже остановиться, чтобы испечь себе хлеб, и варили муку. «Однако ж все сие было преодолено».
Именно в Крыму, «находясь в карауле или табуне», Пишчевич по бедности вынужден был садиться за солдатский котел (где, кстати, порой варилась простая трава). Здесь чувства Пишчевича противоречивы. С одной стороны, он гордится своей близостью к солдатам: «Мое утешение было слишком велико видеть себя помещенну в число сих неустрашимых воинов. Но сесть с ними за их солдатский котел?.. Должен, к моему стыду, сказать, что сначала краснел сесть между их, по предрассудку в младенчестве вперенному, будто стыдно толикое фамилиарство благородного с человеком, которого высокомерие дворян назвало, не знаю, по какому праву, народом черным. После входа в лета я уже распознал, что мы все люди и рождены равно и что между простыми гораздо больше благородно мыслящих, нежели между теми, которые себя сим титулом величают».
Идеи Просвещения, в частности идея естественного равенства людей, несомненно влияли на формирование чувства собственного достоинства русского дворянина, но самый этот процесс шел на различной глубине. Вольнодумный екатерининский вельможа (как и сама Екатерина) воспринимал эти идеи горячо, но отвлеченно; он готов был признать человеческие права мужика и солдата, но теоретически. Александр Пишчевич проверял эти идеи на реальной жизни, в общении с живыми людьми, с которыми работал и воевал, и если критерием оценки человека становится чисто нравственный принцип, то возвышение одного человека над другим возможно по одному-единственному уровню – по уровню благородства мыслей и чувств. Впрочем, демократизм Пишчевича тоже преувеличивать не следует, он противник идей того «пагубного равенства», от которого произошли «бедствия» революции.
Итак, он был в непокое, в разладе, XVIII век. Новое вторгалось в жизнь и благодетельно, и страшно. Чем больше росло чувство собственного достоинства человека (а оно росло!), тем больше ушибался он о социальные преграды, о наглость временщиков, захвативших власть на всех ступенях социальной лестницы. Вольнодумство, освобождая мысль, расковывая душу, вместе с тем подчас грубо вторгалось в прежний духовный мир, новое мировоззрение высмеивало старое, а старому казалось, что наступил конец света. Все это неизбежно должно было создавать поле постоянного напряжения, рождать чувство неустойчивости и атмосферу тревоги.
В замечательных мемуарах А. Пишчевича есть рассказ о том, как он ехал в свою деревню. Как-то «в дремучем лесу увидели плотину, в средине разнесенную водою, и каскада нам представлялась самая страшная. Казалось, что до нас тут не ездили, спросить не у кого было, остановиться негде, мороз давал себя чувствовать, что ночью лютость свою умножит; надлежало решиться, проехать каскаду настоящую. Ямщик спросил у меня: «Что, барин, – как быть, а ехать худо». Я ему отвечал: «Ударь по лошадям. Бог милостив!» Извозщик выполнил мою волю. Доехав до пропасти, лошади так углубились в воду, что одни головы были видны, в кибитку вода вошла, и доставало одной несчастной минуты, чтобы сильная волна опрокинула кибитчонку, тогда прощай я, жена и дитя, которое в ее утробе было… Но извозщик, при столь очевидной опасности не потеряв бодрости, ударил, крикнул на лошадей, и они, сделав усилие, выхватили нас из пропасти. Извозщик, перекрестившись, сказал: «Родясь такого страха не видал».
Это одно из самых сильных описаний русской дороги, не раз воспетой и проклятой. Кажется, нет мемуаров, где не встречалось бы погибельных переправ, невозможно крутых для лошадей откосов, вязкой, засасывающей колеса грязи (и каковы же работники, каковы же герои должны были быть русские ямщики!). Словом, на пути гоголевской птицы-тройки должно было встать немало препятствий в виде грязевых омутов, разрушенных мостов, оврагов и водоворотов.
Иногда русский XVIII век представляется мне похожим на эти свои дороги, настолько он в водоворотах страстей, в столкновении противоречий, в вязкой толще неразрешимых проблем.
А ведь главная-то пропасть, главная бездна у нас впереди!
«Выезд государыни-императрицы из Могилева был пред полуднем, – рассказывает Гаврила Добрынин, – при колокольном звоне, при пушечной пальбе и при вялом стечении народа, ибо не должен я пропустить, что белорусские жители почти всех состояний […] смотрят на великий и малый предмет, на печальный и радостный, с кошачьим равнодушием». Добрынин ошибается, кошачьего равнодушия в народе не было. Только теперь усилиями наших ученых нам открывается огромная картина духовной жизни народа, только сейчас начинаем мы понимать, какая напряженная работа мысли шла в самых глубинных народных пластах.
Народная масса предстает нам очень разной, была в ней и рабская покорность, чуть что – валился мужик на колени, но уже та быстрота, с какой разлилась пугачевщина, показывает, с какой легкостью он с колен поднимался. Народное негодование, народное сопротивление гнету то и дело прорывались в разного рода вспышках, случалось и так, что помещики (по словам Екатерины) бывали «зарезаны отчасти от своих». Но всего интересней для нас не эти вспышки, а то постоянное движение непокорных, непрерывное внутреннее сопротивление несправедливой социальной системе, совершенное ее внутреннее неприятие, которое было ясно осознано и отчетливо выражено народными мыслителями.
Наше представление о том, что темная и неразумная масса получала просвещение только сверху, от дворянской (а потом и недворянской) интеллигенции, требует определенных корректив. Пушкинское замечание: «Правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно», – справедливо, но неполно. Конечно, поскольку речь идет об образовании, тут заслуги правительства (именно екатерининского) и дворянской интеллигенции бесспорны, но вместе с тем в народе шел и процесс самообразования, осознания жизни с ее корневыми социальными проблемами. А если под просвещением понимать, например, такое великое завоевание, как чувство собственного достоинства, то можно сказать с уверенностью: в глубинах народных масс формировалось свое мировоззрение, народная мысль, независимая и глубокая, развивалась не только самостоятельно, но и в противоборстве с официальным мировоззрением. В XVIII веке дворянская культура не имела никакого представления об уровне мужицкой мысли.
Народ был неотступным мечтателем, страстным, и мечта его была всегда одна и та же – о вольной жизни, мирной, спокойной, когда можно было бы работать, не боясь, что у тебя отнимут все, что тобой выращено, что тебя самого оторвут навеки от семьи, загонят в рекруты или продадут кому-нибудь как скот. Эта мечта о мире, о вольной спокойной работе нашла свое выражение во многих легендах, о том, что стоят где-то счастливые невидимые монастыри и даже целый город Китеж, который божья рука скрыла от властей под водою. Была в народе и мечта о «далеких землях», где-то за морем на «семидесяти островах» – земной рай. Вера в него так была велика, что существовали путеводители, называли даже имена каких-то проводников, которые могли бы туда провести. И люди шли, снимались с места вместе с семьями и всем скарбом и шли искать желанную страну. Какова сила непокоренности! Что касается бегства крестьян на Дон, в леса или за границу, то это явление достаточно хорошо изученное. Почва для появления мужицкого царя психологически была вполне готова.
В историческом музее есть портрет Пугачева. Емельян Иванович написан в сентябре 1773 года, то есть в самом начале восстания. Когда портрет этот был обнаружен в запасниках музея и с ним начали работать реставраторы, оказалось, что он написан поверх какого то другого; чем больше расчищали красочный слой, тем яснее становилось, что этот другой – парадное изображение Екатерины, декольтированной, в бриллиантах, орденской ленте и при звезде. В качестве памятника классовой борьбы этот двойной портрет очень красноречив, но вместе с тем теперь, когда реставраторы сняли часть красочного слоя, он являет собой некий живописный курьез, совсем не соответствующий такому серьезному делу, каким была крестьянская война. А впрочем, грозный Пугачев с женской грудью декольте кажется воплощением того фарса самозванства, в котором сам Пугачев был императором Петром III, его помощник атаман Чика-Зарубин – графом Иваном Чернышевым, где Екатерина была злодейкой женой, а Павел – любимым сыном. Вместе с тем этот двойной портрет являет собой теперь как бы сопоставление двух царей (тем более что одним замазали другого, это значит, что в народном сознании один другого победил). Это сопоставление становится особенно наглядным, если сравнить воззвания Пугачева к народу и те правительственные манифесты, которые выпускала Екатерина.
Пугачев говорил с народом поразительно сильным языком (в свое время произведшим большое впечатление на Пушкина). Вот как он говорил: «Великим богом моим на сем свете я, великий государь император Петр Федорович, ис потерянных объявился, своими ногами всю землю исходил […]. Слушайте: подлинно мы государь!» Или: «Божьего милостию мы, великий император и самодержец Всероссийский, всемилостивейший, правосуднейший, грознейший и страшнейший, прозорливый государь Петр Федорович!» Или: «Заблудившия, изнурительные, в печали находящиеся, по мне скучившиеся!.. Без всякого сумнения идите…» Могло ли тут не забиться надеждой мужицкое сердце – ведь горячие и искренние слова. А он еще и обещал: «Тех, кто сам видит мое благородное лицо и прекрасный образ […] и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду жаловать». А чем? «Жалуем сим имянным указом с монаршеским и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне: и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами (раскольничий мотив. – О. Ч.), вольности» и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без оброку; и свобождением всех от прежде чинимых от злодеев дворян и от градщких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев».
А впрочем, и угрозы тут были более чем убедительные и касались не только дворян: чтобы ослушники «милосердия б уже не просили […], для чего точно я присягаю именем божьим, после чего прощать не буду, ей, ей». Или и того убедительней: «А в противность поступков всех, от первого до последнего, в состоянии мы рубить и вешать».
После неистовых речей пугачевской ставки странно (и даже отчасти смешно) читать разумные екатерининские манифесты, где все идет по порядку, все своим чередом и разделено на пункты. Пункт «А» начинается издалека: «Нет, да и не может быть в свете общества, кое не почитало бы первым своим блаженством учреждения и сохранения между разными и всеми частями и степенями граждан внутреннего благоустройства, покоя и тишины, равно как нет же и бедственнейшего пути к разрушению и пагубе общества, как внутренние в них раздоры и междоусобия». Этот ритм после бешеных пугачевских речей кажется не только бедным, но и заунывным. Главное, Екатерине нечего сказать народу, нечего обещать. А Пугачев обещал свободу и землю.
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – не раз скажет Пушкин. Все так. Но когда мы сталкиваемся с живой картиной крепостнических нравов, когда видим ту кухарку (воспоминания майора Данилова), которая, пока барыня кушает ею изготовленный борщ, лежит истязаемая на полу – так барыне вкуснее; или тех мужиков, что стоят на коленях, а барин, тоже ради развлечения, щелкает их по лбу так, что мутится их разум; или невесту, которую в день свадьбы барчуки тащат в сарай (Радищев), – разве не жаждет наша душа услышать стук копыт пугачевской конницы?








