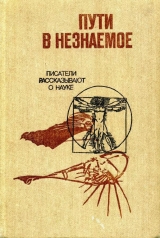
Текст книги "Пути в незнаемое. Сборник двадцатый"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Соавторы: Ольга Чайковская,Натан Эйдельман,Петр Капица,Ярослав Голованов,Владимир Карцев,Юрий Вебер,Юрий Алексеев,Александр Семенов,Вячеслав Иванов,Вячеслав Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 48 страниц)
Он прошел быстро по ступеням возвышения, сменяя тихие книжные часы ученого в монастырской келье на бурную деятельность духовного борца. Был возведен в сан архимандрита, стал настоятелем монастыря – полководец в черном клобуке, ведущий за собой поредевшие ряды. Речи, проповеди – в церкви, в ратуше и на площадях. Против унии, против насилия в вере. Собирал толпы слушателей и уже привык к поклонению жадно ждущих его слова. Рассылал послов по округе – раздавать письма с его проповедями, с его полемическими статьями.
Ездил в Киев, где под защитой казачества собирались владыки православия, пытавшиеся восстановить свои права, утерянные во многих местах под натиском унии. Получил еще более высокий титул – был назначен архиепископом в город Полоцк. Но там уже распоряжался другой, ставленник униатов Иосафат Кунцевич, прозванный в народе «душехватом» за зверское обращение с любым, кого считал ослушником. Возгорелась борьба за «сферу влияния». Смотрицкий действовал своим оружием слова – серией полемических листков, посланиями к верующим, прошением на имя короля, – вопль о справедливости. «Нельзя запретить плакать обиженным». Противная сторона отвечала больше расправой, обвинениями в измене, доношениями на имя короля. Королевский указ: не впускать Смотрицкого в Полоцк как самозванца, а коли ослушается – посадить в темницу.
Народ был так возбужден повсеместно, что в городе Витебске, куда приехал Кунцевич, ударили в колокола и тысячная толпа горожан, бедноты бросилась к дому, где он остановился… Растерзанное тело кинули в реку. Королевская кара немедленно обрушилась на Витебск. Смертные приговоры, казни, заключения в тюрьму, битье кнутом. Смотрицкого подозревают в подстрекательстве.
Бежать, бежать!.. Виленское братство снаряжает его в дальний путь. И он покидает любимое Вильно, чтобы никогда больше в него не вернуться. Египет, Палестина, Греция… Два года по святым местам. А ужас пережитого не оставляет. Не остыл еще в памяти людской костер в Риме, на котором сожжен был Джордано Бруно. Тяжела десница папского престола. Помни, многогрешный Мелетий! Наводило страх и другое. Гнев восставшего народа. Против чего, против кого может вдруг обернуться? Помни и об этом, Мелетий! Кровь, вражда повсюду. Когда же этому конец?.. Имел встречу и беседу с самим патриархом константинопольским, но, как видно, не получил у него успокоения и поддержки.
Когда Смотрицкий вернулся в родные края – вернулся другой Смотрицкий. Потряс, больно поразил всех, кто знал его многие годы, кто возвышал его и кто шел в надежде за ним. Он принял униатство, стал проповедником унии и получил в награду место настоятеля одного из самых богатых униатских монастырей. Более того, выпустил сочинение под названием «Апология». Действительно, восхваление единства двух церквей, папского могущества, восхваление тех благ, что сулит это объединение народам Западной Руси. Народ избавится от страданий, доказывал он, перестанет проливаться кровь.
То, что раньше чернил как мог, теперь в «Апологии» расцвечивает радужными красками. От чего заклинал, теперь туда-то и толкает. Перевертыш! Мелетий-отступник! Петр Скарга наверняка бы ликовал, какой зигзаг совершил бывший выученик его Академии и бывший злейший его антагонист долгие годы – вернулся в лоно, вскормившее его знаниями. Но, увы, бог уже прибрал душу несгибаемого иезуита!
А что заставило Мелетия говорить теперь о тех, кому считал он всегда своим долгом служить, нести свои знания, о простых братьях своих – «многоголовый зверь», для усмирения которого надо «употребить железо»? Тень Лютера воскресает при этих словах. Как все-таки сеятели народной духовности начинают бояться собственных плодов!
Его призывают в Киев на собор православия – держать ответ в своем отступничестве. И там, на соборе, под угрозами разгневанных владык отрекается он от своей «Апологии», сам топчет ее ногами и «палит огнем». Он ведь знает тоже, какова десница и православного духовенства.
Но едва покинув пределы Киевской Руси, отрекается от своего отречения и пишет слезный «Протест» против собора, оправдывая свой поступок насилием. Вступившему раз на стезю малодушия с нее уже не сойти.
После мало уже кто видел Мелетия Смотрицкого. Укрылся за стенами униатского монастыря, подальше от искушении земных. Проводил остаток дней своих в чтении, в молитвах, истязая себя власяницей и долгими постами.
На камне над его могилой начертаны слова: «…Я много ошибался… Но Бог меня простит».
Многие гадали над загадкой Смотрицкого. И современники, позднее историки, биографы. Искали объяснений.
Можно, конечно, объяснить общей причиной. Принадлежал к шляхетскому сословию и проделал ту же эволюцию, что и многие из шляхты в этом крае. Перешли от веры отцов к униатству и католицизму. Из разных побуждений – и выгоды, и самозащиты. Но он-то, такой борец против унии, и вдруг!..
Находили моменты и личного свойства. Разные, противоречивые. Характер неустойчивый, подверженный колебаниям и сомнениям. Страх, поселившийся после убийства Кунцевича, и сознание, может быть, собственной невольной вины. Или, напротив, тщеславное желание играть видную роль. Он не раз уступал демону честолюбия, что привело его к столкновению, к разрыву с собственным виленским братством. Порвалась братская связь. А как ему ладить с православными владыками после его двойного отречения во время киевского собора? Не дай боже, когда они в силе! Кивали и на иезуитское воспитание, которому подвергался он в годы учения в Академии: это, мол, не проходит бесследно и рано или поздно дает о себе знать.
Толкований много. Всегда ли только можно все вполне логически трезво объяснить! Оставим же что-то и на потемки души.
ВРАТА УЧЕНОСТИА его «Грамматика…» достойно и славно несет свой свет. Плотный томик в светло-коричневой коже. По нему учатся говорить и писать – «правилное синтагма»! – юные и взрослые, в школе и дома. На Украине, в Белоруссии, в Литве, в Московском государстве. В других славянских землях.
«Грамматику…» его переписывают, перепечатывают, переводят то полностью, то в сокращенном виде, то в отдельных извлечениях. Под его именем и без его имени. Если выступают и другие авторы, то, по сути, его же, Смотрицкого, и перекладывают.
Проходит век семнадцатый, век Смотрицкого, наступает новый век, восемнадцатый, примечательный во многих отношениях – открытиями, свершениями, переменами. А значение его «Грамматики…» не оскудевает. И еще несколько поколений на Руси обязаны ей своей грамотностью и духовным развитием.
В далеких Холмогорах у Белого моря юный Михайло Ломоносов, раздобыв ее случайно, носит неотлучно с собой. Постигает ее смысл, затверживает важнейшие положения. «Врата моей учености», – скажет впоследствии.
Тридцать лет спустя академик петербургской Академии наук Михаил Васильевич Ломоносов вновь держит ее перед собой, предпринимая труд первостепенной важности. Создание «Российской грамматики».
Ломоносов видел тесное родство русского языка и книжного церковнославянского. И был движим мыслью совершить важнейший шаг: сделать разговорный русский язык полноправным языком науки и литературы. Положить его на твердое основание законов и правил. Придать силу грамматическую.
Многолетние наблюдения, заметки, подготовительные наброски по языку получают сейчас под его пером единый стройный порядок. Ряд последовательных глав – «Наставлений». Это еще только опыт, считает он, ибо грамматики «еще никакой нет, кроме славянской» «Грамматики» Смотрицкого. Она и отправная ступень для него, и ступень, над которой надо подняться дальше. Он отдает должное ее историческим заслугам – полтораста лет почти ее торжества! – сверяется по ней, спорит с ней, одни положения ее принимает, другие отвергает как русскому языку несвойственные. И выстраивает новую систему грамматики – грамматики российского языка.
Последнюю точку под ней – «Конец шестому наставлению и Российской грамматике» – поставил в знаменательный 1755 год. Год открытия Московского университета, созданного его, Ломоносова, тщанием.
«Российская грамматика» заняла выдающееся место в истории русской культуры. Но сам Ломоносов предпочел говорить о ней всего лишь: «Я хотя и не совершу, однако начну, то будет другим после меня легче делать».
Великий дух преемственности в науке.
…Время. Оно стирает второстепенные черты. Религиозные страсти и терзания Мелетия Смотрицкого, его взлеты и падения – они ушли вместе с ним и с его временем. Грамматика славянская оставила неизгладимый след. Наука филологии почитает ее своей примечательной страницей.
Вильнюсский университет может гордиться тем, что в его старых стенах, на его академическом «пятачке», в его богатой библиотеке учился когда-то, получил первооснову своих обширнейших знаний молодой украинский шляхтич Максим Смотрицкий, он же – известный в истории Мелетий Смотрицкий.
В старейшем, живописно декорированном «Зале Смуглявичюса» университета, среди наиболее драгоценных книг, покоящихся на столах-витринах под стеклом и покрывалами, лежит плотный томик в светло-коричневой коже – «Грамматики словенския» Мелетия Смотрицкого, Евью, 1619.
Киевское издательство «Наукова Думка» и повторило его в наши дни, – хороший подарок. Как раз к памятным датам: 400 лет Вильнюсскому университету и 360 лет со дня первого выхода «Грамматики».
С каким же чувством открываем мы теперь эти страницы нарядного славянского текста, зная, как все тогда происходило!
О. Чайковская
КАК ЛЮБОПЫТНЫЙ СКИФ…
Известные слова Радищева: «Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро» – жизнь опровергла почти тотчас же. Слишком резок был переход от восемнадцатого века к девятнадцатому, слишком велики перемены, когда Павла I сменил Александр. А там – наполеоновские войны, новые настроения умов – и грянуло 14 декабря. Духовное развитие страны пошло столь бурно, что предыдущий век в представлениях людей словно бы разом обветшал, и молодой девятнадцатый, собственно, почти забыл, что чем-то ему обязан (самонадеянность, кажется, вообще свойственная периоду общественных надежд и благотворных перемен). Культура XIX века была так роскошна, что его людям другой и не надо было. Кому бы пришло в голову читать В. П. Петрова или Е. И. Кострова, когда любой поэт пушкинской поры (о самом Пушкине или Лермонтове мы уже и не говорим) был куда гибче, куда искуснее. Странно было бы обращаться к М. Д. Чулкову или И. П. Елагину, когда уже поднималась волна гениальной русской прозы. Общественная мысль так окрепла и возмужала в «Современнике» и других журналах, что никому бы и в голову не пришло взяться за екатерининскую «Всякую всячину» или даже за великолепный новиковский «Трутень».
Восемнадцатый век забывался именно как «столетье безумно и мудро», то есть как время живое, горячее, разорванное противоречиями. Он, напротив, стал представляться некоей заводью, неким голубо-розовым интерьером, населенным пудреными париками, красными каблуками, атласными кафтанами и учтивым менуэтом, иначе говоря – театрально.
А век этот был полон жизни и сил.
Любопытен он был, любознателен, все занимало его и тешило: все, что делается на белом свете, хотелось ему знать. Он шагал семимильными шагами, радостно впитывая в себя знания о мире и о себе. В Русском музее среди «смолянок» Левицкого есть портрет Молчановой – юная девушка, веселая, энергичная, она сидит, весьма независимо и даже отважно выпрямившись (и кажется – ветер шумит в ее шелковом, огромном, летящем назад казакине), в руке ее книга, рядом – электрическая машина. Вот облик XVIII века! Век-путешественник, век-зевака, но не праздный, век-дилетант, исполненный подлинного таланта и трудолюбия, он жил жарким интересом к наукам, ремеслам, искусствам, ко всем видам духовной деятельности, когда передовая часть дворянства (и не только дворянства, конечно, но оно лидировало) запоем читала, без устали переводила с иностранных языков, страстно коллекционировала, пробовала силы в искусстве, литературе – это море замечательного, яркого дилетантизма было своего рода разминкой и тренировкой перед великой работой XIX века.
Как бы ни было сильно (и в современных, и в последующих поколениях) ощущение черты, разделяющей два века, черты не было на самом деле: жизнь шла потоком, которого никакая грань (будь то смена царствований или смена умонастроения) перерезать не могла. Пограничное поколение, начавшее жить в одном веке и кончившее в другом, не в состоянии было бы разом трансформироваться даже в своей наиболее подвижной – интеллигентной – части, в народных глубинах шла своя жизнь, новым движением едва ли захваченная. Восемнадцатый век перелился в девятнадцатый со всеми своими приобретениями и нравственными победами, вместе со своими пороками и трагическим дуализмом; вместе со своим языком – оттого, что в первой половине XIX века возник новый литературный, «пушкинский», у нас сложилось странное представление, будто в XIX веке люди вообще начали разговаривать на каком-то новом языке, а он был все тот же, единый, на нем говорили и до рубежа веков и за ним.
Восемнадцатый век прослыл веком чудаков, и это понятно: в начале XIX доживали екатерининские вельможи (и не только они, конечно), смешные своими пудреными париками, учтивостью манер и вольтерианским вольнодумством. Действительно странен был XVIII век, но его странность не в париках, разумеется, и не в вольтерианском вольнодумстве, она в другом. И если (что не раз отмечалось) люди XVIII века со своих портретов смотрят загадочно, то действительно есть в них загадочность – и в них, и в самом столетии.
Он был весел, XVIII век, и любил валять дурака. Однажды летом в Петергофе Екатерина смеху ради прямо в платье вошла в море, за ней – дамы и кавалеры. А как-то в покоях императрицы зашла речь о том, «кто как проворен и у кого кости гибки. Государыня изволила сказывать, что она ногою своею у себя за ухом почесать может». Эта ребячливость – не только ее личное свойство, здесь Екатерина, как всегда, выражает свой век. Перед нами черта эпохи, создавшей эту моду белых париков и красных каблуков, эпохи, заткавшей платья, каминные экраны, ширмы и веера веселыми и яркими узорами; позолотившей все, что можно позолотить; ярко расписавшей стены покоев и все, что можно расписать, вплоть до атласных жилетов, вплоть до пуговиц на них.
Восемнадцатый век без памяти любил зрелища и развлечения. В условиях жизни, бедной впечатлениями, они ценились высоко. Праздники давали пищу воображению: простым людям – на площадях и улицах, где по ночам гремели замысловатые фейерверки, рисуя огнями в ночном небе аллегорические сюжеты; дворянам – в залах, где столы после обеда уходили под пол, где раздвигались стены, открывая роскошные сады. Дворянские пиры шли по всей стране: и во дворцах, и в мелких усадьбах. Балы, маскарады, представления, пышные выезды вельмож, народные празднества – все это непременная принадлежность XVIII века. Но так ли на самом деле был он весел? И так-то легко жилось в нем – даже дворянству?
Заглянуть в глубь духовной жизни людей русского XVIII века помогает портрет, он может стать окном, за которым открывается глубокая перспектива и данной души и целой эпохи. Я назвала XVIII век дилетантом, но он успел высокопрофессионально выразить себя в архитектуре, скульптуре и особенно в портретной живописи. А поскольку рубеж непонимания между нами и прошлым все же существует и какое-то разъяснение необходимо, представляется необходимым сопоставить портрет со с л о в о м эпохи, тогда речь его станет более внятной. А для нас возникнет некая стереоскопичность в восприятии людей XVIII столетия, достойных того, чтобы быть понятыми: уж верно они серьезно работали, если своей работой подготовили великий девятнадцатый.
Но если представляется полезным сопоставить портрет со словом эпохи, то возникает вопрос: с каким? Чем располагала в те времена русская литература?
Казалось бы, всего ближе живописи должна быть лирика, но ее задачи в XVIII веке были другие, а в связи с этим – и возможности невелики. Утомительная повторяемость тем, невозможное однообразие нагромождений стереотипов и штампов – все это производит впечатление мертвенности. Стихи полны банальных сентенций, их бесконечные пастушки́ и пасту́шки (столь прелестные, к примеру, в фарфоре или на гобелене) надоедают безмерно и своими стенаниями, и своей фривольностью. Конечно, был гениальный Державин, но он на полях современной ему поэзии – как буйный красавец конь среди мирного стада. В прозе того времени лидировала комедия, был замечательный Фонвизин, но у комедии свои законы, она если и зеркало жизни, то зеркало кривое по определению. Сопоставление портрета с комедийной литературой невозможно и потому, что портрет второй половины XVIII века совершенно лишен не только комедийности, но, как правило, даже оттенка иронии.
Была, однако, в XVIII столетии отличная русская проза, уже способная рассказывать о внутреннем душевном мире человека, она создавалась подспудно, еще вдали от печатного станка. По крупным и мелким усадьбам, по городским особнякам созревала литература, во всем противоположная официальной (если говорить о трагедиях, одах, героических поэмах), – это мемуары. Их авторы писали героями самих себя, писали то в виде простого жизнеописания, иногда бытоописания, то ударяясь в прямую исповедь, но, как правило, писали честно. Именно эта литература позволит нам многое понять и объяснить.
В скульптуре Ф. Шубина «Екатерина-законодательница» у ног мраморной царицы лежит рог изобилия – известная принадлежность аллегории, атрибут Флоры, богини плодородия. Обычно из рога изобилия сыплются великолепные дары земли – плоды и цветы. Из рога изобилия, лежащего у ног Екатерины, летят монеты, ордена и медали. Эта жесткая и, казалось бы, малопитательная материя изображена тут с энтузиазмом, она валом валит – и неудивительно: в глазах общества все это было одним из величайших благ.
Бешеная погоня за титулом, чином, орденом, столь свойственная дворянству XVIII века, объясняется далеко не только тщеславием, хотя и его было полно, – чин определял повседневную жизнь, начиная от благосостояния и кончая тем, как скоро даст тебе лошадей на почтовой станции станционный смотритель. Сколько надежд, мечтаний, восторгов было связано с чином – и сколько отчаяния, когда он проплывал мимо! – этим восторгам и отчаяниям посвящены бесчисленные страницы мемуаров. Вот юный Андрей Болотов обойден чином подпоручика. Известие это поразило его «властно как громовым ударом, – пишет он, – я онемел и не в состоянии был ни единого слова промолвить, слезы только покатились из глаз моих и капали на землю […]. Самый свет казался мне померкшим в глазах моих […]. Лишение самых родителей (Болотов очень тяжело переживал смерть родителей и свое раннее сиротство. – О. Ч.) не было для меня таково горестно и мучительно, как сие досадное обойдение. Там действовала одна только печаль, а тут с оною вместе досада, раскаяние, завидование благополучию моих товарищей, стыд и многие другие пристрастия совокуплялись, и попеременно дух и сердце мое терзали и мучили». Болотов, впрочем, был мальчиком, неоперившимся птенцом, но вот перед нами другой человек, офицер Александр Пишчевич, прошедший школу войны, – он идет к секретарю петербургской военной экспедиции, у которого рассчитывает к у п и т ь чин майора (который, кстати, давно ему по службе полагается). «Пять часов ударило на Петропавловской колокольне, как я уже был у ворот секретарских, проводив утро или, лучше сказать, часть ночи, изготовляясь предстать пред ним; никогда любовник, долженствующий предстать в первый раз пред свою любовницу, не делал с толиком тщанием своего туалета и не удваивал столь скоропостижно своих шагов: я не шел, а, так сказать, перепрыгивал через ногу, дабы достигнуть до Тарутиновой пристани, толико велико было мое нетерпение» (и секретарь воинской экспедиции Тарутин запросил с него сумму, которой у него не было). Сколько людей, военных и штатских, бежало так, перепрыгивая через ногу, – и сколько их тоже прыгало понапрасну!
Но русское дворянство волновалось не только из-за чинов и должностей – жизнь была крайне неустойчива. Самая чересполосность дворянских владений рождала распри, ссоры, бездонные тяжбы, уже в рамках закона весьма болезненные, а к тому надо прибавить всесильное беззаконие. Иерархия петровской табели о рангах была прочна лишь на бумаге. Фаворитизм был не только придворным явлением, он пронизывал насквозь все общество, и перед каким-нибудь мелким чиновником мог унижаться губернатор. Смена фаворита рушила созданную им временную иерархию. Подобный социальный хаос рождал чувство жизненной неуверенности, робкого ожидания бед и напастей.
Живопись XVIII века всех этих социальных тревог не ухватывала, равно как и личных трагедий. Одна из самых знаменитых ранних работ Левицкого – портрет архитектора А. Ф. Кокоринова – в сочетании тонов здесь такая договоренность и согласованность, что при взгляде на них возникает чувство глубокого покоя; а в лице Кокоринова достоинство и спокойствие. Между тем этот человек, богатый (женат был на одной из Демидовых), еще молодой, повесился на чердаке выстроенного им здания Академии художеств. Левицкий писал его за два-три года до трагедии – неужели он, великий художник, ее не разглядел?
Григорий Орлов, который долгое время был невенчанным мужем Екатерины, его писали множество раз, все его портреты полны энергии и веселья – и того и другого было в его характере сколько угодно, – но в том-то все и дело, что природа, весьма щедро его одарив, наделила его также и безумием, именно в этом тяжком, унизительном безумии он и умер. Ни тени его не найдете вы на портретах Орлова. Вообще на лицах портретов второй половины XVIII века нет ни страдания, ни сострадания, ни раздражения, ни тем более порока. Но почему? Неужели художники этого времени утратили мастерство, которым так великолепно владели живописцы конца семнадцатого? Ведь когда портрет только-только начинал отделяться от парсуны, на нем стали проступать лица такой выразительности и живости, что кажется, будто они написаны со всей резкостью психологических характеристик сегодняшнего дня.
В Русском музее висят рядом два портрета из удивительной серии участников петровского «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы». Портрет Я. Тургенева (написан не позднее 1695 г.) во многом неумел: плоская фигура, распластанная на темном сплошном фоне, выглядит так, словно ей тесно в раме и оттого руки ее неестественно вывернуты в локтях. Но зато лицо…
Это уродливое жесткое лицо, продувное; сообразительные глаза конокрада, в них совершенное неверие (ни в сон, ни в чох), вскинутые брови, от движения которых весь лоб пошел замысловатыми складками, подчеркивают этот разъедающий скепсис (чтобы не сказать – цинизм). Крепкий старик, умный, прожженный, низкий в помыслах.
Фигура на портрете Андрея Апраксина («Андрея Бесящего»), брата царицы Марфы, так же скована и распластана на темном фоне, но в лице еще более непокоя: оно тревожно и болезненно, это лицо, а в глазах и вовсе что-то блажное и дикое. В обоих – и в Тургеневе, и в Апраксине – злая жизнь гоголевского портрета: кажется, накрой их холстом, и ночью сквозь холст начнут проступать их страшные глаза. На портретах эти всешутейшие и всепьянейшие словно бы протрезвели и оба спрашивают, как им быть. Тургенев – предвидя, что ответ безнадежен и ничего не выйдет. Апраксин – с отчаянием и, может быть, с надеждой. Их души раздвоены, их лица опалены, это два несчастных беса, два тяжких грешника – и нам в самом деле трудно отделаться от впечатления, будто оба они схвачены кистью современного художника, который уже прошел тремя веками бурного и сложного общественного развития.
С конца XVIII века пройдет 50—70 лет, художники научатся писать объемы и воздух, станут все свободнее разворачивать фигуры, достигнув виртуозности, изображая взгляд или нежность кожи, проникнут в тайны соотношения света и цвета.
И выступят перед нами в ряд на их полотнах одни праведники – ни сомнений, ни сожалений, ни страха, ни раскаяния.
Между тем духовный мир XVIII столетия не только был сложен и чересполосен, но и расколот многими трещинами.
Старое сталкивалось с новым, да так странно, что порой и не поймешь, на чьей ты стороне. Разница в миропонимании и мироощущении, перепад в уровне образования, готовность одних осмеять традиции, которые для других были святыней, – все это не могло обойтись без столкновений, порой крайне болезненных. Новое мировоззрение, основанное на идеях Просвещения, подчас резко вторгалось в мир старинных представлений и верований – мемуары эпохи дают нам интереснейшие тому примеры.
В самой глухой глуши, где-то «под Челябой», в семье строгой религиозности, в укладе самом патриархальном выросла Анна Яковлева. Мать ее была человеком суровым, страстным приверженцем одной идеи. И любимую дочь она воспитывала неистово, сурово. Она, пишет сама Анна Евдокимовна, «меня учила разным рукоделиям, и тело мое укрепляла суровой пищей, и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду; шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитных чулок и башмаков, ничего не имела; в самые жестокие морозы (вспомним, что это все же Сибирь. – О. Ч.) посылывала гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывала снимать и переменять чулки: на ногах и высохнут. Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку». Воспитание шло в духе строгого благочестия. «После этого я должна была читать Священное писание, а потом приниматься за работу. После купания тотчас начиналась молитва, оборотясь к востоку и ставши на колени; и няня со мной – и прочитаю утренние молитвы; и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем; […] Мне было твержено, что бог везде присутствует, он видит, и знает, и слышит, никакое тайное дело сделанное не остается, чтоб не было обнаружено; то я очень боялась сделать что-нибудь дурное […]. Часто очень сама мать моя ходила со мной на купание и смотрела с благоговением на восход солнца и изображала мне величество божие, сколько можно было по тогдашним моим понятиям. Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтоб я чего-нибудь боялась, – и я одиннадцати лет могла переплывать большую и глубокую реку безо всякой помощи; плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла; в саду работала и гряды сама делывала, полола, садила, поливала. И мать моя со мной разделяла труды мои, облегчала тягости те, которые были не по силам моим: она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала».
«Важивала меня верст по двадцати в крестьянской телеге, заставляла и верхом ездить, и на поле пешком ходить – тоже верст десять. И пришедши, где жнут, – захочется есть; и прикажет дать крестьянского черного хлеба и воды, и я с таким вкусом наемся, как будто за хорошим столом. Она и сама мне покажет пример: со мной кушает, и назад пойдет пешком».
«Зимой мы езжали в город. Там была другая наука: всякую неделю (мать) езжала и хаживала в тюрьмы, и я с ней относила деньги, рубашки, чулки, колпаки, халаты, нашими руками с ней сработаны. Ежели находила больных, то лечила, принашивала чай, сама их поила, а более меня заставляла. Раны мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями […]. Случается там часто, что на канате приводят несчастных, в железах на руках и на ногах, – то матери моей всегда дадут знать из тюрьмы, что пришли несчастные, и она тотчас идет, нас с собой, несет для них все нужное и обшивает холстом железа, которые им перетирают ноги и руки до костей. А если же увидит, что в очень плохом положении несчастные и слабы, то просит начальников на поруки к себе и залечивает раны. Начальники ей никогда не отказывали, потому что все ее любили и почитали».
В ходе этой жизни, такой простой и деятельной, между матерью и дочерью возникали глубинные, неразрывные связи, и влияние матери было огромно. Но в жизни маленькой Анны великую роль играла еще одна женщина – няня (о русских няньках и их роли в развитии общества можно было бы написать, я думаю, целую книгу). «Я не меньше и почтенную мою няню любила, так как я с ней чаще бывала […]. Своими добрыми примерами и неусыпным смотрением не только что замечала мои дневные действия, даже и сон мой, как я сплю; и на другой день спрашивала меня: «Почему вы сегодня спали беспокойно? Видно, вчера душа ваша не в порядке была или вы не исполнили из должностей ваших чего-нибудь?» […] И я тотчас ей со слезами во всем признавалась и просила ее скорей за меня вместе со мной помолиться […]. По окончании молитвы я обнимала ее и говорила, что мне теперь очень весело и легко […]. И она умела из меня сделать то, что не было ни одной мысли, которая б не была ей открыта». Девочка жила счастливо «с почтенной матерью» и няней, «неоценимой благодетельницей». Но вот в ее мир, такой прочный и ясный, стала проникать тревога – заболела мать. Она «начала чувствовать разные болезни и частые припадки, так что, видимо, приближалась к гробу».
В это самое время и приехал в их дом Александр Матвеевич Карамышев – с ним в наш рассказ вступает весьма странный герой.
Он воспитывался отцом Анны, который послал мальчика в гимназию при Московском университете, потом отдал в сам университет, откуда юношу через два года послали в Швецию. Образование в Упсальском университете было очень широким, достаточно сказать, что Александр Карамышев работал под руководством самого Линнея. Но мысли молодого ученого были отданы отечественной науке, в его диссертации излагалась мысль о необходимости развития в России «естественной истории». И вот этот молодой человек, блестяще образованный, знающий языки, соприкоснувшийся с вершинами европейской науки, талантливый ученый, неутомимый практик, в 1771 году вернулся на родину. Надо ли говорить, что он стоял на передовых рубежах века, что ум его был свободен от векового гнета религии, горизонты раздвинулись – по тому времени безбрежно. С ним в узкий деревенский мирок, пронизанный не только набожностью, но и прямым суеверием, должен был ворваться свежий ветер вольнодумства. Посмотрим, как он ворвался.
Умирающая понимала, что девочку нельзя оставлять одну в мире беззакония и произвола, оставалось одно – отдать ее в семью близких людей, замуж за человека, который вырос в их доме и был обязан им воспитанием и судьбой. Так состоялась свадьба двадцативосьмилетнего ученого с тринадцатилетней полудеревенской девочкой. «И жили мы в деревне неделю после свадьбы, но болезнь увеличивалась моей матери и принуждала ее везти в город: расстояние невелико – 90 верст. Но она была так слаба, что всякое малое движение причиняло ей жестокое мучение. И тут началась первая моя горесть, что мне муж мой не позволил с ней сесть в карету, и я с горестными слезами повиновалась ему, ни слова не говоря. И сия дорога была для меня мучительна: умерли во мне все радости, и я, кроме скорби душевной, ничего не чувствовала, и мысли мои беспрестанно были при больной. Кто ее теперь успокаивает? Она привыкла быть со мной, и я облегчала ее болезнь. Этот жестокий человек лишает ее сего последнего утешения при конце ее. Я так тогда мыслила. Одни слезы облегчали мою тягость; муж мой и за слезы на меня сердился и говорил: «Теперь твоя любовь должна быть вся ко мне […], ты теперь для меня живешь, а не для других». Я спросила: «Разве можно кончиться моей любви к той, которая мне дороже всего в мире? Меньше ли ты любишь мать свою с тех пор, как женился? Все в свете для тебя сделаю, кроме сего!» Он отвечал, что: «Ты еще не знаешь тех великих обязанностей, которые ты должна иметь к мужу, то я тебя научу!» И сказал это таким голосом, что у меня сердце замерло от страха». Нетрудно заметить, что передовой Карамышев высказывает самую патриархальную, самую отсталую идею безропотного повиновения жены мужу. Тому же учила девочку и ее умирающая мать, только она говорила с любовью и об обязанности любви, а этот – жестко, с угрозой, да еще в минуты, когда на девочку надвигалась непоправимая беда.








