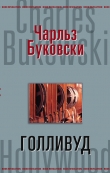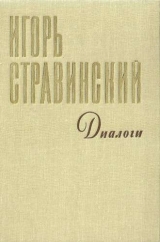
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
Р. К. За две недели до смерти Чайковского ваш отец пел в спектакле, посвященном 50-летию «Руслана и Людмилы», и на этом спектакле вы видели Чайковского в фойе. Что вы еще помните о том вечере?
И. С. Это был самый волнующий вечер в моей жизни, вдобавок все получилось совершенно неожиданно, так как у меня вовсе не было надежды пойти на спектакль; одиннадцатилетние дети редко посещали вечерние зрелища. Однако юбилейный спектакль «Руслана» был объявлен народным праздником, и мой отец, наверное, счел этот случай важным для моего воспитания. Непосредственно перёд временем отправления в театр в мою комнату ворвалась Берта, крича: «Скорее, скорее, нас тоже берут с собой». Я быстро оделся и влез в экипаж, где уселся рядом с матерью. Помню, в тот вечер Мариинский театр был роскошно декорирован, все кругом благоухало, и даже сейчас я мог бы найти свое место – в самом деле, моя память откликается на это событие с той же быстротой, с какой металлические опилки притягиваются магнитом. Спектаклю предшествовала торжественная часть; бедный Глинка, своего рода русский Россини, был обетхо– венизирован и превращен в национальный монумент. Я смотрел на сцену в перламутровый бинокль матери. В первом антракте мы вышли из ложи в небольшое фойе позади лож. Там уже прогуливалось несколько человек. Вдруг моя мать сказала: «Игорь, смотри, вон там Чайковский». Я взглянул и увидел седовласого мужчину, широкоплечего и плотного, и этот образ запечатлелся в моей памяти на всю жизнь.
После спектакля у нас дома был устроен вечер; по этому случаю бюст Глинки, стоявший на постаменте в кабинете отца, обвили гирляндой и окружили зажженными свечами. Помню также> что пили водку и провозглашали тосты: был большой ужин.
Смерть Чайковского, последовавшая через две недели, глубоко потрясла меня. Кстати, слава композитора была так велика, что когда сделалось известно, что он заболел холерой, правительство стало выпускать ежедневные бюллетени о его здоровье. (Однако знали его не все. Когда я пришел в школу и, пораженный ужасом, сообщил своим одноклассникам о смерти Чайковского, кто-то из них пожелал узнать, из какого он класса.) Помню два концерта в память Чайковского: один в консерватории под руководством Римского-Корсакова (у меня все еще хранится билет на этот концерт), другой в зале Дворянского собрания под управлением Направника – в его программу входила Патетическая симфония,

Стравинский с первой женой, Екатериной Носенко
В 1912 году

«Твой сын в Болье за сочинением «Петрушки»

а на титульном листе программы был портрет композитора в траурной рамке. (III)
Р. К. Какие личные узы связывали вас с семьей Чайковских, и почему вы стали опекать музыку Чайковского – я имею в виду ваши аранжировки «Спящей красавицы» (1921–1941 гг.), исполнение вами его сочинений, посвящение Чайковскому «Мавры» и ваш балет «Поцелуй феи»?
И. С. В благодарность за исполнение моим отцом драматической партии дьяка Мамырова в «Чародейке» Чайковский подарил ему свою фотографию с автографом, и эта фотография была самой священной реликвией в отцовском кабинете. Кстати, в письме к г-же фон Мекк от 18 октября 1887 г. Чайковский описал одно из этих исполнений «.. Лучшими певцами были Славина и Стравинский. Единодушный взрыв аплодисментов и одобрение всего зала вызвал монолог Стравинского во втором акте; его исполнение могло бы служить образцом для всех будущих исполнителей». (Славина была ведущим контральто Мариинского театра и, кроме того, большим другом моего отца. Помню, как она посещала нас, сопровождаемая таинственной и мужеподобной дамой-другом, Кочубей; фамилия эта принадлежала к такой высокой аристократии, что нечего было и думать ставить перед ней титул.) Следует упомянуть также, что когда Чайковский умер, у его смертного одра дежурили два двоюродных брата моей, матери, графы Литке, а мой отец был одним из тех, кто нес гроб композитора, и был избран для возложения венка на гроб.
Модест Чайковский, брат Петра Ильича, был поразительно похож на композитора и я, разумеется, видел в нем образ самого композитора. Меня познакомили с Модестом примерно через пятнадцать лет после смерти Петра Ильича на выставке дягилевского «Мира искусства», и в последующие годы, в особенности в Риме, в период завершения мной «Петрушки», я хорошо узнал его. Я знал также Анатолия, другого брата Чайковского, который, однако, мало походил на Петра Ильича. Мой отец и Анатолий были школьными товарищами и поэтому, когда в 1912 г., через много лет после смерти отца, я встретился с. Анатолием в Вене, он заговорил со мной о нем.
Кажется в 1912 г. Дягилев возобновил pas de deux из «Спящей красавицы» с Нижинским и Карсавиной, и четыре коротких номера, поставленные тогда, сразу же имели успех. Конечно, возобновление pas de deux трудно назвать воскрешением Чайковского, но сам я был от музыки в восторге – и удивился своему восторгу. Кстати, номера pas de deux идентичны с теми, которые я оркестровал в 1941 г. для нью-йоркского Театра Балета; правда в 1941 г. я работал только по клавиру, пользуясь подсказками своей плохой памяти; я должен быть изобретать там, где не мог вспомнить инструментовку самого Чайковского…
и симфонический антракт, предшествующий финалу того же акта: Контакт с музыкой Чайковского установился у меня в 1921 г., когда по побуждению Дягилева я содействовал возобновлению «Спящей красавицы», оркестровав два куска. Чайковский сделал после премьеры несколько купюр – некоторые по предложению Александра III. Выпущенные номера не вошли в партитуру, и Дягилев попросил меня наоркестровать их по клавиру. Это Вариации Авроры из II акта:
Контакт с музыкой Чайковского установился у меня в 1921 г., когда по побуждению Дягилева я содействовал возобновлению «Спящей красавицы», оркестровав два куска. Чайковский сделал после премьеры несколько купюр – некоторые по предложению Александра III. Выпущенные номера не вошли в партитуру, и Дягилев попросил меня наоркестровать их по клавиру. Это Вариации Авроры из II акта:
и симфонический антракт, предшествующий финалу того же акта:

Вдобавок я внес некоторые изменения в оркестрованный самим Чайковским русский танец из последнего акта. Симфонический антракт ставился как танец сновидений, исполнявшийся перед занавесом. Царю он показался скучным, и я согласен с этим, но Дягилеву этот кусок понадобился, чтобы увеличить время для перемены декораций. Работа над этими номерами, что бы я ни думал об их музыкальной ценности, вызвала во мне аппетит к сочинению «Поцелуя феи».
Мой следующий опус, одноактная опера-буфф «Мавра», посвященная «памяти Чайковского, Глинки и Пушкина», также была инспирирована возобновлением «Спящей красавицы». Эта опера близка по характеру к эпохе Чайковского и вообще к его стилю (это музыка помещиков, горожан или мелкопоместных землевладельцев, отличная от крестьянской музыки), но посвящение «Мавры» Чайковскому было также вопросом пропаганды. Своим нерусским, в особенности французским коллегам, с их туристски поверхностным восприятием ориентализма Могучей кучки, как Стасов называл «Пятерку», я хотел показать иную Россию. Я протестовал против картинности в русской музыке и выступал против тех, кто не замечал, что эта картинность, эта живописность достигаются применением весьма ограниченного набора ловких приемов. Чайковский был самым большим талантом в России и – за исключением Мусоргского – самым правдивым. Его главными достоинствами я считал изящество (в балетах; я считаю Чайковского в первую очередь балетным композитором, даже в операх) и чувство юмора (вариации животных в «Спящей красавице»; я могу определить, что такое чувство юмора в музыке только на примере, и наилучшим примером была бы пьеса «Поэт говорит» Шумана[36]36
Заключительная пьеса «Детских сцен» для фортепиано. – Ред.
[Закрыть]). Такого Чайковского я и хотел показать, но и он был осмеян как сентиментальная нелепость и, конечно, его продолжают осмеивать. (III)
Р. л. Ставили ли вы Чайковского так же высоко в бытность вашу* учеником Римского-Корсакова, как позднее, в 20-х и Зб-х гг. г
И. С. Тогда, как и позднее, меня раздражала слишком частая тривиальность музыки Чайковского, и раздражался я в той же мере, в какой наслаждался подлинной свежестью его таланта (и его изобретательностью в инструментовке), в особенности рядом с зачерствелым натурализмом и любительщиной «Пятерки» – Бородина, Римского-Корсакова, Кюи, Балакирева и Мусоргского. (I)
Мусоргский, Глинка, БалакиревР. К. Какого мнения вы были о Мусоргском в годы учения у Римского-Корсакова? Йрипоминаете ли вы что-нибудь сказанное о нем. вашим отцом? Что вы думаете о нем теперь?
И. С. Я очень немногое могу сказать о Мусоргском в связи с годами моего учения у Римского-Корсакова. В то время, находясь под влиянием учителя, который пересочинил заново почти все творения Мусоргского, я повторял то, что обычно говорилось о его «большом таланте» и «бедной технике» и о «значительных услугах», оказанных Римским его «запутанным» и «непрезентабельным» партитурам. Довольно скоро, однако, я понял пристрастность подобных суждений и изменил, свое отношение к Мусоргскому. Это было еще до того, как я вступил в контакт с французскими композиторами, которые, конечно, были горячими противниками корсаковских «транскрипций». Даже предубежденным умам становилось ясно, что произведенная Римским мейербе– ризация «технически несовершенной» музыки Мусоргского не могла быть долее терпимой.
Что касается моих личных чувств (хотя в настоящее время я мало соприкасаюсь с музыкой Мусоргского), думаю, что несмотря на ограниченные технические средства и «неуклюжее письмо», его подлинные партитуры повсюду обнаруживают бес
конечно большую музыкальную ценность и гениальную интуицию, чем «совершенные» аранжировки Римского. Мои родители говорили мне, что Мусоргский был знатоком итальянской оперной музыки и исключительно хорошо аккомпанировал певцам, исполнявшим эту музыку в концертах. Они говорили также, что Мусоргский всегда отличался церемонными манерами и в своем кругу был самым утонченным человеком. Он был частым гостем у нас дома в Санкт-Петербурге. (I)
Р. К. Вы часто дирижируете увертюрами Глинки. Всегда ли вы любили его музыку?
И. С. Глинка – музыкальный герой моего детства. Он всегда был и остается для меня безупречным. Его музыка, конечно, еще незрелая, чего нельзя сказать о нем самом: в нем – истоки всей русской музыки. В 1906 г., вскоре после моей женитьбы, я поехал с женой и с Никольским, моим профессором гражданского права в Санкт-Петербургском университете, с визитом к сестре Глинки, Людмиле Шестаковой. Старая дама 92-х или 93-х лет, окруженная слугами, почти такими же старыми, как она сама, даже не пыталась подняться со своего стула. Она была вдовой адмирала и к ней обращались «ваше превосходительство». Меня взволновала встреча с ней, человеком, который был очень близок Глинке. Она говорила со мной о Глинке, о моем отце, которого очень хорошо знала, о кружке Кюи – Даргомыжского и о его неистовом антивагнеризме. Впоследствии она прислала мне серебряный листок эдельвейса в память о моем посещении. (I)
Р. К. Встречались ли вы когда-нибудь с Балакиревым?
И. С. Я видел его однажды стоящим со своим учеником, Ляпуновым, на концерте в Санкт-Петербургской консерватории. Это был массивный человек, лысый, с калмыцкой головой и пронизывающим взглядом… В то время им не очень восхищались как музыкантом. Это было в 1904 или 1905 г., и его политическую ортодоксальность либералы считали лицемерием. Репутацию Ба– лакирева-пианиста прочно утвердили его многочисленные ученики; – все они, как и он сам, были страстными листианцами. У Римского-Корсакова над столом висел портрет Вагнера, у Балакирева же портрет Листа. Я жалел Балакирева, так как он страдал от приступов жестокой депрессии. (I)
РепертуарР. К. Вы часто упоминаете о санкт-петербургских концертах «Вечера современной музыки». Какую музыку вы там слышали?
И. С. Прежде всего, свою собственную. Николай Рихтер играл там мою раннюю фортепианную Сонату – первое мое сочинение, исполненное публично. Полагаю, то было неудачное подражание позднему Бетховену. Я сам выступал там аккомпаниатором одной певицы, некоей г-жи Петренко, исполнявшей мои романсы на слова Городецкого. Преобладали, конечно, произведения русских композиторов, но исполнялась и французская музыка – квартеты и романсы Дебюсси и Равеля, различные сочинения Дюка и д’ Энди. Исполняли также Брамса и Регера. Подобно «Понедельничным вечерним концертам» в Лос-Анжелосе, эти петербургские концерты, несмотря на название, пытались создать конкуренцию между новой музыкой и старой. Это было очень важно и мало где делалось: так много организаций занимается новой музыкой и так мало – написанной столетиями до Баха. Я впервые услышал там Монтеверди (думаю, что в аранжировке д’Энди), Куперена и Монтеклера; а произведения Баха исполнялись в большом количестве.
Люди, которых я встречал на этих концертах, также в большой мере способствовали возбуждаемому ими интересу. Там бывали композиторы, поэты и артисты Петербурга, а также интеллигенты-любители вроде моих друзей Ивана Покровского и Степана Митусова, которые были всегда в курсе художественных новинок Берлина и Парижа. (II)
Р. К. Бывали ли в Санкт-Петербурге симфонические концерты с программами «передовой» музыки?
И. С. Нет, программы симфонического оркестра РМО во многом походили на современные программы американских оркестров: стандартный репертуар, и, время от времени, второсортное произведение местного композитора. Симфонии Брукнера и Брамса все еще считались новой музыкой и потому исполнялись очень редко и очень робко. Более интересными были Беляевские «концерты русской симфонической музыки», но они слишком концентрировались на русской «Пятерке». Кстати сказать, я знал Беляева и встречался с ним на концертах. Это был выдающийся музыкальный меценат своего времени – своего рода русский Рокфеллер, – игравший на скрипке.[37]37
Беляев играл на скрипке и на альте; в квартетных ансамблях участвовал как альтист. – Ред.
[Закрыть]Беляевское издательство в Лейпциге напечатало моего «Фавна и пастушку», вероятно по совету Римского, поскольку Глазунов, другой его советчик, не рекомендовал бы эту вещь. Однажды я видел, как Беляев встал в своей ложе – он был высокого роста, с артистической шевелюрой – и удивленно уставился на Кусевицкого, который вышел со своим контрабасом, собираясь играть соло. Беляев повернулся ко мне и сказал: «До сих пор. такие вещи можно было видеть только в цирке». (II)
Р. К. Каков был репертуар, концертный и оперный в Санкт– Петербурге, когда вы жили там и, в частности, что вы слышали из таких новых композиторов, как Штраус, Малер, Дебюсси, Равель?
И. С. С музыкой Штрауса я познакомился впервые по «Жизни героя» в 1904 или 1905 г., в следующем году в Санкт-Петербурге были исполнены «Заратустра», «Тиль Эйленшпигель» и «Смерть и просветление», но ознакомление в обратном порядке уничтожило во мне всякую симпатию, которую могли возбудить эти сочинения. Напыщенность и высокопарность «Жизни героя» послужили мне лишь в качестве рвотного. Я слышал «Садомею» и «Электру» в Лондоне в 1912 г., под управлением самого Штрауса, но других его опер я не видел до окончания войны, после чего попал в Германию на «Кавалера роз» и «Ариадну». Я восхищался музыкальными заклинаниями истерической Валькирии – Электры, далеко не восхищаясь самой музыкой. (Имею в виду музыку, выражающую приподнятость настроения Электры непосредственно перед выходом Хризотемиды и далее, при ее возгласе «Орест, Орест».) Я воздаю должное сценичности всех знакомых мне одер Штрауса (пожалуй, особенно «Каприччио»[38]38
Фуга смеха в «Каприччио» и Итальянский дуэт, предшествующий фуге, мне нравятся больше всего остального у Штрауса. Хор слуг ближе к концу на протяжении нескольких тактов также довольно приятен – хотя у Верди подобного рода места получаются в тысячу раз лучше, а сравнение с Верди заставляет понять, до какой степени «Каприччио» является эпигонской оперой. Мое главное критическое замечание цо адресу «Каприччио» сводится к тому, что ее музыка меня шокирует. Штраус не знает, когда или как акцентировать. Его мускулатура безмерна.
[Закрыть]), но мне не нравится их слащавость и, полагаю, я прав, отрицая какую-либо роль Штрауса в моем музыкальном становлении. Малер дирижировал в Санкт– Петербурге своей Пятой симфонией. Сам он произвел на меня большое впечатление. Из его симфонических произведений я до сих пор предпочитаю Четвертую симфонию. В десятилетие до «Жар-птицы» Дебюсси и Равеля в Санкт-Петербурге исполняли редко, и все, что исполнялось, обязано усилиям Александра Зи– лоти,[39]39
Зилоти – благородный и симпатичный человек крымского или генуэзского происхождения. Я чрезвычайно благодарен ему за старания в исполнении моих сочинений в России до и после революции. (Зилоти – уроженец Харькова. – Ред.)
[Закрыть]поборника новой музыки, заслуживающего того, чтобы его не предали забвению; это Зилоти вызвал Шёнберга для дирижирования в Санкт-Петербурге в 1912 г. его «Пеллеасом и Мели– зандой». Исполнение Зилоти «Ноктюрнов» й «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси было одним из самых значительных событий моей молодости. «Послеполуденный отдых фавна» исполнялся под улюлюканье, свист и смех, но это не уничтожило эффекта прелестного соло флейты, длинной паузы, арпеджий арфы, звучания валторн, в особенности после всей этой шумной, послевагнеровской музыки. Удивительно, что «Море» я услышал впервые только в 1911 или 1912 г. (в Париже, кажется, под управлением Монтё). (Помню, как во время перерыва Дебюсси рассказывал о первом исполнении «Моря». Он говорил, что скрипачи на репетициях привязали к концам смычков носовые платки в знак насмешки и протеста.) В петербургский период я был очень слабо знаком с фортепианной и вокальной музыкой Дебюсси. Фортепианные сочинения Равеля пользовались большей известностью – и не только фортепианные. Многие музыканты моего поколения смотрели на «Испанскую рапсодию», также исполненную под управлением Зилоти, как на dernier cri[40]40
последний крик моды (фр.)
[Закрыть]по тонкости гармонии и блеску оркестровки (теперь это кажется невероятным). Однако ни Равель, ни Малер, ни Дебюсси, ни Штраус не казались такой квинтэссенцией передовой музыки, как наш местный гений, Александр Скрябин. «Божественная поэма», «Прометей», «Поэма экстаза» – эти тяжелые случаи музыкальной эмфиземы – и наиболее интересная Седьмая соната, считались столь же современными, как парижское метро.
Но концерты, на которых звучала такого рода новаторская музыка, были большой редкостью. «Новой музыкой», которой нас угощали более регулярно, были симфонии и симфонические поэмы Венсана д’Энди, Сен-Санса, Шоссона, Франка, Бизе. В области камерной музыки из. «современных» французских композиторов чаще всего исполняли Русселя и Форе. С Русселем я познакомился позднее, на спектакле «Жар-птицы», и с того времени до самой его смерти мы оставались друзьями. С Форе я познакомился во времена исполнения его «Пенелопы», которую слышал в мае 1913 г., незадолго до премьеры «Весны священной». Равель представил меня ему на концерте в зале Гаво. Я увидел седого, глухого старика с очень милым лицом – в самом деле, за мягкость и простоту его сравнивали с Брукнером.
Репертуар петербургских оркестров того времени был удручающе ограниченным. Классическим было исполнение симфонических поэм Листа, Раффа и Сметаны, увертюр Литольфа («Максимилиан Робеспьер»), Берлиоза, Мендельсона, Вебера, Амбруаза Тома, концертов Шопена, Грига, Бруха, Вьетана, Венявского. Конечно, играли Гайдна, Моцарта, Бетховена, но играли плохо, причем снова и снова одни и те же немногие вещи. Мне не пришлось слышать в России многих симфоний Гайдна, которыми я наслаждаюсь ныне, или Серенады для духовых инструментов Моцарта и до-минорной Мессы (к примеру); список исполнявшихся симфоний Моцарта фактически сводился к одним и тем же трем симфониям. Симфонии более поздних композиторов, Брамса или Брукнера, исполнялись раз в двенадцать реже «Антара» Римского– Корсакова или Второй симфонии Бородина. (С сочинениями Брукнера я познакомился в раннем возрасте, проигрывая их в четыре руки с моим дядей Елачичем, но так и не научился любить их.[41]41
Я и теперь не научился любить Брукнера, но пришел к тому, что стал уважать его. Я считаю, что Адажио из Девятой симфоний должно расцениваться как один из истинно вдохновенных образцов симфонической музыки. В самом деле, Малер представляется гораздо менее самобытным, чем Брукнер, когда узнаешь его, и никто из его современников не трактовал гармонию столь самобытно и индивидуально, как Брукнер.
[Закрыть])
Оперные спектакли в Санкт-Петербурге стояли иногда на высоком уровне, и оперный сезон был намного интереснее симфонического, но, хотя я и слышал в Санкт-Петербурге «Свадьбу Фигаро» и «Дон-Жуана», я не слышал ни одной ноты из «Похищения из сераля», «Так поступают все» и «Волшебной флейты». Кроме того, «Дон-Жуан» исполнялся плохо, да и вообще исполнение опер Моцарта захватило меня лишь много позднее, а именно, когда я услышал в Праге «Свадьбу Фигаро» под управлением Александра Цемлинского. Из опер Россини я знал только «Севильского цирюльника». Мой отец часто пел Геслера в «Вильгельме Телле», но я не слышал эту оперу в России (или где-либо в другом месте до 30-х гг., когда ее поставили в Париже, примерно в одно время с «Итальянкой в Алжире», в которой пела Супер– вия). Во времена моей юности из опер Беллини в Санкт-Петербурге исполнялась «Норма», а из Доницетти только «Лючия» и «Дон Паскуале»; однако я вспомнил соло трубы из «Дон Паску– але» – из такого далекого прошлого! – когда писал «Похождения повесы». Я продолжаю считать, что музыкой Доницетти напрасно пренебрегали, так как в лучшем, что он создал – последняя сцена из «Анны Болейн», – он стоит на той же высоте, что и Верди в лучших своих сочинениях того времени. Из опер Верди исполнялись «Травиата», «Трубадур», «Риголетто», «Аида» и– что было
особой удачей – «Отелло», но, разумеется, не «Фальстаф», не «Дон Карлос», не «Бал-маскарад» и не «Сила судьбы». В Санкт– Петербурге Верди всегда служил темой для дискуссий. Чайковский восхищался им, кружок Римского – нет. Когда я как-то в беседе с Римским отозвался о Верди < с восхищением, он посмотрел на меня так, как посмотрел бы Булез, если бы я предложил ему исполнить мои Балетные сцены в Дармштадте. Ни одна из перечисленных опер, однако, не была так популярна, как «Виндзорские проказницы» Николаи (я неоднократно слышал отца в этой опере), «Манон» Массне (много лет спустя Дебюсси удивил меня, защищая это кондитерское изделие), а также «Проданная невеста», «Волшебный стрелок», «Кармен», «Фауст» Гуно, Cav и Pag,[42]42
Шутливое сокращение названий популярных опер – «Cavalleria rusti– сапа» («Сельская честь») П. Масканьи и «I Pagliacei» («Паяцы») Р. Леонкавалло. – Ред.
[Закрыть]и эти монументы Виктора Эммануила II в музыке – «Гугеноты», «Африканка» и «Пророк». Оперы Вагнера (за исключением «Парсифаля»,[43]43
Однако я знал «Парсифаля» по партитуре, и он оказывал на меня влияние до 1908 г. – медленный раздел из моего Фантастического скерцо базируется на музыке Страстной пятницы. Я слышал «Парсифаля» в Байрейте в 1911 г. и в Монако в середине 20-х гг.
[Закрыть]исполнявшегося в то время только в Байрейте), конечно, ставились и пелись по-русски. Могу добавить, что «Тристан» был любимой оперой Николая II. Кто знает почему? Об этом странном пристрастии царя я слышал также от брата царицы на обеде в Майнце в 1931 или 1932 г.
Но более яркими и волнующими были постановки опер русской школы: на первом месте в этом отношении стояли оперы Глинки, а также Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина и Мусоргского. Разумеется, я много раз слышал «Бориса»,[44]44
Какое-то влияние «Бориса» ощущается и в моей первой опере, в сцене смерти императора – лучшей сцене «Соловья», – тогда как лучшими по музыке являются ария Смерти и Колыбельная в фольклорном духе. «Соловей», вероятно, показывает, что я был прав, сочиняя балеты, и что я еще не был готов для сочинения оперы, несмотря на такие зародыши, как замысел мужского дуэта (Камергер и Бонза), разработанный мной позднее в. «Байке», «Эдипе», «Canticum Sacrum», Threni; фигура шестнадцатыми в интерлюдии к арии Рыбака в конце I акта – это чистейшая музыка из «Поцелуя феи».
[Закрыть]но не в подлинной версии. Следующим по популярности шел «Князь Игорь» (между прочим, Бородин был большим другом моего отца). Из опер Чайковского отчетливее всего запомнились постановки «Евгения Онегина», «Черевичек» и «Пиковой дамы», последняя, однако, лучше шла под управлением Фрица Буша в Дрездене в 20-х гг. Должно быть, я видел все оперы
Римского. Во всяком случае, я помню, что видел «Садко», «Младу», «Снегурочку», «Моцарта и Сальери», «Ночь перед рождеством», «Китеж», «Царя Салтана», «Пана воеводу» и «Золотого петушка». Некоторые части «Золотого петушка», прослушанные ранее, все еще живы в моей памяти, так как всему этому я внимал бок о бок с Римским. «Золотой петушок» стал знаменем студентов и либералов, так как он несколько раз подвергался запрещениям царской цензуры; когда в конце концов его поставили, то это произошло не в Мариинском театре, а в частном театре на Невском проспекте. Римский не выказывал никакого интереса к политической стороне дела, тем не менее он, конечно, придавал этому значение.
Особой чертой музыкальной жизни Санкт-Петербурга было закрытие театров на время великого поста, и тогда наступал сезон ораторий; великий пост и оратории стоят друг друга. «Осуждение Фауста» Берлиоза, «Св. Павел» Мендельсона, «Пери» Шумана, Реквием Брамса, «Времена года» и «Сотворение мира» Гайдна исполнялись из года в год. (Я был удивлен и разочарован, присутствуя недавно на исполнении «Сотворения мира» в Лос-Анже– лосе, невзирая на хоры, предвосхитившие «Фиделио», и неизменную ясность музыки. Справиться с композиционной монотонней – ограниченностью произведений этого типа – и пустотой старого искусства, стремившегося к грандиозности, было не под силу даже Гайдну.) Из исполнявшихся ораторий Генделя лучше всего я помню «Мессию» и «Иуду Маккавея». (Репутация Генделя также представляется мне загадкой, и совсем недавно, прослушав «Валтасара», я думал о нем. Конечно, в исполнении «Валтасара» было много недостатков, главным образом в том, что существовало всего лишь два темпа – один быстрый и один медленный. Но помимо исцолцения, сама музыка основана на одном и том же характере изложения типа фугато, на одном и том же полукруге тональностей, на одних и тех же ограниченного диапазона гармониях. Когда кусок начинается с более интересной хроматической темы, Гендель отказывается развивать ее; как только вступили все голоса, в каждом эпизоде начинает царить однообразие и в гармонии и во всем остальном. За два часа музыки я воспринял только ее стиль; ни разу мне не встретились те изумительные встряски, внезапные модуляции, неожиданные изменения гармонии, ложные кадансы, которые восторгают в каждой кантате Баха. Изобретения Генделя внешнего порядка; он может вести рисунок, черпая из неистощимого резервуара allegro и largo, но он не умеет проводить музыкальную мысль сквозь разработку нарастающей интенсивности.) Единственной крупной вещью Баха, слышанной мной в Санкт-Петербурге, было однократное исполнение «Страстей по Матфею».
Конечно, этот каталог музыкальной жизни Санкт-Петербурга неполон, но и Дополненный, он не был бы менее угнетающим. Примечательны некоторые пробелы. Я неоднократно слышал «Хензель и Гретель» Гумпердинка, но ни разу бетховенского «Фиделио». Популярным был «Князь Игорь», а «Волшебная флейта» не ставилась вовсе. В наших концертах исполнялись Григ, Синдинг и Свенсен, но лишь три или четыре из симфоний Гайдна. Часто фигурировали в программах концертов «Lobge– sang» Мендельсона и «Св. Елизавета» Листа, а баховские «Страсти по Иоанну» и «Траурная ода» совсем не исполнялись. Мой кругозор в детстве расширялся благодаря поездкам в Германию, но преимущественно в области легкой музыки; помню, например, спектакли «Летучая мышь» и «Цыганский барон» во Франкфурте, на которые меня повел мой Дядя Елачич на десятом году моей жизни, но лишь начиная с моих поездок с Дягилевым я получил возможность услышать разные новые сочинения, и за один год под его неизменным страстно-пытливым покровительством я увидел и услышал больше, чем за десятилетие в Санкт-Петербурге. (Кстати, Дягилев был любителем Джил– берта и Салливена, и во время наших довоенных поездок в Лондон мы вместе пробирались на оперетты «The Pirates of Penzance», «Patience», «Iolanthe» и проч.).
Мое первое замечание к этому списку можно выразить так – plus que?а change, plus c’est la тёше chose,[45]45
чем больше это меняется, тем более остается тем же самым (фр.)г
[Закрыть]основная линия репертуара и поныне все та же, хотя содержание его слегка изменилось.[46]46
Я сожалею об обыкновении давать раздельно программы новой и старой музыки и сам, по возможности, исполняю в своих концертах музыку разных периодов. По-моему, «Vespro» и «Коронация Поппеи» Монтеверди должны были бы исполняться бок о бок с Серенадой Шёнберга; «Рождественскую ораторию» Шютра следовало бы слушать вместе с Камерным концертом Берга, Мессу Чиприано Praeter rerum seriem или Праздничную «Мессу к коронации Винченцо Гонзага» Верта с хорами Крженека на слова Кафки; «Ацис» Генделя или Гимны Мартида Пирсона (О God That No Time Doest Despise) вместе с органной Messe de la Penitence Мессиана; сочинения Свелинка, Букстехуде, Бёрда вместе с «Differences» Берио или Кларнетным квинтетом Брамса, «Мотеты Марии» Таллиса и. Missa Cuiusvis toni Окегема с моими «Проповедью, Притчей и Молитвой».
[Закрыть]Во-вторых, мои самые ценные контакты с новой музыкой всегда были случайными и возникали в чужих странах – например, «Лунного Пьеро» я слышал в Берлине, хотя справедливости ради скажу, что во время моего десятилетнего пребывания в Швейцарии я никакой интересной новой музыки не слышал, и очень мало слышал позднее в Париже. (Я не попал на парижскую премьеру Пяти пьес для оркестра Шёнберга в 1922 г. и на его впервые исполненную там же в 1927 г. Сюиту для септета опус 29.) И если я видел в Берлине первое представление «Трехгрошовой оперы» Вейля, то лишь потому, что случайно оказался там в то время;[47]47
На этом спектакле я встретился с Вейлем; знакомство с ним упрочилось позднее в Париже, в период камерного исполнения у виконтессы де Ноай «Mahagonny» и «Der Jasager», я был восхищен обеими вещами. Я видел также Вейля в Голливуде во время войны и поднялся на сцену, чтобы поздравить его после премьеры «Lady in the Dark».
[Закрыть]«Воццека» же. я не видел вплоть до 1952 г.
Но, сравнивая музыкальную жизнь времен моей молодости с теперешней, когда грамзаписи новой музыки выпускаются уже через несколько месяцев после окончания сочинения, и весь музыкальный репертуар находится в пределах досягаемости, я думаю о своем прошлом без сожаления. Ограниченные впечатления, полученные мной в Санкт-Петербурге, были, тем не менее, непосредственными впечатлениями, и это делало их особенно ценными. Сидя в темноте зала Мариинского театра, я видел, слышал и судил вещи, полученные из первых рук, и мои впечатления были неизгладимыми. И вообще Санкт-Петербург в продолжение двух десятилетий до «Жар-птицы» был городом, жить в котором было захватывающе интересно. (III)