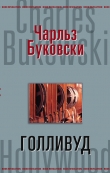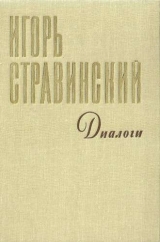
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
Часть третья. Мысли о музыке
Общие вопросы
«Выразительность» музыкиР. К. Вы говорили: «Музыка это абстрактность», «музыка вообще бессильна что-либо выразить». Что вы хотели сказать этой часто цитируемой фразой? Разве вы не согласны с тем, что музыка является коммуникативным искусством в смысле кассиреровских символических форм и поэтому искусством чисто выразительным?
И. С. Это чересчур разрекламированное попутное замечание о выразительности (или ее отрицание) было просто способом утверждения того, что музыка сверхлична и сверхреальна и, как таковая, находится за пределами словесных разъяснений и описаний. Я возражал против обычая рассматривать музыкальное произведение как трансцендентальную идею, «выраженную на языке музыки», обычая, исходящего из абсурдного предрассудка о том, что между ощущениями композитора и музыкальной нотацией существует система точных корреляционных зависимостей. Мое замечание было сделано экспромтом, и оно досадно несовершенно, но даже глупейший из критиков мог бы понять, что оно отрицает не музыкальную выразительность, а лишь ценность известного рода заявлений о ней. Я подтверждаю свою мысль, хотя теперь я сформулировал бы ее иначе: музыка выражает самое себя. Произведение действительно воплощает чувства композитора и, конечно, может рассматриваться как их выражение или символизация, хотя композитор и не делает этого сознательно. Более важен тот факт, что произведение является чем-то совершенно новым и иным по отношению к тому, что может быть названо чувствами композитора. И, раз уже вы упомянули Кассирера, не говорил ли он где-то, что искусство – это не имитация, а открытие реальности? Что ж, и я возражаю тем музыкальным критикам, которые ориентируются на подражание реальности, тогда как должны были бы учить нас понимать и любить новую реальность. Каждое новое музыкальное произведение – это новая реальность. На другом уровне музыкальное сочинение, конечно же, может быть «прекрасным», «религиозным», «поэтичным», «сладким» или снабжаться таким количеством иных эпитетов, какие только в состоянии подобрать слушатели. Очень хорошо. Но утверждать, что композитор «стремится выразить» эмоцию, которую потом некто снабжает словесным описанием, значит унижать достоинство и слов и музыкр.
(Недавно проблема «выразительности» получила новую заманчивую постановку, например, в книге Осгуда «Измерения смысла». Суть ее в том, что мы стремимся располагать все эпитеты на «структурной матрице» (structured matrix), связанной некоторыми простыми основными величинами или противоположностями. Статистический анализ показывает, например, что люди сходятся в определении выразительных качеств музыкального произведения на основе размерности исходного общего представления, подбирая словесные характеристики по нарастающей шкале контрастирующих прилагательных. Мы вынуждены выбирать подходящие определения, когда ни одно из них не является очевидным, но суть в том, что согласно статистическому анализу мы сходимся относительно некоторых поразительных свойств музыки. По методу Осгуда весьма возможно прийти к выводу, что вступление к «Парсифалю» скорее «синее», чем «зеленое».)
Р. К. Вопрос о формах и смыслах…
И. С. Простите, что прерву вас, но мне хотелось бы напомнить вам, что композиторы и художники не мыслят понятиями; то, что Пикассо или Стравинский могут сказать о живописи или музыке, не представляет какого-либо значения с этой точки зрения (хотя мы в самом деле любим общие рассуждения). Работа композитора – это процесс восприятия, а не осмысления. Он схватывает, отбирает, комбинирует, но до конца не отдает себе отчета в том, когда именно смыслы различного рода и значения возникают в его сочинении. Всё, что он знает и о чем заботится, это уловить очертания формы, так как форма это все. Он абсолютно ничего не может сказать о смысле. Как говорит французский дворянин в комедии Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается»: «Возможно ли, чтобы он знал, каков он…»
Р. К. Еще вопрос о качественных суждениях…
И. С. Еще раз простите меня, пожалуйста, но это тоже дело ^ не композиторов, а эстетиков. Поверьте, профессиональные эстетики никогда не достигали цели, их реально действующие законы – это всегда законы моды или вкуса. Разумеется, не того настоящего вкуса, которым обладал Дягилев, и который Эдуард Фицджералд называл «гением женского рода». История искусства, конечно, приобретает больший интерес благодаря этим отнюдь не произвольным изменениям моды; однако, как бы то ни было, не похоже,
чтобы эстетики когда-нибудь покорили индивидуальное «я предпочитаю. .)> Одно музыкальное произведение считают выше другого по разным причинам: оно может быть «богаче по содержанию», более глубоко трогающим, утонченнее по музыкальному языку и т. д. Однако все эти утверждения количественного порядка, иначе говоря, они не касаются сущности или истины. Одно произведение может быть выше другого только по качеству вызываемых ощущений, но те «безупречные конструкции», которые призваны сильнее захватить слушателя (снова количественный признак), сами по себе отнюдь не доляшы сбрасываться со счетов. (Здесь следуют прилагательные, которых я не могу подобрать, и которые я не употребил бы, если бы и смог). (III)
О критикеР. К. Что вы имеете в виду, говоря, что критики некомпетентны?
И. С. Я считаю, что они недостаточно осведомлены даже для того, чтобы судить о грамматической правильности музыкального письма. Они не видят, как построена данная музыкальная фраза, не знают, как написана музыка; они не сведущи в технических вопросах современного музыкального языка. Критики дезориентируют публику и тормозят ее понимание. По их вине многие ценные вещи доходят слишком поздно. А как часто мы читаем отзывы на первое исполнение нового музыкального произведения, в которых критики хвалят или осуждают (по большей части хвалят) исполнение. Исполнение относится к чему-то; оно не существует абстрактно, отдельно от музыки, которую демонстрирует. Откуда же критик может знать, хорошо или плохо исполнено неизвестное ему сочинение? (I)
Р. К. Что означает в вашем понимании «гений»?
И. С. Строго говоря, это жалкое понятие, а в литературе расхожее слово, употребляемое. людьми, которые не заслуживает того, чтобы с ними спорили. Я буквально ненавижу его и испытываю мучения, натыкаясь на него в жизнеописаниях. Если оно еще не появилось в толковом словаре, то должно было бы фигурировать там со знаком равенства: «Микеланджело» и «Бетховен». (Г) Р. К. Что вы понимаете под «искренностью»?
И. С. Это непременное условие, которое тем не менее ничего не обеспечивает. В большинстве своем художники так или иначе искренни, но бблыпую часть в их творчестве составляют плохие произведения, и в то же время некоторые «неискренние» произведения искусства (искренне неискренние) бесспорно хороши.
Вера в свою искренность не так опасна, как убеждение в собственной правоте. Нам всем кажется, что мы правы, но то же самое нам казалось и двадцать лет тому назад, а сегодня знаем, что тогда не всегда бывали правы. (I)
Р. К. Считаете ли вы, что в настоящее время существует опасность новаторства ради новаторства?
И. С. Настоящей опасности нет. Однако некоторые фестивали современной музыки по существу своему не могут не поощрять такое новаторство. И путем извращенного толкования традиции некоторые критики тоже поощряют его. Прежнего положения, при котором консервативные и академические критики высмеивали композиторские новшества, более не существует. Теперь композиторы не поспевают за запросами некоторых критиков, требующих «сделать по-новому». Новшества иногда оказываются такими, что не могут дважды показаться кому-либо интересными. К одобрительной критике я отношусь с большей настороженностью, чем к неодобрительной, ибо первая часто исходит от тех лиц, которые приветствуют из принципа то, до чего, вероятно, не могут дойти собственным слухом и пониманием. Все это музыкальная политика, а не музыка. Критики, как и композиторы, должны были бы знать, что они любят. Все остальное – позерство и пропаганда или то, что Д. Г. Лоуренс называет «would-be».[181]181
притворство (англ).
[Закрыть](I)
Р. К. Составили ли вы себе законченный взгляд на традицию, придаете ли вы какой-либо особый смысл этому понятию?
И. С. Нет, я просто очень осторожен в употреблении этого слова, так как оно теперь обычно служит синонимом «того, что похоже на прошлое» – кстати сказать, именно по этой причине ни один хороший художник не бывает доволен, когда его работу называют «традиционной». В самом деле, произведение, закладывающее фундамент подлинной традиции, может совсем не походить на музыку прошлого, особенйо ближайшего прошлого, какую только и может слушать большинство людей. Традиция – понятие родовое; она не просто «передается» от отцов к детям, но претерпевает жизненный процесс: рождается, растет, достигает зрелости, идет на спад, и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии. «Наше наследство оставлено нам не по завещанию» (Рене Шар). Я думаю, это правда. Однако, в то же время, художник чувствует свое «наследство» как хватку очень крепких щипцов. (И)
Р. К. Что такое академизм в музыке?
И. С. Академизм возникает вследствие изменения взгляда на правила, но не их самих. Композитор-академист поэтому ориен– тируется больше на старые правила, чем на новую реальность, хотя под «правилом» я подразумеваю нечто более близкое к «принципу»; правило в простом смысле этого слова означает всего лишь подчиненность в подражательных упражнениях.
Если настоящая цель академизма это – как мне представляется – знание само по себе, то в академическом смысле я знаю очень мало. Всю свою жизнь я имел дело со звуком, но мне неизвестны теоретические воззрения на звук (однажды я попробовал читать «Теорию звука» Рейли, но не смог проследить ход самого простого математического рассуждения). Мое знание – это активность. Я получаю его, когда работаю, и только получая, обладаю им, но совсем по-разному в начале и после работы.
Р. К. Что по-вашему означает слово «созидание»?
И. С. Ничего не означает. Это слово было уже сильно перегружено значениями, когда психологи сделали его ходовым термином, обозначающим всего лишь какое-либо изменение в методе действий: выписывание детьми каракулей не является «творческим актом», как и, вопреки мнению Фрейда, действие нашего кишечника, поскольку он действует и у животных, а животные не могут творить. Слово, означавшее для Колриджа благороднейший процесс, совершаемый в воображении, сейчас ужасающе дискредитировано. Только Бог может творить. (II)
Р. К. А «современный» («modern»)?
И. С. Я считаю, что единственный смысл, который можно теперь вкладывать в слово «современный», должен быть (по крайней мере, мне так кажется) чем-то подобным понятию devotio moderna Фомы Кемпийского. Под ним подразумеваются новые склонности, новые эмоции, новые ощущения. Оно, конечно, «романтично», поскольку предполагает страдание от невозможности принять мир таким, каков он есть (а страдание, между про– ' чим, источник пафоса). «Современный» в таком понимании не сводится к стилю и не подчеркивает его новизну, хотя новый стиль, как и его новаторские черты, разумеется, входят в это понятие.
Такое понимание отстоит очень далеко от общепринятых ассоциаций, связывающих с этим словом все новейшее и шокирующее в мире изощренной аморальности. Однажды меня познакомили с кем-то со словами: «Его «Весна священная» ужасно современная»; «ужасно» означало, конечно, «очень». И фраза Шёнберга – «Моя музыка не является современной, просто ее плохо играют» – исходит из того же общепринятого толкования этого слова, хотя сам Шёнберг, как я считаю, настоящий, архитипич– ный «современный» композитор. (И)
Р. К. Почему вы никогда не занимались педагогикой?
И. С. У меня очень мало способностей и нет никакой склонности к педагогике; полагаю, что ученики, которых стоило бы учить, стали бы композиторами как с моей помощью, так и без нее (хотя я не уверен, что сказал бы то же самое о Берге и Веберне в связи с Шёнбергом). Природная интуиция заставляет меня пересочинять не только работы учеников, но и произведения старых мастеров. Когда мне. показывают сочинения, чтобы я подверг их критике, я могу сказать одно: я написал бы их совсем по-другому. Что бы ни возбуждало мой интерес, что бы я ни любил, я хотел бы все переделать на свой лад (может быть, я описываю редкую форму клептомании?). И все же я жалею об отсутствии у меня педагогических способностей и преисполнен благоговения перед Хиндемитом, Крженеком, Сешенсом, Мессианом л теми немногими композиторами, которые обладают этим даром. (И)
Значение теорииР. К. Какую роль в сочинении музыки играет теория?
И. С. Ретроспективную (Hindsight). Практически никакой. Есть сочинения, из которых она извлечена. Или, если это не совсем верно, она существует как побочный продукт, бессильный создавать или даже оправдать созданное. Тем не менее, музыкальное творчество включает в себя глубокую интуицию «теории». (I)
Р. К. Как вы думаете, какое влияние на ваше искусство могло бы иметь развитие теории информации?
И. С. Я всегда интересовался теорией игр (фактически, с чтения Кардано в детстве), но это не имело никакого значения для меня как композитора и не помогало мне даже в Лас Вегас.! Я понимаю, что выбор – это чисто математическая идея, и что я должен искать процесс, приводящий к нему, поднимаясь над частным образцом (хотя бы частный образец был для меня единственно важной вещью). Я допускаю даже, что действительно всеобщая теория информации сможет объяснить сущность «вдохновения» (или, во всяком случае, представить его компоненты в виде уравнения) и почти все, связанное с процессом музыкальной композиции. Я верю, что эти разъяснения могли бы просветить меня, но еще более уверен в том, что они не помогли бы мне сочинять музыку. Я не рационалист, и такие вопросы мало интересуют меня.
Заимствую пример из Г. Е. Мура – «Я не понимаю, каким образом вы сможете объяснить кому-либо, кто этого не знает, что такое „желтое"», и я не вижу способа объяснить, почему я выбрал данную ноту, если услышавший ’ ее не знает уже, почему он слышит именно ее. (II)
Р. К* Мне приходилось слышать ваше утверждение о сходстве музыки и математики. Не объясните ли вы свою мысль?
И. С. Разумеется, не мое дело «утверждать» что-либо подобное, поскольку я не имею отношения к математике и не способен дать определение «сходству»; все, что бы я ни сказал, будет чистейшей догадкой. Тем не менее, я «знаю», что и музыканты и математики работают на основе предчувствий, догадок и прецедентов; что и у тех и у других открытия никогда не бывают чисто логическими (возможно, что логическое вообще не в них) и что эти открытия сходным образом абстрактны. Я «знаю» также, что музыка и математика одинаково не способны доказать свою собственную обоснованность, «сходным образом» не умеют различать общее и частное и «сходным образом» зависят скорее от эстетического, нежели от практического критерия. Наконец, я «сознаю», что обе являются скорее допущениями, чем истинами – свойство, обычно неправильно понимаемое как произвольность.
Другие «сходства» могут быть сформулированы в более конкретных выражениях – например, в сравнении математической и музыкальной концепций «упорядоченной системы» или в необходимости элемента тождества (элемент формы, который не меняет других элементов и при сочетаниях с ними не меняется сам). Я лишь сообщаю – хотя и не могу проверить этого, – что композиторы уже претендуют на открытие приложения к музыке теории решений, теории математических групп, идеи «формы» в алгебраической топологии. Математики, йесомненно, сочтут все эти рассуждения весьма наивными и будут правы, но я нахожу, что любое исследование, наивно оно или нет, представляет ценность хотя бы потому, что оно должно привести к постановке больших вопросов – фактически, к возможной математической формулировке теории музыки и, в конечном счете, к эмпирическому изучению музыкальных явлений как образцов искусства комбинирования, которое и есть композиция.
Но как бы ни расценивали музыканты подобный процесс, они не могут пренебречь тем фактом, что математика дает им новые орудия конструирования и расчета. Конечно, музыкант должен был бы остерегаться науки, так как наука всегда нейтральна и, как мудро сказал Е. X. Гомбрих, «художник будет прибегать к ее находкам на свой страх и риск». Но музыкант мог бы увидеть в математике дружественную науку, подспорье, столь же полезное для него, как для поэта овладение другим языком.[182]182
Мне кажется, что каждый композитор сегодня получил бы столько же удовольствия, сколько получил я от классической вещи У. С. Эндрю «Волшебные квадраты и кубы», на которую обратил мое внимание м-р Милтон Беббит. Род шуточной песни, часто на слоги, лишенные смысла, иногда исполняемые говорком.
[Закрыть]
Недавно я натолкнулся на два высказывания математика Мор– стона Морса, определившего «сходство» музыки и математики гораздо лучше, чем я бы мог это сделать. М-р Морс занимается только математикой, но его высказывания определяют искусство музыкальной композиции гораздо точнее, чем любые утверждения, которые мне случалось слышать от музыкантов: «Математика является результатом действия таинственных сил, которых никто не понимает и в которых важную роль играет бессознательное постижение красоты. Из бесконечности решений математик выбирает одно за его красоту, а затем низводит его на землю». (III)
Переводы текстовР. К. Ни один из композиторов не проявлял большего, чем вы, интереса ц проблемам перевода вокальных текстов. Не скажете ли вы что-либо по этому вопросу?
И. С. Пусть либретто и тексты печатаются в переводе, пусть изложения и пояснения сюжетЪв будут сколь угодно пространными, пусть взывают к воображению, но нельзя менять звучание и акцентуацию слов, сочиненных вместе с определенной музыкой, в точно определенных местах.
Как бы то ни было, желание знать «о чем они поют» не всегда бывает удовлетворено даже при исполнении на родном языке, в особенности, если это английский язык. Школа пения по-английски страдает серьезными изъянами, во всяком случае в Америке; в некоторых американских оперных постановках на английском языке кажется, что певцы поют на разных языках. Но «смысл» перевода – только одна сторона вопроса. Перевод искажает характер произведения и разрушает в нем единство культуры. Если оригинал стихотворный, в особенности на языке, богатом внутренними рифмами, то возможен не перевод, а только вольный пересказ (исключением является может быть Оден; строки Броунинга, начинающиеся «I could favour you with sundry touches», дают хороший пример того, как необычно звучит по-английски стих с двойными рифмами). Адаптация вносит в перевод местные особенности и приводит к тому, что я называю нарушением единства культуры. Например, итальянские presto на английском языке почти всегда звучат как у Джил– берта и Салливена, хотя в этом, возможно, повинны мои уши, русские от рождения и натурализованные в Америке, а также мое незнакомство с английской оперой других периодов (если после Пёрселла и до Бриттена они вообще были).
Пример перевода, губительного для текста и музыки, можно обнаружить в последней части моей «Байки». Место, на которое я ссылаюсь, – я называю его «прибаутки» написано в, темпе и с акцентуацией, естественными для русского языка (каждому языку присущи свои характерные темпы, частично определяющие темпы и характер музыки). Никакой перевод этого места не сможет передать того, что я сделал с языком при помощи музыки. Во всей моей русской вокальной музыке таких примеров много; их перевод настолько мне мешает, что я предпочитаю слушать эти вещи на русском языке или не слушать их вовсе. К счастью, латинскому языку пока что разрешается пересекать границы – по крайней мере, никто еще не предлагал перевести моего «Эдипа», Симфонию псалмов, Canticum Sacrum и Мессу.
Исполнение произведения на языке оригинала является, на мой взгляд, показателем высокой культуры. И с точки зрения музыки Вавилон – благо.[183]183
Известная из библейской легенды Вавилонская башня стала синонимом смешения многих языков и наречий. – Ред.
[Закрыть](I)
Р. К. Для кого вы сочиняете?
И. С. Для самого себя и гипотетического другого лица. Вернее, это идеал, достигнутый лишь очень немногими композиторами. Большинство из нас пишет для публики, как например,
Гайдн: «.. Вы просите меня написать комическую оперу… Если вы намерены поставить ее на пражской сцене, я не смогу исполнить вашу просьбу, так как все мои оперы слишком “тесно связаны с окружающими нас лицами (Эстергази), и кроме того они не произведут того впечатления, на которое я рассчитывал в соответствии с местными условиями». И в другом письме: «Я должен многое изменить (в симфонии) для английской публики». Но это не должно означать, что, считаясь с публикой и ее вкусами, композитор компрометирует себя. «Гамлет» и «Дон– Жуан» были написаны для определенной публики, но в то же время авторы этих шедевров, конечно, сочиняли прежде всего для себя и для гипотетического другого лица. (II)