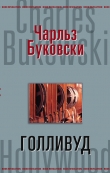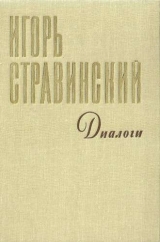
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Р. К. Считаете ли вы, что ваше ощущение времени в музыке, которую вы сочиняете теперь, то же, что в ваших сочинениях, написанных тридцать пять лет тому назад («Мавра», Соната для фортепиано, фортепианный Концерт, «Аполлон»)?
И. С. Мое прежнее и теперешнее ощущение времени не может быть одинаковым. Я знаю, что некоторые разделы «Агона» содержат втрое больше музыки на один и тот же отрезок времени, чем некоторые другие мои вещи. Естественно, что новые требования более внимательного вслушивания меняют временную перспективу. Возможно также, что в нетонально построенном произведении (тональном, но не в тональной системе XVIII века) память играет иную роль. В произведении, основанном на тональной системе, мы постоянно, ориентированы во времени, но мы можем лишь «проходить сквозь» полифоническое произведение, будь то Duke Hercules Messe Жоскена или произведение, построенное серийно, вне тональной системы.
Р. К. Находите ли вы какое-либо подобие между ощущением времени в восточной музыке и в некоторых недавно созданных серийных произведениях?
И. С. Я не думаю, чтобы что-нибудь в природе идеи серийности делало серии «восточными» по существу. Сам Шёнберг, конечно, был кабалистом, но это его частное дело. Мы все заметили монотонность (не в каком-либо предосудительном смысле), которую мы называем «восточной», в серийных сочинениях, например в «Молотке без мастера» Булеза. Но монотонность, которую мы имеем в виду, характерна для многих разновидностей полифонической музыки. Наше мнение о том, что является восточным, связано преимущественно с инструментовкой, но так же с рисунком мелодии и ритма фактически весьма поверхностный вид связи. У меня самого нет склонностей к чему бы то ни было восточному, в особенности к мерам времени в восточной музыке. Действительно, моя позиция похожа на позицию Анри Мишо: на Востоке я чувствую себя варваром – это замечательное слово придумано древними греками для людей, которые не могли отвечать им по-гречески. (I)
Р. К. Согласны ли вы с тем, что в некоторых случаях композитор должен был бы нотировать свои пожелания дирижеру в отношении метрического отсчета?
И. С. Я думаю, что он всегда должен был бы указывать метрическую единицу и желательность или нежелательность ее дробления. Кроме того, ему следовало бы показывать, должен ли дирижер отбивать такт или воспроизводить ритмический рисунок музыки, если он не совпадает с тактом. Например, в триолях, идущих на четыре доли, в «Das Augenlicht» Веберна и в моем Surge Aquilo.1 Я утверждаю, что отбивать здесь счет на три (другими словами, отсчитывать музыку) – значит потерять ощущение четырехдольности и вместо триолей просто получить такт со счетом на три в новом темпе.
Р. К. Согласны ли вы с Шёнбергом, что хорошее сочинение исполнимо лишь в одном определенном темпе? (Он приводит в качестве примера музыкального отрывка с неопределенным темпом австрийский гимн из квартета Гайдна «Импе-

Я думаю, что каждое музыкальное сочинение требует единственного, своего собственного темпа (пульсации): различия темпов исходят от исполнителей, которые часто не слишком хорошо знакомы с исполняемым сочинением или находят личный интерес в его интерпретации. Что же касается знаменитой гайд– новской мелодии, то если в ней и есть какая-нибудь неопределенность темпа, причиной является суетливое поведение бесчисленных интерпретаторов.
Р. К. Считали ли вы когда-нибудь, что «классическое» произведение труднее испортить плохим исполнением, чем «романтическое»?
И. С. Это зависит от смысла, который мы вкладываем в это разделение, а также от характера и размеров недостатков исполнения. Прибегнем к примерам, предпочтительно из современной музыки. Мой «Агон» и берговский Камерный концерт, я бы сказал, обнаруживают наиболее характерные черты, которые мы приписываем этим категориям.
Камерный концерт сильно зависит от общего духа или истолкования. Пока общий дух не схвачен, части остаются бессвязными, форма не возникает, детали не обрисовываются, музыка не говорит того, что может, поскольку считается, что «романтическое» сочинение имеет сообщить нечто помимо самой музыки, закрепленной в нотном тексте. Романтическое сочинение всегда нуждается в «совершенном» исполнении. Под «совершенным» понимается скорее вдохновенное, чем строгое и точное. Действительно, в «романтическом» произведении возможны значительные колебания темпа (Берг дает примерные указания метронома, и различные исполнения иногда расходятся в длительности
!l Augenlicht, op. 26 для смешанного хора. и оркестра. Surge Aquilo —
ч. Canticum Sacrum. – Ред.
до десяти минут). Есть и другие степени свободы, и самая «свобода» должна быть свойством исполнения «романтической» музыки.
Интересно заметить, что дирижерские карьеры по большей части делаются на «романтической» музыке. «Классическая» музыка устраняет дирижера; мы забываем о нем и думаем, что он нужен лишь из-за его профессии, а не из-за медиумических способностей – я говорю о своей музыке.
Относится ли все это к противоположной категории? Возможно, хотя важен вопрос меры, поскольку характеристики каждой из категорий в известной мере приложимы к обеим. Например, если дирижер губит какое-нибудь из моих сочинений, не умея передать ощущение «свободы» и «духа», пусть он не говорит мне, что подобные вещи связаны исключительно с музыкой иного рода.
Р. К. Что вы считаете главной проблемой в исполнении вашей музыки?
И. С. Главное – темп. Моя музыка может пережить почти всё, кроме неправильного или неопределенного темпа. (Предупреждая ваш следующий вопрос, скажу: темп может противоречить метроному, но быть верным по духу, хотя, очевидно, различия не могут быть очень большими.) И это относится, конечно, не только к моей музыке. Что толку, если трели, мелизмы и самые инструменты при исполнении какого-либо концерта Баха – всё правильно, но темп абсурдный? Я часто говорил, что мою музыку нужно «читать», «исполнять», но не «интерпретировать». Я продолжаю настаивать на этом, так как не вижу в ней ничего, что требовало бы интерпретации. (Я стараюсь, чтобы это прозвучало не скромно, а нескромно.) Но, возразите вы, не все стилистические – черты моей музыки отражены в нотной записи, мой стиль требует интерпретации. Это верно, и потому я считаю свои грамзаписи незаменимым дополнением к печатным партитурам. Но это не та «интерпретация», которую имеют в виду мои критики. Им, например, хотелось бы знать, можно ли интерпретировать повторяющиеся ноты бас-кларнета в конце первой части моей Симфонии в трех движениях как «смех». Предположим, я соглашусь, что это может считаться «смехом»; какую это могло бы составить разницу для исполнителя? Ноты ведь неосязаемы. Это не сим-, волы, а лишь знаки.
Проблема стиля в исполнении моей музыки – это проблема артикуляции и ритмической дикции. Нюансы зависят от них. Артикуляция это, в основном, разобщение, и чтобы лучше пояснить сказанное, я отсылаю читателя к записи трех стихотворений Йитса. Йитс делает паузу в конце каждой строки, он задерживается на точно определенное время на каждом слове и между ними – его стихи столь же легко было бы нотировать в музыкальном ритме, как разложить на поэтические размеры.
В течение пятидесяти лет я пытался учить музыкантов играть
tfjsq ц у вместо J
в определенных случаях, диктуемых стилем. Я силился также учить их делать акцент на синкопированных нотах и так строить предшествующую фразу, чтобы это получалось. (Немецкие оркестры настолько же неспособны на это, насколько японцы неспособны произносить букву «л».)
Подобные простые вопросы занимают половину времени, идущего на репетиции моих произведений: когда только музыканты научатся оставлять слигованную ноту, отрываться от нее и не мчаться потом на шестнадцатых? Это элементарные вещи, но сольфеджио все еще стоит на уровне элементарности. Да и зачем преподавать сольфеджио, если оно преподносится отдельно от стиля? Не потому ли моцартовские концерты все еще играются так, как если бы это были концерты Чайковского?
Главной в исполнении новой музыки является проблема ритма. Произведение вроде Пяти песен Даллапиккола[194]194
Для баритона и 8 инструментов (1956). – Ред.
[Закрыть]не содержит никаких проблем, связанных с инструментальной интерваликой (его крестообразные построения в духе Джорджа Герберта предназначены для глаза и не представляют никакой сложности для слуха; невозможно услышать музыкальное изображение креста). Трудности здесь всецело ритмические, и средний музыкант должен учить подобную вещь такт за тактом. Он не двинулся дальше «Весны священной», если вообще зашел так далеко. Он не умеет играть простые триоли, а еще меньше их дробные части. Трудная новая музыка должна изучаться в школах, хотя бы в виде упражнений в чтении.
Я сам как дирижер? Что ж, в продолжение сорока лет обозреватели определенно отказывали мне в этой способности, несмотря на мои записи, умение постигать композиторские намерения и, вероятно, в тысячу раз больший, чем у кого бы то ни было, опыт дирижирования моими собственными вещами. В прошлом году «Тайм» назвал мое исполнение Canticum Sacrum в соборе св. Марка «Убийством в соборе». Сейчас я не против того, чтобы моя музыка предстала перед судом, и если я хочу сохранить репутацию подающего надежды молодого композитора, я должен допустить такую ситуацию; но как «Тайм» или кто-либо другой мог знать, умело ли я продирижировал произведением, мне одному знакомым? (В Лондоне, вскоре после эпизода с «Таймом», я как– то пил чай у м-ра Элиота; я был задет его рассказом, когда моя жена спросила этого милейшего, умнейшего и добрейшего человека, знает ли он, что у него общего со мной. М-р Элиот потрогал свой нос, посмотрел на меня и затем на свое отражение – он был высокого роста, сутулый, с американскими повадками; он оценил возможные общности своего и моего искусства. Когда моя жена сказала «Убийство в соборе», великий поэт пришел в такое замешательство, что я почувствовал, что он предпочел бы не быть автором этого театрального опуса, нежели оскорбить меня его названием.)
Р. К. Согласны ли вы, что композитору следовало бы стараться давать более тщательно нотированный «стиль»? Например, в финале вашего Октета фаготы играют стаккато восьмыми нотами; не точнее было бы написать вместо этого шестнадцатые с паузами?
И. С. Я не верю, что в записи можно полно и окончательно выразить концепцию стиля. Некоторые детали всегда должны предоставляться исполнителю, благослови его бог. В случае же Октета, напиши я шестнадцатые, вопрос об их длительности и о том, должны ли они отсекаться до или после пауз, оказался бы на месте главной проблемы – и вообразите себе чтение всех этих крючков! (I)
О некоторых новых тенденцияхР. К. В музыке Штокхаузена и других композиторов его поколения элементы высоты, плотности, динамики, длительности, частоты (регистр), ритма, тембра подчинены принципу серийного варьирования. Как в эту строго рассчитанную музыку может быть введен не-серийный элемент «неожиданности»?
И. С. Проблема, занимающая теперь тотальных сериалистов, состоит в. том, как сочинять «неожиданности», поскольку от электронных вычислительных машин их не получить (хотя, фактически, они существуют, даже если каждый отдельный случай доступен вычислению; в самом худшем случае мы все-таки слушаем музыку как музыку, а не как вычислительную игру). Некоторые композиторы склонны передавать разрешение этой задачи исполнителю – так делает Штокхаузен в Пьесе для фортепиано XI. Лично я склонен оставлять исполнителю очень немногое. Я не давал бы им права играть только половину или избранные фрагменты моего произведения. Но я считаю несообразным и мелочный контроль над каждой деталью, при котором исполнителю предоставляют лишь окончательное оформление пьесы (в уверенности, что все возможные формы предусмотрены). (I)
Р. К. Какое из новых произведений больше всего заинтересовало вас?
И. С. «Группы» Штокхаузена. Это точное заглавие; музыка действительно состоит из групп, и каждая группа замечательно построена в соответствии с планом объема, инструментовки, ритмического рисунка, тесситуры, динамики, различных типов высоких и низких звучаний (хотя, возможно, непрестанные колебания между верхами и низами, неотделимые от этого рода музыки, и являются источником ее монотонности). Кроме того, это сочинение в целом дает большее ощущение движения, чем любая другая вещь Штокхаузена (я пока еще не слышал его «Цикл»[195]195
Эта партитура очень напоминает Кейджа, хотя и очень привлекательна на взгляд, даже слишком; хочется, чтобы ее не «переводили» в звучание, а оставили бы как некий род рисованного фотоэлектрического звука (по спектру). (Имеется в виду «Цикл для одного исполнителя на ударных инструментах». – Ред) Прикладная музыка «Сна в летнюю ночь» должна была бы использоваться только в шлегелевском варианте пьесы, постановку которой следовало бы оформлять в стиле немецкого провинциального двора того времени. Невозможно построить сюжетный балет на основе пьесы, сущность которой – поэзия, а интрига – всего лишь предлог, хотя Баланчин сделал блестящую попытку. Самый удачный эпизод в балете Баланчина – «Дивертисмент на музыку Струнной симфонии № 9», но он протащен контрабандой во второй акт и не имеет ничего общего с сюжетом. Мендельсон банален лишь когда он стремится к драматическому пафосу и, делая это, он безуспешно пытается предвосхитить Брамса – отрывок в «Прекрасной Мелузине», который едва не становится отрывком из Второй симфонии Брамса. В балете Баланчина мне мешали неумеренные длинноты музыки «сна». Даже флейтовое Скерцо было бы вдвое волшебнее, будь оно вдвое короче. Конечно, это впечатление старого и расчетливого композитора, а Мендельсон был расточительным и молодым.
[Закрыть]), хотя и не думаю, чтобы его форма была удачнее, чем в «Zeitmasse». Я полагаю, что исторически главное значение «Групп» заключается в постсериальных изобретениях, но поскольку я сам пока еще больше всего интересуюсь в музыке контрапунктом нота-про– тив-ноты, а Штокхаузен – рисунком и формой, меня можно извинить за то, что я обращаю внимание на эти внешние аспекты.
Использование трех оркестров вызвало много разговоров. В самом деле, когда оркестры играют порознь или перекрывая друг друга, их роли вполне ясны, но в туттийных разделах они просто звучат как один оркестр, и это относится ко всей полиор– кестровой музыке, будь то сочинение Шютца, Моцарта, Чарлза Айвза или кого-либо другого. (Возможно, однако, это не относится к новой вещи Штокхаузена.)
Более сложен вопрос о трех дирижерах. Если завязать глаза трем дирижерам и заставить их отсчитывать такт со скоростью 60, они разошлись бы уже к десятому такту. Поэтому, когда для одного оркестра указан метроном 70, для второго – 113,5, а для третьего – 94, то сколько-нибудь точное соблюдение этих темпов дирижеру-человеку недоступно. Фактически же дирижеры следят один за другим, плутуют и подгоняют темпы. По той же причине я предпочел бы слушать «Группы», нежели дирижировать одним из оркестров: забота о синхронизации с другими дирижерами и сосредоточенность на деталях своего оркестра очень затрудняет восприятие целого.
Оркестр Штокхаузена полон своеобразных звучаний. Позвольте мне назвать лишь некоторые места: такт 16 у виолончели и контрдбаса; соло гитары в 75-м такте, музыка за три такта до 102-го. Но, пожалуй, самые впечатляющие звучания из всей пар– „титуры встречаются в начале – пиццикато третьего оркестра в 27-м такте, 63–68 такты, и особенно трели и фруллато медных в тактах 108–116.
 означает, что без указания действительного ритмического соотношения звуков они будут звучать в таком порядке: (И)
означает, что без указания действительного ритмического соотношения звуков они будут звучать в таком порядке: (И) Ритмическая конструкция в «Группах» представляет, мне кажется, большой интерес. Например, следующий такт
Ритмическая конструкция в «Группах» представляет, мне кажется, большой интерес. Например, следующий такт
означает, что без указания действительного ритмического соотношения звуков они будут звучать в таком порядке: (И)
Р. К. Какое из произведений молодых композиторов понравилось вам больше всего?
И. С. «Молоток без мастера» Пьера Булеза. Рядовому музыканту трудно судить о таких композиторах, как Булез и Штокхаузен, из-за того, что он не видит их корней. Эти композиторы возникли сразу во весь рост. У Веберна, например, мы прослеживаем истоки в музыкальных традициях XIX и предшествующих столетий. Но рядовой музыкант не воспринимает Веберна. Он задает вопросы вроде: «Какого рода музыку писали бы Булез и Штокхаузен, если бы их попросили писать тонально?» Пройдет порядочно времени, пока «Молоток без мастера» будет признан. Я не буду объяснять свое восхищение этой вещью, скажу лишь словами Гертруды Стайн, ответившей на вопрос, почему ей нравятся картины Пикассо: «Мне нравится смотреть на них». Мне нравится слушать Булеза.
Р. /Г. Что вы действительно слышите по вертикали в Двух импровизациях по Малларме или «Молотке без мастера» Булеза?
И. С. «Слышать» – это очень сложное слово. В чисто акустическом смысле я слышу все, что играется и звучит. В другом смысле я отдаю себе отчет во всем, что играется. Но вы имеете в виду, какие соотношения тонов я осознаю, что анализирует мой слух и воспринимает ли он высоту каждой отдельной ноты? Ваш воЬрос означает, что вы все еще пытаетесь соотносить звуки то– нально, что вы ищете «ключ», который помог бы вам в этом (подобно Джуду из романа Харди, воображавшему, что греческий язык – это всего лишь другое произношение в английском). Однако единственное, в чем слух может отдать себе отчет в этом смысле – это плотность (ни один из тех, кому меньше тридцати, и лишь редкие допотопные старики вроде меня, не говорят больше «гармония», а только «плотность»). Она стала строго сериальным элементом, подлежащим варьированию и перестановкам, подобно всякому другому; в соответствии с той или иной системой вертикальная конструкция объединяет от двух до двенадцати звуков. (Математично ли это? Конечно, да, только эта математика создается композитором.) Все это возвращает нас к Веберну, который понимал всю проблему варьируемой плотности (факт настолько замечательный, что мне интересно, зцал ли сам Веберн, кто такой Веберн). Но, конечно, вопрос о восприятии гармонии более стар. Каждый рядовой слушатель (если существует такое необыкновенное создание) испытывал трудности этого рода в музыке венской школы, примерно с 1909 г. – например, в «Ожидании» Шёнберга. Акустически он слышит все ноты, но не может разобраться в их гармонической структуре. Причина, разумеется, в том, что эта музыка не является гармонической в обычном смысле. (При слушании «Ожидания» в записи есть и другая причина; вокальная партия по большей части поется неточно по высоте.)'
Слышу ли я структуру этих негармонически построенных аккордов? Трудно сказать точно, что именно я слышу. С одной стороны, это вопрос практики (хотя, возможно, не только практики). Но каковы бы ни были границы слышания и постижения, мне не хотелось бы определять их. В гармонии этих пьес, не основанных на тональной системе, мы уже слышим намного больше. Например, гармонически я слышу теперь всю первую часть Симфонии Веберна тонально (не только знаменитое место в до миноре), а мелодически, я думаю, каждый слышит ее теперь более тонально, чем двадцать лет тому назад. Кроме того, молодые люди, сверстники этой музыки, способны услышать в ней больше, чем мы.
Музыка Булеза? Партии «Молотка» в целом не трудны для слуха; «bourreaux de solitude» («палачи одиночества»), например, – место, похожее на первую часть Симфонии Веберна.
В куске же «apres Partisanat furieux» («после неистового ремесленника») следишь за линией лишь одного инструмента и мо– жешь быть доволен, если «отдал себе отчет» в других. Может быть позднее удастся освоиться со второй и третьей линиями, но не следует пытаться воспринимать их в тонально-гармоническом аспекте. Что значит «отдавать себе отчет»? Инструменталисты часто спрашивают: «Если мы пропустим тот или другой кусок, кто узнает?» Ответ таков: это скажется. Сегодня многие люди слишком спешат осудить композитора за то, что «он не способен услышать написанное им». На самом же деле, если он настоящий композитор, он всегда слышит, хотя бы путем расчета. Таллис «рассчитал» сорок партий своего Spem in Alium Nunquam Habui, он не слышал их; и даже в 12-голосной полифонии, например, Орландо вертикально мы слышим только четверть музыки. Я даже сомневаюсь, чтобы в сложной ренессансной полифонии певцы знали свою позицию по отношению друг к другу; это показывает, сколь хороша была их ритмическая выучка, необходимая для преодоления подобной разобщенности. (I)
 И. С. Вот это моя музыка. (I)
И. С. Вот это моя музыка. (I) 1 Дословно: «ровное пение» (англ.) – соотв. cantus planus {лат.) – напев григорианского хорала. – Ред. Р. К. Не изобразите ли вы схематически вашу теперешнюю музыку? Например:
1 Дословно: «ровное пение» (англ.) – соотв. cantus planus {лат.) – напев григорианского хорала. – Ред. Р. К. Не изобразите ли вы схематически вашу теперешнюю музыку? Например:

И. С. Вот это моя музыка. (I)

1 Дословно: «ровное пение» (англ.) – соотв. cantus planus {лат.) – напев григорианского хорала. – Ред.
Нынешние интересыР. К. Какая музыка больше всего восхищает вас сегодня?
И. С. Я играю английских вёрджинелисТов с никогда не ослабевающим наслаждением. Я играю также Куперена, кантаты Баха – слишком многочисленные, чтобы проводить различия, – еще более многочисленные итальянские мадригалы, sinfoniae sacrae Шютца и мессы Жоскена, Окегема, Обрехта и других. Квартеты и симфонии Гайдна, бетховенские квартеты, сонаты и особенно симфонии – Вторая, Четвертая и Восьмая – временами кажутся мне нетронуто свежими и восхитительными. Из музыки нашего столетия меня по-прежнему, больше всего привлекает Веберн двух периодов: его поздние инструментальные произведения и песни, написанные между первыми двенадцатью опусами и Трио ор. 20, избежали чрезмерной изысканности более ранних сочинений и представляют наибольшую ценность из всего написанного Веберном. Я не говорю, что поздние кантаты означают спад, совсем наоборот, но мне далека их сентиментальность, и я предпочитаю его инструментальные произведения. Людей, не разделяющих моего мнения об этой музыке, удивит моя позиция. Поэтому поясняю: Веберн для меня – сама музыка, и я не колеблясь, укрываюсь под покровительство его пока еще не канонизированного искусства. (I)