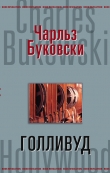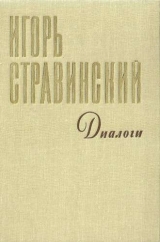
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
Р. /Г. Помните ли вы хореографию Мясица в первой постановке «Пульчинеллы»?
Я. С. Да, помню, и в целом я считал ее очень хорошей. Местами она была механистична, но лишь кусок с вариациями вступал в противоречие с музыкой. Мясин закончил хореографию вариаций до того, как я оркестровал музыку, й Дягилев сказал ему, что я использую большой оркестр с арфами. Однако, как вам известно, оркестр представлей тут квартетом деревянных духовых инструментов.
В 1914 г. – после женитьбы Нижинского – Дягилев вернулся из России с Леонидом Мясиным. Первой постановкой Мясина была «Легенда об Иосифе» Штрауса. Из моих вещей, кроме «Пульчинеллы», Мясин поставил танцы в «Соловье». Последний, однако, был исполнен неважно из-за недостаточного количества оркестровых репетиций. Координация между оркестром и сценическим действием была недостаточной, и результат оказался ниже возможностей труппы.
В дальнейшем, при возобновлении «Весны священной», Мясин выступил балетмейстером-постановщиком. Я считал его постановку замечательной – несравненно более ясной, чем постановка Нижинского. (И)
Р< К. О каких танцовщиках или балетмейстерах вы хотели бы еще упомянуть?
Я. С. Я упомянул бы об Идзиковском, славившемся своими прыжками и, после Нижинского, величайшем Петрушке, о Войце– ховском, Лопуховой – танцовщице совершенной техники, Карса– вцдой – королеве балета, первой Балерине в «Петрушке» и первой Жар-птице (хотя ей следовало – быть Марьей Моревной; а Жар-птицей – Павловой), о Чернышевой – прекрасной Марье Моревне в «Жар-птице» и к тому же красавице (она вскружила голову Альфонсу XIII и была единственной женщиной, нравившейся Равелю), о Пильц, русской с немецкой фамилией, танцевавшей в «Жар-птице» с Фокиной и Чернышевой – звезде первой постановки «Весны священной», о Соколовой, танцевавшей в возобновленной «Весне», о Лифаре, прекрасном в партии Аполлона, Адольфе Больме – балетмейстере-постановщике в первой постановке «Аполлона», ставшем моим близким другом в Америке, о Джордже Баланчине, сочинившем танцы в первой европейской постановке «Аполлона» (я встретился с ним в 1925 г. в Ницце, когда он подготавливал возобновление «Песни соловья»).
Вижу, что, пытаясь вспомнить танцовщиков русского балета, я фактически говорил больше о самом Дягилеве, чем об артистах его труппы и искусстве Терпсихоры. Но это неизбежно, поскольку Дягидев был более волевой личностью, чем все его артисты., и каждый балет, который ставил, контролировал вплоть до мелочей.
Дягилев оказывался иногда во власти очень странных и непрактичных замыслов, и при этом был упрямьщ человеком; многие часы моей (и его) жизни ушли на цопытки отговорить его от этих эксцентричных идей. Я не всегда преуспевал в этом, что видно из использования им фокусников в «Вайке про Лису». Однако я одержал одну важную победу – с «Историей солдата». Дягилев не мог слышать названия– «История солдата», поскольку его труппа не ставила эту вещь (что, разумеется, и не могло быть сделано в 1918 г., так как во время войны труппа была временно распущена). Но в начале 20-х гг. он внезапно решил поставить ее. Его план был эксцентричен. Танцовщики должны были расхаживать по сцене, неся анонсы наподобие американских ходячих пикетчиков или «сэндвичменов», как их называют. В конце концов за такую хореографию нетанцевального балета осудили бы Мясина, но это все было дягилевской идеей.
Дягилев ни в чем не был человеком рассудка. Для этого он был слишком эмоциональным. Кроме того, люди первой категории не отличаются настоящим вкусом – а обнаруживал ли когда-либо кто-нибудь столько вкуса, сколько Дягцлев? Вместе с тем, он был человеком большой культуры – знатоком в некоторых областях искусства и авторитетом по русской живописи. Всю жизнь он страстно любил книги, и его библиотека русских книг была одной из лучших в мире. Но владевшие им суеверия делали его неспособным к разумным рассуждениям. Временами я считал его патологически суеверным. Он носил при себе амулеты, творил заклинания, подобно доктору Джонсону, считал каменные плиты тротуаров, избегал тринадцатых номеров, черных кошек, открытых лестниц. Василий, его слуга, всегда находившийся поблизости от него с турецкими полотенцами или щетками для волос наготове, – вы ведь знаете карикатуру Кокто? – этот Василий должен был читать православные молитвы, наиболее действенные с точки зрения дягилевского суеверия, так как его хозяин, хотя и не был верующим, все же не хотел полностью исключать возможной помощи со стороны христианской религии. Василий рассказал мне однажды, что в 1916 г., на пути в Америку, Дягилев был так обеспокоен разыгравшимся штормом, что заставил его встать на колени и молиться, в то время как он, Дягилев, лежал на кровати, волнуясь за обоих, – поистине разделение обязанностей.
Я помню наш совместный переезд через Ламанш и Дягилева, который беспрерывно смотрел на барометр, крестясь и говоря: «Спаси, спаси».
Дягилев боялся iettatore;[50]50
человек с дурным глазом (ит.),
[Закрыть]сложив два пальца правой руки, он открещивался от его чар. Однажды, разговаривая с ним в театре, я с удивлением заметил, что правой рукой он делает жест, продолжая одновременно разговаривать со мной, как говорится, левой рукой. «Сережа, что вы делаете?» – спросил я его. Он указал на троих мужчин позади себя й сказал, что у одного из них «дурной глаз». Я посмотрел на того, нашел, что он ошибается и сказал ему об этом, но он не захотел прекращать перстного контрвлияния, пока те трое не удалились.
Дягилев был тщеславен во вред себе. Он голодал для сохранения фигуры. Когда мы с ним виделись – чуть ли не в последний раз, я помню, как он расстегнул пальто и с гордостью показал, каким стал стройным. Это делалось ради одного из его последних протеже – скромного, самоуничижающегося, крайне бессердечного карьериста, который так же любил Дягилева, как Ирод детей. Дягилев страдал диабетом, но не лечился инсулином (он боялся впрыскиваний и предпочитал рисковать здоровьем). Мне неизвестно медицинское объяснение его смерти, но знаю, что это событие было для меня ужасным ударом, в особенности потому, что мы с ним рассорились из-за «Поцелуя феи» (балета, как известно, поставленного Идой Рубинштейн и подвергшегося жестокой критике Дягилева), и так и не помирились.
Недавно я откопал пачку писем и других документов, полученных мной после кончины Дягилева. Привожу два из этих писем.
Антекверуела Альта 11 Гренада, 22 августа 1929
Мой дорогой Игорь, меня глубоко затронула смерть Дягилева, и мне хочется написать Вам прежде, чем я буду говорить об этом с кем-нибудь другим. Какая это для Вас ужасная потеря! Из всех замечательных его деяний на первом месте стоит то, что он «открыл» Вас. Мы обязаны ему за это больше, чем за все остальное. Кстати сказать, без Вас Русский балет вообще не мог бы существовать… Во всяком случае, некоторое утешение заключается в том, что наш бедный друг умер, не пережив своего дела. Я всегда вспоминаю его опасения во время войны, что появится кто– нибудь, кто займет его место. Позднее мы поняли, насколько необоснованными былй эти страхи, так как, конечно, никто и никогда не смог бы заменить его. И сейчас у меня к Вам одна просьба: пожалуйста, передайте главе дягилевского балета, кто бы это ни был на сегодняшний день, мои самые искренние соболезнования. Я прошу Вас сделать это, потому что не знаю там^никого, кому мог бы выразить их.
Обнимаю Вас, с давним и искренним расположением
Мануэль де Фалья
P. S. Надеюсь, Вы получили мое последнее письмо, которое я послал заказным, думая, что Вы, может быть, находитесь в отъезде.
Второе письмо от Вальтера Нувеля, секретаря балетной труппы и самого близкого друга Дягилева со времени их совместного учения в Санкт-Петербургеком университете, чьи наклонности были родственны дягилевским. Его спокойствие и здравомыслие не раз спасали Русский балет. Он был еще и хорошим музыкантом, а лично для меня – одним из лучших друзей.
Париж, SO августа 1929 г.
Мой дорогой Игорь, я был тронут до глубины души Вашим прочувствованным письмом. Это наше общее горе. Я лишился человека, с которым в течение сорока лет меня связывали узы дружбы. Но я счастлив теперь, что всегда был верен этой дружбе. Многое сближало нас, во многом мы расходились. Я часто страдал из-за него, часто возмущался им, но теперь, когда он лежит в гробу, все забыто и прощено. И я понимаю сейчас, что к этому незаурядному человеку нельзя было прилагать обычную мерку человеческих взаимоотношений. Он и в жизни и в смерти был одним из отмеченных богом людей и притом язычником, но язычником Диониса, а не Аполлона. Он любил все земное – земную любовь, земные страсти, земную красоту. Небо было для него не более чем прекрасным сводом над прекрасной землей.
Это не эначит, что ему был чужд мистицизм. Нет, но его мистицизм был мистицизмом язычника, а не христианина. Веру у него заменяло суеверие; он не энал страха божьего, но страшился стихий и их таинственных сил; он не обладал христианским смирением, и вместо того был эмоциональным человеком с почти детскими чувствами и ощущениями. Его смерть – смерть язычника – была прекрасна. Он умер в любви и красоте, озаренный улыбками этих двух богинь, которым присягал и ко. торым служил всю свою жизнь с такой страстью. Христос должен был бы любить такого человека.
Обнимаю Вас
Вальтер Нувель (II)
Художники
Балла1Р. К. Помните ли вы декорации Балла к вашему «Фейерверку»?
Я. С. Смутно, даже в то время (Рим, 1917 г.) я не смог бы описать их, так как все сводилось к нескольким мазкам на падугах,[51]51
Падуга – часть кулис, закрывающая верхнюю часть сцены. – Ред.
[Закрыть]в остальном пустых. Помню, публику это поставило втупик, и когда Балла вышел кланяться, аплодисментов не было: публика не знала его, не знала, в чем заключается его участие в спектакле и почему он вышел кланяться. Тогда Балла засунул руку в карман и надавил на какое-то приспособление, после чего его галстук-бабочка стал вытворять какие-то трюки. Это заставило Дягилева и меня – мы были в ложе – разразиться неудержимым хохотом, публика же оставалась по-прежнему немой.
Балла всегда забавлял всех и был привлекательным человеком, и некоторые из самых веселых часов моей жизни я провел в обществе его и его товарищей футуристов. Мысль о футуристическом балете принадлежала Дягилеву, но поставить этот балет на музыку «Фейерверка» мы решили оба: она была в достаточной мере «современной» и продолжалась четыре минуты. Балла произвел на нас впечатление одаренного художника, и мы попросили его сделать декорации.
РерихР. К. Сами ли вы выбрали Николая Рериха для оформления «Весны священной»?
Я. С. Да. Я любовался его оформлением «Князя Игоря» и решил, что он сможет сделать что-нибудь подобное для «Весны». Кроме того, я знал, что он не станет перегружать декорации деталями; Дягилев согласился со мной. Летом 1912 г. я встретился с Рерихом в Смоленске и работал с ним там на даче княгини Тенишевой – меценатки и либералки, помогавшей Дягилеву.
Я продолжаю быть хорошего мнения о рериховской «Весне». Он изобразил на заднике степь и небо, тип местности, которую составители старых географических карт, в меру своего воображения, надписывали «Hie sunt Leones».[52]52
Здесь обитают львы (лат.),
[Закрыть]Шеренга из двенадцати белокурых широкоплечих девушек на фоне этого ландшафта являла собой замечательную картину. Говорили, что костюмы Рериха настолько же точно соответствуют историческим, насколько были удовлетворительны сценически.
Я встретил Рериха – человека с белокурой бородой, калмыцкими глазами, курносого – в 1904 г. Его жена была родственницей Митусова, моего друга и либреттиста «Соловья», и я часто встречал Рерихов в санкт-петербургском доме Митусова. Рерих претендовал на родство с Рюриком, первым русско-скандинавским великим князем. Насколько это соответствовало истине (у него был скандинавский тип), судить трудно, но он, конечно, был благородного происхождения. В те давние годы я очень любил его самого, но не его живопись, которая казалась мне улучшенным Пюви де Шаванном; я не удивился, узнав о его тайной деятельности и любопытной связи с вице-президентом Уоллесом в Тибете во время последней войны; у него был вид либо мистика, либо шпиона. Рерих приехал в Париж на «Весну», но почти не был удостоен внимания, и после премьеры исчез – без сомнения, обратно в Россию. Больше я никогда его не видел. (I)
МатиссР. /Г. Сами ли вы выбрали художником для «Соловья» Анри Матисса?
Я. С. Нет, это было мыслью Дягилева. Я высказался против, но в слишком категорической форме (Амьель говорит: «Каждое категорическое противодействие кончается катастрофой»). Вся постановка, особенно в части работы Матисса, была неудачной! Дягилев надеялся, что Матисс сделает что-нибудь сугубо китайское и очаровательное. Однако тот лишь скопировал китайский стиль магазинов на улице Боэти в Париже. Матисс написал эскизы декораций, занавеса и костюмов.
Живопись Матисса меня никогда не увлекала, но во времена «Песни Соловья» я виделся с ним часто, и сам он мне нравился. Припоминаю день, проведенный с ним в Лувре. Он никогда не был оживленным собеседником, но тут остановился перед картиной Рембрандта и начал возбужденно говорить о ней. В одном месте он вынул из кармана белый носовой платок: «Которое из этого белое? – этот платок или белое в этой картине? Не бывает даже отсутствия цвета, но только белое – каждое и всякое белое».
Наша совместная с Матиссом работа очень сердила Пикассо: «Матисс! Что такое Матисс? Балкон, из которого выпирает большой красный цветочный горшок». (I)
Головин, Бакст, БенуаР, /Г. Помните ли вы декорации Головина для первой постановки «Жар-птицы»?
Я. С. Помню только, что в то время мне нравились костюмы. Занавесом служил занавес Гранд-Оцера. Я не помню количество декораций, но, если бы меня перенесли обратно во времена постановки «Жар-птицы» в 1910 г., я наверняка счел бы их весьма пышными.
Головин был на несколько лет старше меня, и мы не сразу остановили выбор на нем. Дягилев хотел пригласить Врубеля, наиболее талантливого русского художника того времени, но Врубель тогда не то умирал, не то лишился рассудка. Мы думали также о Бенуа, но Дягилев предпочел Головина за его постановку фантастических сцен в «Руслане» и за его ориентализм, который больше соответствовал идеалам дягилевского журнала «Мир искусства», чем столь популярный тогда академический ориентализм. Как художник-станковист Головин был своего рода пуантилистом.
Я не помню Головина на премьере «Жар-птицы». Возможно, у Дягилева не хватило денег на оплату его поездки (я сам получил 1000 рублей вознаграждения, включая издержки по поездке и пребыванию в Париже). Первая «Жар-птица»! Я стоял в темноте зала от начала и до конца в продолжение восьми оркестровых репетиций под управлением Пьерне. На премьере сцена и весь театр сверкали; это все, что я помню. (I)
Р. К. Что вы скажете о Леоне Баксте?
Я. С. Никто не мог бы лучше описать его немногими чертами, чем это сделал Кокто в своей карикатуре. Мы стали друзьями с первой же встречи в Санкт-Петербурге в 1909 г., хотя наша беседа заключалась в перечислении Бакстом его побед над женщинами, и в моем недоверии! «Ну, Лев… Вы не могли совершить всего этого».
Бакст носил элегантные шляпы, тросточки, гетры и т. п., но я думаю, они были призваны отвлекать внимание от его носа, напоминавшего венецианскую комедийную маску. Подобно всякому денди, Бакст был легко уязвимым и в личной жизни таинственным человеком. Рерих говорил мне, что «бакст» – еврейское слово, – означающее «маленький зонтик». Он сказал, что сделал это открытие однажды в Минске, во время грозового ливня, когда он услышал, как люди, стоящие рядом, посылают детей домой за «бакстами», которые потом и оказались тем, о чем он говорил.[53]53
Словарями не подтверждается: возможно, местное название. – Пер.
[Закрыть]
Ставился вопрос о приглашении Бакста художником для постановки «Мавры», но возникли денежные разногласия с Дягилевым. Никто из нас не сделал потом шага к примирению, я сожалел об этом, в особенности когда всего три года спустя, на борту парохода «Париж», во время моего первого путешествия в, США, увидел в судовой газете заметку о его смерти.
Бакст любил Грецию и все греческое. Он путешествовал по ней вместе с Серовым (Серов был совестью всего нашего кружка и моим другом, которого я очень высоко ставил в дни юности; даже Дягилев боялся его) и напечатал книгу – дневники путешествия под названием «С Серовым в Греции» (1922).
Я видел станковую живопись Бакста намного раньше каких– либо из его театральных работ, но она не вызвала у меня восхищения. В самом деле, она отражала все то в русской жизни, против чего восставала «Весна священная». Тем не менее я считаю «Шехеразаду» Бакста шедевром; со сценической точки зрения это, вероятно, самое совершенное достижение Русского балета. Костюмы, декорации, занавес были неописуемо красочны – мы очень обеднели теперь в этом отношении. Помню также, что и Пикассо считал «Шехеразаду» шедевром. В самом деле, это единственная балетная постановка, которой он восхищался: «Vous savez, c’est tres specialiste, mais admirablement fait».[54]54
Знаете, это очень специфично, но сделано восхитительно (фр.).
[Закрыть](I)
P. К. А. Бенуа?
И. С. Я. узнал его раньше Бакста. В то время он был самым изощренным италоманом, какого я когда-либо встречал и если бы не Евгений Берман, он оставался бы им: Бенуа и Бермана очень сближали их русское происхождение, их романтический театр, их италомания. Бенуа знал музыку лучше любого другого художника, хотя, конечно, это была итальянская опера XIX века. Однако, я полагаю, ему нравился мой «Петрушка», во всяком случае, он не называл его «Петрушка-ка», подобно многим людям его поколения. Но Бенуа был консервативнее всей компании и работал над «Петрушкой» в порядке исключения.
Я сотрудничал с ним в небольших вещах до «Петрушки» – в двух оркестровых переложениях из «Сильфид». Не думаю, чтобы эти аранжировки понравились мне сегодня – я больше не занимаюсь такого рода «соло-кларнетной» музыкой. Я наслаждался его работой в «Сильфидах», но тогда не выбрал бы его для «Петрушки». Настоящая моя дружба с ним началась в Риме в 1911 г., когда я кончал «Петрушку». Мы жили в гостинице «Италия» близ Четырех фонтанов и в течение двух месяцев ежедневно общались.
Бенуа был очень уязвлен в своем самолюбии. Наибольшим успехом в балете тогда пользовалось «Видение Розы» с участием Нижинского, и Бенуа откровенно завидовал участию Бакста в этом успехе. Завистью же был вызван случай, имевший место на следующий год. Бенуа рисовал задник каморки Петрушки, когда появился Бакст. Последний схватил кисть и начал помогать. Бенуа прямо набросился на него.
Ларионов, ШагалР. К. Не вы ли выбрали Михаила Ларионова художником «Байки про Лису»?
И. С. Дягилев первый предложил его, но мой выбор совпал с его. Как известно, я сочинил «Байку про Лису» для княгини Эдмон де Полиньяк. В 1914 г. я был отрезан от России, не получал больше доходов от моего русского имения и жил в Швейцарии на очень скромные средства. В годы войны Дягилев ничего не мог платить мне, и поэтому я принял заказ на сумму в 2500 швейцарских франков от княгини де Полиньяк. Дягилев пришел в бешенство от ревности (но он всегда ревновал; думаю, я вполне объективен, говоря это, и, конечно, я знал его достаточно хорошо, чтобы иметь возможность сказать это теперь). В течение двух лет в разговорах со мной он никогда не упоминал о «Байке», что, однако, не. мешало ему говорить о ней с другими: «Наш Игорь-то: всегда деньги, деньги, деньги – и за что? Эта «Байка» – какой-то старый хлам, найденный им в ящике туалетного столика».
Дягилев посетил меня в Ушй в январе или феврале 1917 г., и я сыграл ему «Свадебку». Он плакал (это было удивительное зре-
лище – видеть этого огромного человека плачущим), говоря, что она тронула его больше всего когда-либо слышанного, но не стал бы спрашивать о «Бацке», даже зная, что я ее закончил. Он знал также, что у княгини де Полиньяк нет театра, что она сделала мне заказ исключительно с целью помочь мне и отдала бы / «Байку» для постановки в театре. Через несколько лет княгиня де Полиньяк устроила у себя дома предварительное исполнение «Эдипа» под рояль и заплатила мне за это 12 ООО франков; я отдал их Дягилеву, чтобы помочь в финансировании публичного исполнения.
Ларионов был огромным, белокурым мужиковатым человеком, выше Дягилева (неудержимо вспыльчивый, он однажды сбил Дягилева с ног). Лень была его профессией, как у Обломова, и мы всегда думали, что за него работала жена, Гончарова. Тем не менее, он был талантливым художником, и мне по-прежнему нравятся его декорации и костюмы к «Байке». Как известно, «Байка про Лису» исполнялась вместе с «Маврой», и обеим предшествовал большой балетный номер с оркестром, рядом с которым мои мелкомасштабные пьесы казались еще меньше.
«Байка про Лису» не имела большого успеха, но в сравнении с ней «Мавра» была еще меньшей удачей. «Мавру» очень хорошо оформил Сюрваж, известный художник, которого пригласил Дягилев, рассорившись с Бакстом. Неудача «Мавры» досадила Дягилеву, который желал произвести впечатление на Отто Кана, сидевшего на премьере в его ложе; предполагалось, что Кан повезет всю труппу в Америку. Единственным комментарием того было: «Мне все очень понравилось, затем – бац! – это окончилось слишком скоро». Дягилев просил меня переделать конец, я, конечно, отказался, и он не простил мне этого… (I)
От Ларионова же в дягилевские дни я узнал о Марке Шагале – он принадлежал к шагаловскому кругу русских художников – но впервые я встретил его в Нью-Йорке. Моя жена, Вера дё Боссе, договаривалась с Шагалом об устройстве в ее голливудской галерее La Boutique выставки его рисунков и эскизов для балета «Алеко». С этой целью мы з^шли к нему на квартиру на Риверсайд Драйв. Он носил траур по жене, и о чем бы ни говорил, постоянно возвращался к ней. Два или три года спустя Шагала просили сделать эскизы сценических декораций и костюмов для моей «Байки про Лису». Я жалею, что он отказался (говоря, как мне передавали, что хотел бы оформить «большую вещь Стравинского»). Я все еще надеюсь, что он когда-нибудь сделает «Байку про Лису» и «Свадебку»; никто лучше него не подошел бы для этой работы. «Жар-птица» Шагала представляла собой

С. Дягилев

Дягилев Рисунок И. Стравинского

Пикассо п Стравинский Карикатура Ж. Кокто
ПикассоРамюз
Рисунки И. Стравинского

очень пышное зрелище, более удачное в отношении декораций, чем костюмов. Он написал мой портрет пером и чернилами и преподнес его мне в память о нашей совместной работе. (I)