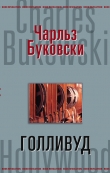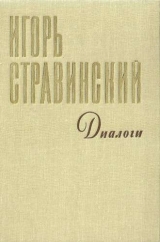
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Р. К. Не опишете ли вы ваш дом в Санкт-Петербурге?
И. С. Мы занимали квартиру 66 в большом старом доме на Крюковом канале. Дом больше не существует, он разрушен немецкой бомбой, но Ансерме смог сообщить впечатление о нем по более поздним временам, чем сохранившееся в моей памяти, так как в 1938 г. он навестил там моего брата. Это был четырехэтажный дом. Мы жили на третьем этаже, и в течение некоторого времени квартиру над нами снимала Карсавина. По другую сторону канала стояло очень красивое желтое здание в стиле ампир, похожее на виллу Медичи в Риме; к сожалению, это была тюрьма. Рядом с нашим домом находился другой многоквартирный дом, где жил дирижер Направник.
Наша квартира была обставлена в обычном викторианском стиле – с обычной плохой окраской, с мебелью обычного цвета mauve[30]30
розовато-лиловый цвет (фр.)
[Закрыть]и т. д., но с необычно хорошей библиотекой и двумя большими роялями. Однако воспроизводить все это в памяти не доставляет мне удовольствия. Я не люблю вспоминать свое детство, и из всей нашей квартиры лучше всего запомнились мне четыре стены нашей с Гурием комнаты. Это было подобием каморки Петрушки, и большую часть времени я проводил там. Мне разрешалось выходить на воздух лишь после того, как родители давали освидетельствовать меня врачу. Меня считали слишком слабым для участия в каких-нибудь спортивных занятиях или играх, когда я бывал вне дома. Я подозреваю, что даже моя нынешняя ненависть к спорту вызвана тем, что в юности я был лишен этих занятий, возбуждавших во мне зависть.
Новая жизнь началась для меня после смерти отца, когда я стал жить в большем соответствии с собственными желаниями. Я даже однажды покинул наш дом, оставив матери традиционную записку о том, что жизнь в квартире 66 на Крюковом канале для меня невозможна. Я нашел пристанище у своего недавно женившегося двоюродного брата, Елачича – человека, покровительствовавшего бунтарству и протесту в любых формах, но через несколько дней моя мать ухитрилась заболеть настолько серьезно, что я был вынужден вернуться. Впоследствии, однако, она вела себя менее эгоистично и, мучая меня, казалось, получала несколько меньшее удовольствие. Я продолжал жить дома в первые годы после женитьбы, затем переехал на Английский проспект [31]31
Теперь – проспект Маклина – Ред.
[Закрыть]– последнее место моего пребывания в Санкт-Петербурге. (И)
Годы учения, литературные связи
Р. К В каких Санкт-петербургских учебных заведениях вы учились?
И. С. До четырнадцати или пятнадцати лет я учился в казенном учебном заведении – 2-й санкт-петербургской гимназии. Оттуда я перешел в частную гимназию Гуревича, где до меня учился Юрий. Гимназия Гуревича находилась примерно в восьми милях от нашего дома, в районе, называемом «Пески», и из-за этих восьми миль я постоянно имел долги. Утром я всегда выходил с опозданием, поэтому не мог пользоваться трамваем, а должен был брать извозчика и платить ему тридцать или сорок копеек. Поездки на извозчике – это единственное, что мне нравилось в связи со школой, в особенности зимой. Какое это было удовольствие возвращаться домой по Невскому проспекту на санях, защищенных сеткой от грязного снега, вылетавшего из-под копыт лошади, а затем, дома, греться у нашей большой кафельной печки!
Гимназия Гуревича делилась на «классическую» гимназию и реальное училище. Я учился в первой – истории, латыни, греческому языку, русской и французской литературе, математике. Конечно, я был очень плохим учеником и ненавидел эту школу, как и вообще все мои учебные заведения, глубоко и навсегда. (II)
Р. К. Был ли среди ваших учителей кто-либо, относившийся к вам с симпатией?
И.С. Думаю, что учитель математики в гимназии Гуревича – по фамилий Вульф – понимал меня. В прошлом офицер гусарского полка, он обладал подлинным талантом в математике, но в то время (как и прежде) любил выпить. Кроме того, профессор Вульф был музыкантом-любителем. Он знал, что я сочиняю – я уже получил за это выговор от директора школы, – и помогал мне, защищал и подбадривал. (II)
Р. if. Каковы ваши воспоминания о Санкт-Петербургском университете?
Я. С. Так как посещение лекций было необязательным, я предпочитал не присутствовать на них, и за все пять лет моего пребывания в университете, вероятно, прослушал не более пятидесяти лекций. Об университете у меня сохранились только смутные и неинтересные воспоминания. Я читал книги по уголовному праву и философии, интересовался теоретическими и отвлеченными вопросами обеих дисциплин, но ко времени моего поступления в университет у меня столько времени уходило на занятия у Римского-Корсакова, что я едва ли мог отдавать должное другим занятиям. Сейчас я могу вспомнить только два случая, связанные с моим пребыванием в университете. Однажды, в напряженные дни после русско-японской войны, я шел после полудня через площадь перед Казанским собором, где в то время группа студентов устроила демонстрацию. Полиция, однако, была уже наготове, демонстрантов арестовали и меня вместе с ними. Я оставался под арестом семь часов, но и семьдесят лет не смогли стереть память о моих страхах. Другой случай произошел во время последней экзаменационной сессии; поняв, что я не выдержу один из экзаменов, я предложил Николаю Юсупову поменяться матрикулами, чтобы он сдал за меня мой экзамен, а я – один из его: мы лучше знали соответствующие предметы. Этот обман так никогда и не открылся, поскольку наши лица не были известны профессорам; бедный Николай (его брат впоследствии убил Распутина) вскоре после этого умер на дуэли в Ташкенте. (И)
Р. К. Что вы читали в университетские годы?
Я. С. Главным образом русскую беллетристику и иностранную литературу в русском переводе. Моим героем всегда был Достоевский. Из новых писателей я больше всего любил Горького и больше всего не любил Андреева. Скандинавские писатели – столь популярные тогда Лагерлеф и Гамсун – ничего мне не говорили, но я восхищался Стриндбергом и, конечно, Ибсеном. В то время в России пьесы Ибсена были так же популярны, как музыка Чайковского. Зудерман и Гауптман тоже были тогда в большой моде, как и Диккенс, Марк Твен (с его дочерью я потом познакомился в Голливуде) и Скотт, чей «Айвенго» был у нас столь же популярной детской книжкой, как и в странах, где говорят по-английски. (И)
Р. К. Ваш отец и Достоевский были друзьями. Я думаю, в детстве вы слышали много разговоров о Достоевском?
И. С.В моем представлении Достоевский олицетворял собой художника, неизменно нуждавшегося в деньгах. Так говорила онем моя мать. Он выступал с чтением своих произведений – в этом ему помогали мои родители, хотя и находили их невыносимо скучными. Достоевский любил музыку и часто ходил в концерты с моим отцом.
Я продолжаю думать о Достоевском как о самом великом русском писателе после Пушкина. Теперь, когда считается, что человек определяет свое лицо, выбирая между Фрейдом и Юнгом, Стравинским и Шёнбергом, Достоевским и Толстым, я – достоевскианец. (I)
Р. К. Унаследовали ли вы вашу любовь к книгам от отца? Какого рода книги подбирал ваш отец для своей библиотеки? Какая из книг впервые произвела на вас наибольшее впечатление?
И. С.Библиотека моего отца содержала 7–8 тысяч томов, главным образом по истории и русской литературе. Эта библиотека была ценной и пользовалась известностью благодаря тому, что в ней имелись некоторые первоиздания сочинений Гоголя, Пушкина и Толстого, а также поэтов второго сорта. Ее значимость оказалась достаточной, чтобы после революции объявить ее национальной библиотекой, и моей матери было присвоено звание «народной библиотекарши». (По крайней мере, книги не были конфискованы или рассеяны по другим библиотекам* за что я должен быть благодарен правительству Ленина. В 1922 г. правительство разрешило моей матери эмигрировать, а вскоре после смерти Ленина я, «товарищ Стравинский», получил от министерства народного просвещения, возглавлявшегося товарищем Луначарским, приглашение продирижировать концертами в Ленинграде. Мои сочинения исполнялись в России во время нэпа.)
Ребенком я много читал, но думаю, что первой книгой, произведшей на меня наиболее глубокое впечатление, было «Детство и отрочество» Толстого. В отцовской библиотеке я обнаружил русские переводы сочинений Шекспира, Данте и греческих авторов, но эти открытия были сделаны уже в более поздние отроческие годы. Помню, как меня взволновал «Эдип-царь», думаю, что в переводе Гнедича. С переводчиком Данте, Петром Исаевичем Вейнбергом, я позже познакомился: он был другом Полонского и завсегдатаем Пятниц.[32]32
О «Пятницах» см. далее. – Ред.
[Закрыть]Обе дочери Вейнберга были затем нашими соседями и друзьями в Ницце.
Р. К. Что вы помните о смерти и похоронах вашего отца?
И. С. Единственным моментом, когда я ощутил реальность отца, была его смерть, и этот момент – единственное, что осталось мне теперь. Мы не раз думаем о предстоящей смерти родителей, но события эти всегда неожиданны, и всегда не таковы, какими мы их себе воображали. Я узнал, что мой отец обречен, после официального визита – предсмертного – директора императорских театров Всеволожского. Как только появился Всеволожский, я почуял в нем вестника смерти, и начал свыкаться с мыслью о ней. Всеволожский, большой аристократ, друг Чайковского, художник – он рисовал эскизы костюмов – был монументально-внушительной личностью, хотя единственное, что я могу сказать о нем сейчас, это что он носил квадратный монокль, а иногда пенсне странной треугольной формы.
Мой отец умер 21 ноября (4 декабря нов. ст.) 1902 г. После смерти тело затвердело, как кусок мороженого мяса; его облачили в парадный костюм и сфотографировали; разумеется, это делалось ночью. Но когда эта смерть дошла до моего сознания, я был глубоко потрясен мыслью, что в соседней комнате находится манекен любимого человека. Что можем мы думать о покойниках? (Кстати, описание этого чувства, испытанного Ульбрехтом при смерти его отца, является самым блестящим местом из всегЬ «Человека без свойств» Музиля.) Похоронная процессия двинулась от нашего дома в не по сезону сырой день. Похоронили отца на Волковом кладбище. (Позднее прах отца перезахоронили на Новодевичьем кладбище.) Присутствовали артисты и дирижеры Мариинского театра, а Римский стоял рядом с моей матерью. Отслужили короткую панихиду, после чего могилу окропили святой водой и забросали комьями земли. Заупокойные обряды исполнялись в России строго и торжественно, и поминки гэльского типа были там неизвестны. Мы отправились домой – каждый в свою комнату, – чтобы в одиночестве оплакивать усопшего. (III)
Р. К.Не разъясните ли вы родственную связь вашей семьи с поэтом Яковом Петровичем Полонским.
И. С.Николай Елачич, мой двоюродный брат и старший из пяти братьев Елачичей, женился на Наталии Полонской, дочери знаменитого поэта. (Николай был довольно хорошим пианистом, и я вспоминаю, как в канун Нового, 1900 года, который мы встречали у Елачичей, он аккомпанировал моему отцу песни Шумана. Какой это был хороший вечер и какой значительной казалась нам заря XX столетия! Помню, мы толковали о политике в антианглийском духе из-за бурской войны.)
Я часто видал Полонского до самой его смерти; он умер, когда мне было семнадцать лет. Это был поэт эпохи Жемчужникова, современник и коллега Лескова, Достоевского, Фета, Майкова. Несмотря на седины и сутулость в годы нашего знакомства, он все еще был красивым человеком. Я помню его о неизменным пле
дом на плечах; я видел его в парадном костюме единственный раз, когда он лежал в гробу. Впоследствии его жена Жозефина организовала в память мужа литературные чаепития, которые вскоре приобрели известность под названием «Пятниц Полонского». Русские любят подобного рода сборища – чай и рифмы, – но гримасы и возбужденные голоса поэтов – для меня это уже было слишком, кроме того, я подозреваю, что г-жа Полонская подмешивала в чай соду, чтобы сделать его темным, как чай высшего сорта. (III)
Р. К. Что вы помните об авторах текстов ваших первых романсов, Сергее Городецком и Константине Бальмонте?
И. С.Я хорошо знал Городецкого в 1906–1907 гг., когда писал музыку на его слова. Это, однако, не было сотрудничеством; услышав романсы в одном концерте в Санкт-Петербурге, он заметил: «Музыка очень красивая, но она не точно интерпретирует мои тексты, поскольку я описываю колокола, продолжительно и медленно звучащие время от времени, а ваша музыка типа звякающих бубенцов». Городецкий – высокий, белокурый, горбоносый человек – был верным другом моей жены Веры в Тифлисе в период революции.
Я не был знаком с Бальмонтом, хотя и видел его на одном из наших концертов в Санкт-Петербурге (ярко-рыжие волосы и козлиная бородка) мертвецки пьяным – обычное для него состояние от самого рождения до смерти. Я никогда не был близок ни к одному из литературных кружков; фактически тех немногих русских литераторов, которых я когда-либо знал, например Мережковского и князя Мирского, я встретил в Париже. Бальмонт тоже жил в Париже, но я с ним там не встречался. Его стихотворения более весомы, чем поэзия Городецкого, и несколько менее подверглись забвению, хотя как певца природы его просто отодвинули в тень революционеры, особенно Александр Блок. Бальмонтовский «Звездоликий» невразумителен в отношении и поэзии и мистицизма, но слова хороши, а слова – отнюдь не их смысл – это все, что мне было нужно. Даже сейчас я не мог бы сказать вам, о чем именно повествовала эта поэма. (II)
Учителя музыки
Р. К. Кто были ваши первые учителя музыки?
И. С. Первой моей учительницей игры на рояле была некая мадемуазель Снеткова из консерватории. Ее рекомендовал моему отцу профессор консерватории Соловьев, автор оперы «Корделия», в которой мой отец пел ведущую партию. Мне было тогда девять
лет, и, вероятно, я учился у нее в течение двух лет. Помню, как она рассказывала мне о приготовлениях в консерватории к похоронам Чайковского (1893 г.), но не помню, чтобы я чему-нибудь научился у нее в области музыки.
Моим первым учителем гармонии был Федор Акименко, ученик Балакирева и Римского – композитор, не лишенный самобытности и, как все считали, подававший надежды; помню, когда я приехал в Париж на постановку «Жар-птицы», французские композиторы удивили меня расспросами о сочинениях Акименко. Однако занимался я у него недолго, так как он не понимал меня.
Следующим моим преподавателем был Василий Калафати – грек, маленького роста, смуглый, с большими черными усами. Калафати тоже сочинял музыку, но более ярко был одарен как педагог. Я писал с ним стандартные упражнения по контрапункту, инвенции и фуге, делал гармонизацию хоралов; он был действительно незаурядным и весьма взыскательным рецензентом этих упражнений. Он был требователен в вопросах голосоведения и насмехался над «интересными новыми аккордами», которые особенно любят молодые композиторы. Этот молчаливый человек редко говорил больше, чем «да», «нет», «хорошо», «плохо». Когда его просили уточнить замечания, он отвечал: «Вы сами должны были бы слышать». Калафати научил меня прибегать к слуху как к первому и последнему критерию, за что я ему благодарен. Я занимался у него больше двух лет.
Большую часть своего свободного времени в период этих под-' готовительных занятий с Акименко и Калафати я проводил на репетициях опер и на оперных спектаклях. Отец достал мне пропуск, по которому я мог проходить в Мариинский театр почти на все репетиции, хотя каждый раз должен был являться к начальнику охраны для предъявления пропуска. К тому времени когда мне исполнилось шестнадцать лет, я стал проводить в театре не менее пяти или шести вечеров в неделю. Там часто можно было видеть Римского, но тогда я еще не вступал с ним в разговор. Я познакомился со многими ведущими певцами и оркестрантами, из последних я особенно подружился с двумя концертмейстерами – г-ном Виктором Вальтером и г-ном ВольфИзраэлем. Вольф-Израэль участвовал в заговоре по добыче мне папирос. (Я начал курить с 14 лет, но мои родители узнали об этом спустя два года.) Однажды Вольф-Израэль смело одолжил папироску у самого Римского-Корсакова и передал ее мне. со словами: «Вот композиторская папироса». Как бы то ни было, но я выкурил ее; я не храню засушенных сувениров в своих книгах. (III)
Р. К. He опишете ли вы уроки с мадемуазель Кашперовой?
И. С. Она была прекрасной пианисткой ц дубиной – не такое уж редкое сочетание. Я подразумеваю под этим непоколебимость ее эстетических воззрений и плохого вкуса, но пианизм ее был на высоте. Она пользовалась известностью в Санкт-Петербурге, и я считаю, что ее имя могло бы фигурировать если не на страницах Грова или Римана, то в каком-нибудь русском словаре того времени. Она без конца говорила о своем учителе Антоне Рубинштейне, и я слушал ее со вниманием, так как видел Рубинштейна в гробу. (Это было незабываемым зрелищем. Я отчасти был подготовлен к нему, так как в еще меньшем возрасте видел мертвым императора Александра III – желтую, восковую куклу в мундире; гроб с его прахом был выставлен для прощания в Петропавловском соборе. Рубинштейн был белый, с густой черной гривой волос, одетый парадно, словно для концерта, и руки его были сложены поверх креста; Чайковского в гробу я не видел; мои родители сочли тогда, что погода слишком плоха, чтобы я мог выйти из дому.) С мадемуазель Кашперовой я выучил сольминорный концерт Мендельсона и много сонат Клементи и Моцарта, сонаты и другие произведения Гайдна, Бетховена, Шуберта и Шумана. На Шопене лежал запрет, и она пыталась умерить мой интерес к Вагнеру. Тем не менее, я знал все сочинения Вагнера по фортепианным переложениям, а когда мне исполнилось шестнадцать или семнадцать лет, и у меня, наконец, появились деньги, чтобы купить их, – и по оркестровым партитурам. Мы играли с ней в четыре руки оперы Римского, и помню, какое большое удовольствие я получил от «Ночи перед рождеством», исполненной таким образом. Единственной идиосинкразией мадемуазель Кашперовой как педагога был полный запрет пользоваться педалями; я должен был держать звук пальцами, подобно органисту; возможно, это было предзнаменованием, поскольку я никогда не писал музыку, требовавшую усиленной педализации. Однако я многим обязан Кашперовой, причем тем, чему она не придавала значения. Ее ограниченность и ее правила во многом способствовали накоплению в моей душе горечи, пока (примерно в 25-летнем возрасте) я не восстал и не освободился от нее и от всяческих нелепостей в моих занятиях, учебных заведениях и семейном окружении. Что же касается моих детских лет, то это был период ожидания момента, когда все и вся, связанное с ними, я смог бы послать к черту. (II)
Р. К. Помните ли вы вашу первую встречу с Римским-Корсаковым?
И. С. Формально наше знакомство состоялось во время сценической репетиции «Садко», хотя, конечно, я видел его бессчетное число раз и в предшествующее десятилетие, как в общественных местах, так и в частных домах. При встрече на репетиции «Садко» мнё было пятнадцать или шестнадцать лет, но я не могу припомнить ее подробности вероятно потому, что кумир тогдашней русской мувыки был для меня хорошо известной личностью, или, может быть, по той причине, что я считал это знакомство неизбежным. Но атмосфера, царившая в театре, волнение и трепет от присутствия на репетиции новой оперы захватили меня целиком; ни один человек, даже если бы то был сам автор, не мог бы произвести на меня большего впечатления, чем сама опера. Римский был способен снизойти до того, чтобы заметить меня, так как проявлял тогда исключительное внимание к моему отцу. Сцена пьянства в «Князе Игоре» в его исполнении была одним из наиболее ярких моментов спектакля, и специально для него Римский включил аналогичную сцену в «Садко».
Не могу сказать, когда я впервые увидел Римского-Корсакова. Я попробовал воспроизвести в памяти самые ранние представления о нем, но не смог восстановить последовательность событий. При столь тесных взаимоотношениях, какие были у нас, трудно нанизать воспоминания на хронологическую нить – помимо того, я могу извлекать из памяти лишь отрывочные и внезапно всплывающие воспоминания. Я смутно помню Римского, когда он пришел к нам просить отца спеть Варлаама в его версии «Бориса Годунова»; возникает еще одно расплывчатое представление – примерно того же времени – о нем, входящем в консерваторию как-то зимой в боярской шапке и шубе. Это, должно быть, произошло вскоре после того, как построили здание консерватории, когда мне было пять или шесть лет.
Тесное общение с Римским-Корсаковым установилось летом 1902 г. в Некарсмюнде близ Гейдельберга, где Андрей Римский– Корсаков учился в университете. Я проводил каникулы вместе со своими родителями неподалеку от тех мест, в курорте Виль– дунген, и брат Андрея, Владимир, мой соученик, пригласил меня погостить у них. Во время этого визита я показал Римскому мои первые сочинения – короткие пьесы для фортепиано, «Анданте», «Мелодии» и др. Мне было стыдно отнимать у него время, но тем не менее я страстно жаждал стать его учеником. Он с большим терпением просмотрел мои слабые потуги к творчеству и затем сказал, что если бы я решил продолжить свои занятия под руководством Калафати, я мог бы приходить и к нему на уроки два раза в неделю. Я был так осчастливлен этим разрешением, что не только принялся за упражнения Калафати, но к концу лета исписал ими несколько нотных тетрадей. Однако и тогда и позднее Римский был очень сдержан в похвалах и не поощрял меня вольным употреблением слова «“Талант». В самом деле, единственный композитор, которого при мне он называл талантливым, был его зять Максимилиан Штейнберг. (III)
Р. К. Что вы больше всего любили в России?
Я. С. Буйную русскую весну, которая, казалось, начинается в течение одного часа, когда вся земля как будто раскалывается. В моем детстве это бывало самым замечательным событием каждого года. (II)