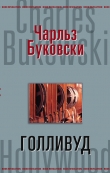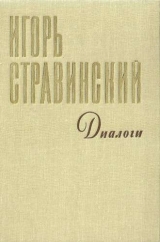
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
О русских композиторах и музыкальной жизни Санкт-Петербурга
Римский-КорсаковР. К. Какие чувства – личные и прочие – вы испытываете теперь к Римскому-Корсакову и помните ли вы «Погребальную песнь», написанную вами в его память?
Я. С. Через пятьдесят лет почти невозможно отделить субъективные воспоминания от объективных; все воспоминания субъективны, однако мои относятся к столь непохожей на меня личности, что их нельзя назвать иначе, как объективными. Немногие были так близки мне, как Римский-Корсаков, в особенности после смерти моего отца, когда он стал мне вроде названного отца. Мы стараемся не судить наших родителей, но, тем не менее, судим их, и часто несправедливо. Надеюсь, меня не сочтут несправедливым к Римскому-Корсакову.
Существует большая разница между Римским его автобиографии, знакомой большинству людей, и Римским – моим учителем. Читатели этой хорошо, но суховато написанной книги думают о нем, как о человеке, не легко дарящем свое расположение, не слишком великодушном и сердечном; больше того, здесь он иногда выказывает себя как художник, поразительно поверхностным в своих устремлениях. Мой Римский, однако, был глубоко благожелательным, глубоко, и не показным образом, великодушным, и неприятным лишь по отношению к поклонникам Чайковского. Я не могу отрицать у него некоторой поверхностности, поскольку очевидно, что и в натуре Римского и в его музыке не было большой глубины.
Я обожал Римского, но не любил его склад мышления. Я имею в виду его почти буржуазный атеизм (он бы назвал это «рационализмом»). Его разум был закрыт для какой бы то ни было религиозной или метафизической идей. Если случалось, что разговор касался некоторых вопросов религии или философии, он просто отказывался обсуждать эти вопросы в религиозном плане. После урока я обычно обедал с семьей Римского– Корсакова. Мы пили водку и закусывали, затем принимались за обед. Я сидел рядом с Римским, и мы часто продолжали обсуждать какую-нибудь задачу из прошедшего урока. Остальную часть стола занимали сыновья и дочери Римского. Его второй сын, Андрей, изучал философию в Гейдельберге и часто приводил с собой к обеду некоего Миронова, своего друга по университету. Несмотря на интерес молодежи к вопросам философии, Римский не допускал споров на эти темы в его присутствии. Помню, кто-то завел за столом разговор о воскресении из мертвых, и Римский нарисовал на скатерти ноль, сказав: «После смерти ничего нет, смерть это конец». Я имел тогда смелость заявить, что такова, может быть, лишь одна из точек зрения, но после этого некоторое время мне давали чувствовать, что лучше было промолчать.
Я думал, что приобрел друзей в лице двух младших сыновей Римского, юношей, которые – по меньшей мере в Санкт-Петербурге – были светочами просвещения. Андрей, старше меня тремя годами, довольно приличный виолончелист, был особенно мил со мной, хотя его расположение сохранялось лишь при жизни его отца; после успеха «Жар-птицы» в 1910 г. он и фактически вся семья Римского-Корсакова отвернулись от меня.[33]33
Я думаю, по причинам скорее музыкальным, чем личным. Моя музыка казалась им слишком «передовой». Любимцем их был Глазунов.
[Закрыть]Рецензируя «Петрушку» для одной русской газеты, он даже отозвался о музыке, как о «русской водке, отдающей французскими духами». Владимир, его брат, был способным скрипачом, и я обязан ему моими начальными знаниями в области скрипичной аппликатуры. Я не был близок с Софией и Надеждой, дочерьми Римского, хотя в последний раз контакт с семьей Римского произошел через мужа Надежды, Максимилиана Штейнберга, приехавшего в Париж в 1924 г. и слышавшего там в моем исполнении мой Фортепианный концерт. Можете представить себе его реакцию на это произведение, если даже после прослушивания «Фейерверка» лучшее, что он мог сделать, это пожать плечами. Прослушав концерт, он пожелал прочесть мне лекцию о ложном развитии моей карьеры. Он вернулся, в Россию, основательно раздраженный тем, что я отказался встретиться с ним.
Римский был высок, подобно Бергу или Олдосу Хаксли и, как последний, страдал плохим зрением. Он ходил в синих очках, иногда пользуясь дополнительной парой очков, которые носил на лбу – эту привычку я перенял от него. Дирижируя оркестром, он был принужден склоняться над партитурой и, почти не поднимая глаз, размахивал палочкой в направлении своих колен. Ему было настолько трудно видеть партитуру, и он так бывал поглощен слушаньем, что почти совсем не давал указаний оркестру палочкой. Подобно Бергу, он страдал сердечной астмой. На последнем году его жизни эта болезнь внезапно обострилась, и хотя ему было всего шестьдесят четыре года, мы сознавали, что он не долго протянет. У него было несколько жестоких приступов в январе 1908 г. Каждое утро нам звонили по телефону, и каждое утро я терзался мыслью, жив ли он еще.
Римский был строгим человеком и строгим, хотя в то же время и очень терпеливым, учителем (в течение всего урока он повторял: «Вы понимаете, понимаете?»). Его знания отличались точностью, и он мог делиться тем, что знал, с большой ясностью. Его преподавание целиком касалось «техники». Хотя он знал много важного из области гармонии и оркестровки, знания его о самом процессе композиции не были тем, чем они должны были бы быть. Я впервые пришел к нему как к музыкальному авторитету, но вскоре стал мечтать о ком-то менее «безукоризненном», но более соответствующем идеалам моего формировавшегося мышления. Возрождение полифонии и обновление музыкальной формы, происходившие в Вене в год смерти Римского,[34]34
Имеется в виду так назыв. «нововеяская школа», возглавлявшаяся Арнольдом Шёнбергом, и ее начинания в области атоналивма. – Ред.
[Закрыть]были совершенно неизвестны его школе. Я благодарен Римскому за очень многое и не хочу осуждать его за то, чего он не знал; тем более, что самые главные «орудия производства» в своем искусстве я должен был найти сам. Я принужден упомянуть также о том, что в период, когда я был его учеником, он, как реакционер, из принципа противился всему, что приходило из Франции или из Германии. Я никогда не уставал удивляться тому, что вне сферы искусства он занимал позицию радикала, прогрессивного антимонархиста.
Хотя Римский был остроумен и обладал живым чувством юмора, хотя он и выработал свой собственный литературный стиль, его литературный вкус был ограниченным в худшем смысле этого слова. Либретто его опер, 8а исключением «Снегурочки» (Островского) и «Моцарта и Сальери» Пушкина, запутанны и плохи. Однажды я обратил внимание на какой-то анахронизм в одном из них: «Но, дорогой маэстро, неужели вы в самом деле считаете, что подобное выражение существовало в пятнадцатом веке?» «Оно в ходу сейчас, и это все, о чем надо заботиться», – был ответ. Римский не мог думать о Чайковском иначе, как о «сопернике»: Чайковский имел в Германии больший вес, чем Римский, который завидовал этому (мне кажется, что Чайковский отдаленно повлиял на Малера; послушайте музыку четвертой части Первой симфонии Малера ц. 16–21, и пятую часть Второй симфонии начиная с ц. 21). Римский не уставал повторять, что «музыка Чайковского свидетельствует об отвратительном вкусе». Тем не менее, Римский с гордостью выставил в своем кабинете большую серебряную корону, поднесенную ему Чайковским на первом исполнении Испанского каприччио. Чайковский присутствовал на генеральной репетиции и был настолько восхищен блеском музыки, что на следующий день преподнес Римскому этот знак своего уважения.
Римский был англоманом. Он выучил английский язык во время отбывания им воинской повинности в качестве офицера флота; не могу сказать, насколько хорошо он владел этим языком, но английскую речь я впервые услышал из его уст. Он часто делал замечания в сторону по-английски. Как-то раз, когда один молодой композитор пришел показать ему свою партитуру, но от волнения забыл ее в дрожках. Римский посочувствовал ему по-русски, но прошептал мне по английски: «Да будет благословенно небо!»
Римский не упоминает обо мне в своей автобиографии, потому что не хотел отмечать меня знаком особого внимания; у него было много учеников, и он всегда избегал оказывать кому-нибудь предпочтение. Мой брат Гурий упоминается там, поскольку он пел в кантате, сочиненной мной для Римского и исполненной у него на дому. После этого события Римский написал моей матери прелестное письмо, в котором давал высокую оценку нашим талантам.
Римский присутствовал вместе со мной на премьерах двух моих сочинений. Первое из них – Симфония Ми-бемоль мажор – посвящено ему (рукопись все еще находится в руках его семьи). Она исполнялась в Санкт-Петербурге 27 апреля 1907 г.; я помню дату, так как мой дядя Елачич преподнес мне в честь этого события медаль. Римский сидел рядом со мной и время от времени делал критические замечания: «Это слишком тяжело; будьте осторожнее с применением тромбонов в среднем регистре». Поскольку концерт давался днем, и билеты были бесплатными, я не могу утверждать, что аплодисменты означали успех. Единственным плохим знамением был Глазунов, который подошел ко мне со словами: «Очень мило, очень мило». Симфония шла под управлением императорского капельмейстера Варлиха, дирижировавшего в генеральском мундире. Однако моя вторая премьера, «Фавн и пастушка», прошедшая в том же году в одном из беляевских русских симфонических концертов под управлением Феликса Блуменфельда, должно быть, раздражающим образом подействовала на консерватизм Римского, что теперь может показаться невероятным. Первую песню он нашел «странной», а применение целотонной гаммы подозрительно «дебюссистским». «Видите лиу– сказал он мне по окончании, – я прослушал это, но если бы мне пришлось через полчаса прослушать это заново, я должен был бы снова сделать то же усилие, чтобы приспособиться». К тому времени собственный «модернизм» Римского базировался на немногих шатких энгармонизмах.
«Погребальная песнь» для духовых инструментов, написанная мной в память Римского-Корсакова, была исполнена в Санкт– Петербурге под управлением Блуменфельда вскоре после смерти Римского. Я вспоминаю эту вещь как лучшее из моих сочинений до «Жар-птицы» и наиболее передовое по использованию хроматической гармонии. Оркестровые партии должны были сохраниться в одной из музыкальных библиотек Санкт-Петербурга; мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь в Ленинграде поискал их; мне было бы любопытно посмотреть на музыку, сочиненную непосредственно перед «Жар-птицей». Увы, единственной данью, которую я с того времени отдал Римскому, было дирижирование его симфонической поэмой «Садко» (не оперой; эта симфоническая поэма интереснее оперы), единственной из его вещей, которую я считал достойной возрождения.
У меня не сохранилось ни одного письма от Римского, хотя в Устилуге их было у меня пятьдесят или даже больше. Я очень об этом сожалею, так как получил от него много прелестных открыток с Лаго ди Гарда,[35]35
Озеро в Ломбардии. – Ред.
[Закрыть]где он проводил свои летние месяцы. У меня нет также ни одной его рукописи, хотя он и дал мне первые пятьдесят страниц партитуры «Снегурочки». У меня действительно нет ни одного его автографа – я довожу это до сведения человека, регулярно посылающего мне заказные письма откуда-то из Бразилии с просьбами прислать ему какой-нибудь автограф Римского. (II)
Р. К. Вы не упоминали в вашей автобиографии, присутствовали ли вы на похоронах Римского-Корсакова?
И. С. Не упоминал, потому что это был один из самых горестных дней моей жизни. Но я был там, и я буду помнить Римского в. гробу, пока мне не изменит память. Он казался таким прекрасным, что я не мог не плакать. Его вдова, увидев меня, подошла и сказала: «Почему вы так горюете? У нас ведь есть еще Глазунов». Это было самым бессердечным замечанием из слышанных мною когда-либо, и я никогда не испытывал большего чувства ненависти, чем в тот момент. (I)
Цезарь КюиР. К. Знали ли вы Цезаря Кюи в период занятий с Римским-Корсаковым?
И. С. Я должен был бы энать его с раннего детства, так как он был большим поклонником моего отца, и, возможно, бывал у нас в гостях. Отец пел в некоторых его операх, и я помню, как в 1901 г. меня послали к Кюи со специальным приглашением на оперный спектакль, которым отмечался его юбилей: мой отец хотел оказать ему внимание. Я часто видел Кюи в концертах, но помню его не иначе, как одетым в военный мундир – брюки с лампасами и мундир, к которому в особых случаях прикреплялся небольшой ряд медалей. Кюи продолжал читать лекции в санкт-петербургской Военной академии до конца жизни. Говорят, он был авторитетом по фортификации. Я думаю, что он знал о ней больше, чем о контрапункте, и мое представление о Кюи как о своего рода Клаузевице, неотделимо от представления о нем как о музыканте. Он держался по-военному подтянуто, и разговаривавшие с ним наполовину чувствовали себя вынужденными стоять навытяжку. Несмотря на свой возраст, он регулярно бывал на концертах и других музыкальных мероприятиях Санкт-Петербурга, и музыканты моего поколения приходили глазеть на него, как на большую диковину.
Кюи был яростным антивагнерианцем, но он мало что мог выдвинуть в противовес – это был случай, когда «больше сути в нашей вражде, чем в нашей любви». К его ориентализму я также не мог относиться серьезно. «Русская» музыка, или «венгерская», или «испанская» или какая-нибудь другая национальная музыка XIX века столь же мало национальна, сколь скучна. Однако Кюи помог мне «открыть» Даргомыжского, и за это я благодарен ему. В то время из опёр Даргомыжского наиболее популярной была «Русалка», но «Каменного гостя» Кюи ставил выше. Его статьи привлекли мое внимание к замечательным речитативам «Каменного гостя», и хотя я не знаю, что подумал бы об этой музыке сегодня, тогда она оказала влияние на мой образ мыслей в оперной композиции.
Не знаю, слышал ли Кюи мою «Жар-птицу». Я думаю, он присутствовал на премьерах Фантастического скерцо и «Фейерверка», но не помню ничего о его реакции на эти вещи. (И)
Антон АренскийР. К. А Антон Аренский?
И. С. Аренский был композитором московской школы – другими словами, последователем Чайковского. Я – ученик Римского-Корсакова и именно по этой причине не мог хорошо его знать. Во всем, что касалось Аренского, Римский был, я полагаю, несправедливо резким и жестоким. Он критиковал музыку Аренского излишне придирчиво, и замечание, которое он разрешил напечатать после смерти Аренского, было жестоким: «Аренский сделал очень мало, и это немногое будет скоро забыто». Я присутствовал вместе с Римским на спектакле «Сон на Волге» Аренского. Музыка, действительно, была скучной, и попытка Аренского создать мрачную атмосферу путем использования бас-клар– нета вылилась в фарс из ковбойской пьесы. Но то, что Римский, обратившись ко мне, громко воскликнул: «Благородный бас– кларнет не должен использоваться таким позорным образом», должно было быть услышано в нескольких рядах впереди нас и затем, конечно, разнестись по всему театру.
Аренский, однако, относился ко мне дружелюбно, с интересом и помогал мне; мне всегда нравился он сам и, по меньшей мере, одна из его вещей – знаменитое фортепианное трио. Все-таки он кое-что значил для меня, хотя бы потому уже, что был лично связан с Чайковским. (II)
Сергей ТанеевР. К. А Сергей Танеев?
И. С. Я видел Танеева время от времени, а именно – каждый раз, когда он приезжал в Санкт-Петербург, так как жил он в Москве. Он тоже был учеником Чайковского и иногда заменял Чайковского в его классах в Московской консерватории. Танеев
был хорошим педагогом, и его трактат по контрапункту – одну из лучших книг этого рода – я очень высоко ценил в молодости. Я уважал Танеева как композитора, особенно за некоторые места его оперы «Орестея», и глубоко восхищался им как пианистом. Но со стороны Римского к нему наблюдалась та же враждебность, и с бедным Танеевым в Петербурге обходились очень несправедливо. Я мог бы добавить, что Танеев до некоторой степени внушал нам благоговение по причине, не имеющей отношения к музыке: было широко известно, что он принадлежит к числу близких друзей графини Толстой.
Лядов ВитольР. К. Каковы были ваши взаимоотношения с Анатолием Лядовым – в особенности после того, как вы приняли не выполненный им заказ на сочинение «Жар-птицы»?
И. С. Лядов был прелестным человеком, таким же нежным и очаровательным, как его «Музыкальная табакерка». Мы называли его «кузнец», понятия не имею – почему, так как он был мягким, кротким и вовсе не походил на кузнеца. Небольшого роста, с симпатичным лицом, он имел привычку щуриться и был лысоват. Он всегда носил под мышкой книги – Метерлинка, Э. Т. А. Гофмана, Андерсена: он любил чувствительные, фантастические вещи. Он был композитором «короткого дыхания» и звучания «пианиссимо», и никогда не смог бы написать длинный и шумный балет вроде «Жар-птицы». Когда я принял заказ, он почувствовал скорее облегчение, чем обиду.
Мне нравилась музыка Лядова, особенно «Кикимора», «Баба– Яга» и фортепианные вещи. Он хорошо чувствовал гармонию, и его музыка всегда хорошо инструментована. Возможно, мне до некоторой степени мерещилась «Музыкальная табакерка», когда я сочинял вещь подобного же рода – Вальс из моей Второй сюиты для малого оркестра. Я часто сопровождал Лядова в концерты, но если мы приходили туда не вместе, и ему случалось увидеть меня в зале, он всегда звал меня, чтобы я мог следить с ним вместе по партитуре. Я не знаю, слышал ли он «Жар– птицу» в последующие годы, но уверен, что в этом случае он защищал бы ее. Он был самым прогрессивным среди музыкантов его поколения и покровительствовал моим первым сочинениям. В начале карьеры Скрябина, когда тот еще не получил признания широкой публики, кто-то в присутствии Лядова (и моем) назвал Скрябина чудаком, на что Лядов сказал: «Мне нравятся такие чудаки».
Думая о Лядове, я вспоминаю другого композитора, и поскольку вам не придет в голову спрашивать меня о нем, я упомяну о нем сам. Иосиф Витоль, композитор и педагог – он сотрудничал с Римским-Корсаковым в одном или двух произведениях и был коллегой Лядова в ужасйой музыкальной тюрьме, именуемой Санкт-Петербургской консерваторией, – человек столь же приятный, как Лядов, также во многом помогал мне. Он был веселым, круглолицым, с «круглыми» руками, похожими на кошачьи лапы. Позднее он жил в Риге, и когда я посетил этот город во время концертного турне 1934 г., он принял меня с княжеским радушием и гостеприимством. (II)
СкрябинР. К. Каковы были ваши взаимоотношения со Скрябиным в Санкт-Петербурге и позднее, когда им заинтересовался Дягилев? Оказал ли Скрябин какое-нибудь влияние на вас?
И. С. Я не помню моей первой встречи со Скрябиным, но она, вероятно, произошла на дому у Римского-Корсакова, так как мы часто встречались с ним в годы моего учения у Римского. Он же сам был настолько бестактен, а его высокомерное обращение со мной и с другими учениками Римского было столь отвратительно, что я никогда не испытывал желания поддерживать это знакомство. Римскому он тоже не нравился; когда бы в разговорах со мной он ни упоминал о Скрябине, он всегда называл его «этот Нарцисс». Композиторский талант Скрябина Римский тоже ставил не очень высоко: «Но это рубинштейновское» (в то время «Антон Рубинштейн» было нарицательным термином для обозначения гадости).
Как ученик Танеева, Скрябин был подкован в области контрапункта и гармонии лучше большинства русских композиторов – он был гораздо лучше экипирован в этих вопросах, чем, например, Прокофьев, возможно, более ярко одаренный.
Основой для Скрябина служило творчество Листа, что естественно для композитора его поколения. Я ничего не имел против Листа, но мне не нравилась манера Скрябина постоянно дискутировать на тему о направлении Шопен – Лист, противопоставляя его германским традициям. В другом месте я описал, как он был шокирован, когда я выразил свое восхищение Шубертом. Чудесную фа-минорную фантазию Шуберта для фортепиано в четыре руки Скрябин считал музыкой для барышень. И большинство его музыкальных суждений были не лучше этого. В последний раз я видел его в Ушй, незадолго перед смертью: его отец был русским консулом в Лозанне, а я ездил туда для отметки паспорта. Александр Николаевич только что прибыл туда. Он говорил со мной о Дебюсси и Равеле и о моей собственной музыке.
Он был абсолютно лишен проницательности: «Я могу показать вам, как писать в стиле их французских ужимок. Возьмите мелодическую фигуру из пустых квинт,' смените ее увеличенными б4а аккордами, добавьте башню из терций до получения достаточного диссонанса, затем повторите все это в другом ключе, и вы сможете сочинять настолько под Дебюсси и Равеля, насколько пожелаете». Он ничем не обнаружил свое отношение к моей музыке (в действительности же он пришел в ужас от «Весны священной»; однако я сам виноват, что воспринял это как неожиданность, поскольку знал, что до него «не дошли» ни «Петрушка», ни «Жар-птица»).
Мода на Скрябина началась в Санкт-Петербурге около 1905 г. Я объяснял это больше его феноменальными пианистическими данными, нежели чем-либо новым в его музыке, но, независимо от причины, к нему действительно внезапно возник очень большой интерес, и его провозглашали «новатором», во всяком случае в авангардистских кругах.
Отвечая на ваш вопрос, скажу, что незначительное влияние Скрябина сказалось в пианистическом почерке моих этюдов, опус 7. Человек поддается влиянию со стороны того, что он любит, я же никогда не любил ни одного такта из его напыщенной музыки. Что касается короткой карьеры Скрябина у Дягилева, я знаю только почему она была короткой: с точки зрения Дягилева, Скрябин оказался «анормальным». Дягилев предполагал противное и решил взять его в Париж, говоря мне: «Я покажу Парижу музыку Скрябина». Этот показ, однако, успеха не имел.
Скрябин очень любил книги. Вилье де Лиль Адан, Гюисманс п вся компания «декадентов» сводили его с ума. То было время символизма,' и в России Скрябин и Константин Бальмонт стали его божками. Он был также последователем г-жи Блаватской п сам считался серьезным и видным теософом. Я не понимал этого, так как для моего поколения г-жа Блаватская уже совершенно вышла из моды, но я уважал его убеждения. Скрябин имел высокомерный вид, белокурые волосы и белокурую бородку. Его смерть была трагической и преждевременной, но я иногда спрашивал себя: какого рода музыку мог бы писать такой человек, дожив до 20-х годов? (II)