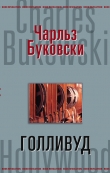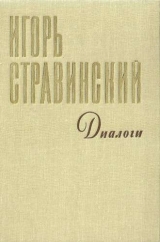
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
Р. К. Не припомните ли вы, какие инструменталисты, певцы и дирижеры произвели на вас в Санкт-Петербурге наибольшее впечатление?
И. С. Первым мне приходит на память Леопольд Ауэр, возможно потому, что я видел его чаще других исполнителей, но также потому, что он очень хорошо относился ко мне. Ауэр был «солистом его величества»; это означало, что в императорском балете ему поручалось соло в «Лебедином озере». Помню, как он входил в оркестровую яму, играл скрипичное соло (стоя, как на концерте), и затем уходил. Техника у Ауэра была, разумеется, мастерской, но как это часто бывает у виртуозов, она расходовалась, на второразрядную музыку. Он снова и снова играл концерты Вьетана и Венявского, но отказывался исполнять концерты Чайковского и Брамса. Ауэр любил говорить о «секретах» своего мастерства; он часто хвастался, что делает октавы немного нечистыми, чтобы «помочь публике осознать, что я в самом деле играю октавами». У меня с ним всегда были хорошие отношения, и в дальнейшем я встречался с ним во время заграничных поездок – в последний раз это было в Нью-Йорке в 1925 г., когда нас сфртографировали вместе с Крейслером.
София Ментер, Иосиф Гофман, Рейзенауэр, Падеревский, Са– расате, Изаи и Казальс были среди тех, кого я помню со времен своей молодости, и из них наибольшее впечатление на меня произвели Изаи и Иосиф Гофман. Однажды я посетил Изаи в Брюсселе во время моей поездки туда в 20-х гг. и рассказал ему, как в молодости в Санкт-Петербурге был потрясен его игрой. Я не встречался с Сарасате, но познакомился с его другом Гранадосом в Париже в период постановки «Жар-птицы». Гофмана я знал хорошо, и в годы моих занятий пианизмом его игра была для меня источником наслаждения. В 1935 г. мы вместе ехали в США н& пароходе «Рекс», и тут я обнаружил, что он человек раздражительный и очень много пьющий; первое свойство усугублялось вторым. Ему, естественно, не нравилась моя музыка, но я все же не ожидал, что он накинется на нее в разговоре со мной, как он сделал это однажды вечером после того, как услышал Каприччио под моим управлением (в Рио де Жанейро в 1936 г.), высказав с откровенностью пьяного все, что у него было на уме.
С трудом припоминаю сольные концерты певцов в Санкт-Петербурге, возможно, по той причине, что эти концерты были для меня пыткой. Однако я ходил слушать Аделину Патти всего лишь из любопытства, так как в то время голос этой крошечной женщины в большом оранжевом парике звучал, как велосипедный насос. Все певцы, которых я хорошо запомнил, пели в опере, и единственной знаменитостью среди них был Шаляпин. Человек большого музыкального и артистического таланта, Шаляпин, когда он бывал в форме, поистине поражал. Сильнейшее впечатление он производил на меня в «Псковитянке», но Римский не соглашался: «Что мне делать? Я автор, а он не обращает никакого внимания на то, что я говорю». Характерные для Шаляпина плохие черты проявлялись, когда он слишком часто выступал в одной роли, например в «Борисе», где с каждым спектаклем он все более и более лицедействовал. Шаляпин обладал также талантом рассказчика и в возрасте от 21 до 23 лет, часто встречая его у Римского, я с большим удовольствием слушал его рассказы. Ведущий бас Мариинского театра, Шаляпин был преемником моего отца, и я помню спектакль «Князя Игоря», когда они вместе выходили кланяться – отец в роли Скулы, Шаляпин в роли Галицкого, и отец жестом объяснил публике эту преемственность. На память мне приходят три тенора Мариинского театра: Собинов, легкий лирический тенор – идеальный Ленский, Ершов – «героический тенор», выдающийся Зигфрид (позднее он пел Рыбака в петроградской постацовке моего «Соловья») и Николай Фигнер – друг Чайковского и король оперы в Санкт-Петербурге. Ведущими певицами были Фелия Литвин – поразительно блестящая Брунгильда, поражавшая своим крошечным ртом, и Мария Кузнецова – драматическое сопрано, которую можно было лицезреть и слушать с одинаковым аппетитом.
Я уже отмечал, что из дирщкеров наибольшее впечатление на меня произвел Густав Малер. Частично я объясняю это тем, что он был также композитором. Самые интересные дирижеры (хотя, конечно, не обязательно самые эффектные или принимаемые с наибольшим воодушевлением) являются одновременно композиторами, и только они могут действительно по-новому постигнуть суть музыки. Современные дирижеры, больше всех продвинувшие вперед технику дирижирования (связь между исполнителями), – это Булез и Мадерна, оба композиторы. Жалкие же музыканты, делающие карьеру дирижера, не могут угнаться за дирижерами– композиторами по той простой причине, что они только дирижеры, а это означает, что они всегда останавливаются у какой-то черты, в какой-то определенной нише прошлого. Конечно, среди них были и хорошие дирижеры – Мотль, чей «Зигфрид» произвел на меня большое впечатление, Ганс Рихтер и др., – но дирижирование – это область, очень близкая к цирку, и иногда акробаты мало чем отличаются от музыкантов. Никиш, например, при исполнении гораздо больше имел в виду публику, чем самую музыку, и программы его бывали составлены так, чтобы обеспечить успех. (Однажды я встретил Никита на улице около консерватории уже после того, как я был представлен ему. Что-то во мне показалось ему знакомым, возможно, мой большой нос, потому что он воспользовался случаем и сказал мне: «Es freut mich so sie zu sahen, Herr Bakst.»4)
Но звездой среди петербургских дирижеров был Направник. Поскольку Направники и Стравинские занимали квартиры в смежных домах, я видел знаменитого дирижера почти что ежедневно и хорошо знал его. Отец пел в опере «Дубровский», и в то время у нас были с ним весьма дружеские отношения. Однако, как почти все профессиональные дирижеры, Направник обладал примитивной культурой и неразвитым вкусом. Этот маленький, жесткий человек с хорошим слухом и хорошей памятью был полным хозяином Мариинского театра. Его выход на концертные подмостки или в оперную яму действительно выглядел очень величественно, но еще более волнующим событием был момент снятия им перчатки с левой руки. (Дирижеры в то время носили во время исполнения белые перчатки, чтобы лучше было видно, как они отбивают такт – во всяком случае, так они утверждали; однако Направник использовал свою левую руку главным образом, чтобы поправлять пенсне на носу. Ни на одно животное в период линьки никто и никогда еще не смотрел с таким вниманием, с каким смотрели на Направника, когда он стягивал свою перчатку.) (III)
Дягилев и его балет
ТанцовщикиР. К. Сохранили ли вы воспоминания о первом в вашей жизни посещении балетного спектакля?
И. С. Меня впервые взяли на «Спящую красавицу», когда мне было семь или восемь лет. (Припоминаю, что был на «Жизни за царя» в более старшем возрасте. Это противоречит одному моему прежнему заявлению о том, что первым музыкальным спектаклем, на котором я присутствовал, был «Жизнь за царя» !). Балет очаровал меня, но я уже заранее был подготовлен к тому, что увижу, так как балет играл видную роль в нашей культуре и был знакомым предметом с самого раннего моего детства. Поэтому я разбирался в танцевальных позициях и движениях, знал сюжет и музыку. Кроме того, Петипа, хореограф, дружил с моим отцом, и я видел его много раз. Что касается самого спектакля, помню, однако, только мои музыкальные впечатления; вероятно это были «впечатления о впечатлениях» моих родителей, излагавшихся мне впоследствии. Но танцы меня действительно взволновали, и я аплодировал изо всех сцл. Если бы я мог перенестись на семьдесят лет назад к тому вечеру, я сделал бы это единственно ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство относительно темпов: меня всегда интересовал вопрос о темпах исполнения в другие времена.
Становясь старше, я все яснее понимал, что балет как таковой закостеневает и что фактически он уже является строго условным искусством. Разумеется, я не мог считать его средства столь же способными к развитию как музыкальные, и выразил бы большое недоверие, если бы кто-нибудь стал утверждать, что новейшие тенденции в искусстве будут исходить от него. Но возникли ли бы эти тенденции без Дягилева? Не думаю. (И)
Павлова, ЧекеттиР. К. Кем из артистов балета вы больше всего восхищались в ваши студенческие годы?
И. С. Анной Павловой. Однако она никогда не была членом дягилевской труппы, хотя он очень хотел, чтобы она примкнула к ней. Я виделся с Павловой в декабре 1909 г. у нее дома в Санкт-Петербурге. Дягилев просил ее пригласить меня на вечер, надеясь, что после знакомства со мной она. согласится танцевать партию Жар-птицы. Помню, что у нее тогда были также Бенуа и Фокин и что было выпито много шампанского. Но что бы Павлова ни думала лично обо мне, она не взялась танцевать Жар– птицу. Думаю, что причиной ее отказа послужили мое Фантастическое скерцо и «Фейерверк». Она считала эти произведения до ужаса декадентскими. («Декадентский» и «современный» были тогда синонимами, тогда как теперь «декадентский» часто означает «недостаточно современный».)
Линии поз и выразительность мимики Павловой были неизменно прекрасны, но самый танец казался всегда одним и тем же и совершенно лишенным творческого интереса. В самом деле, я не помню различий в ее танце между 1905 или 1906 г., когда я впервые видел ее в Санкт-Петербурге, и 30-ми гг., когда я в последний раз видел ее в Париже. Павлова была художником, но искусство ее далеко отстояло от мира дягилевского балета. (И)
Р. К. От кого вы почерпнули больше всего сведений о технике танца?
И. С. От маэстро Чекетти, старшего из артистов балета и бесспорного авторитета в каждом танцевальном па каждого нашего балета. Все члены труппы, от Нижинского до учеников, благоговели перед ним. Это был очень приятный человек, и мы подружились с ним еще в Санкт-Петербурге. Разумеется, его знания ограничивались классическим танцем, и он противился общему направлению Русского балета, но Дягилеву нужен был именно его академизм, а не его эстетические взгляды. Он оставался совестью танцевальной труппы во все время ее существования. Была там также синьора Чекетти, тоже танцовщица и до того похожая на своего мужа, что их можно было принять за близнецов. Дягилев называл ее «Чекетти в юбочке». Однажды я видел ее танцующей в кринолине с большой «лодкой» из папье-маше на голове. Вообразите, как я был счастлив, когда Чекетти согласился танцевать Фокусника в «Петрушке». Ему-то не нужно было приклеивать фальшивую бороду! (II)
ФокинР. К. Помните ли вы фокинскую хореографию первых постановок «Жар-птицы» и «Петрушки»?
И. С. Да, помню, но вообще-то мне не нравились танцы ни в одном из этих балетов. Женщины-танцовщицы в «Жар-птице» (царевны) были однообразно милыми, в то время как мужчины– танцовщики были до крайности грубо мужественными: в сцене с Кащеем они сидели на полу, брыкая ногами глупейшим образом. Фокинской постановке балета в целом я предпочитаю хореографию Баланчина в постановке сюиты из «Жар-птицы» в 1945 г. (и музыку тоже: балет целиком слишком длинен, и музыка его слишком разношерстна по качеству).
В «Петрушке» Фокин тоже не осуществил моих замыслов, хотя я и подозреваю, что на этот раз больше виноват был Дягилев. Я задумал Фокусника в духе героев Гофмана, как лакея в тесно облегающем синем фраке с золотыми звездами, а вовсе не как русского горожанина. Музыка флейт звучит в стиле Вебера или Гофмана, а не русской «Пятерки». Арапа я также представлял себе в стиле карикатур Вильгельма Буша, а не просто как характерного комика, каким его обычно делают. Кроме того, мне представлялось, что Петрушка будет наблюдать танцы в четвертой картине (кучеров, нянюшек и др.) сквозь дырку в стене своей каморки, и что мы, публика, тоже увидим их в перспективе, из его каморки. Общий танец на всей сцене в этом месте драмы мне никогда не нравился. Фокинская хореография оказалась сомнительного качества и в самом ответственном моменте. Дух Петрушки, на мой взгляд, является настоящим Петрушкой, и его появление в конце делает из Петрушки предыдущих сцен обыкновенную куклу. Его жест не означает ни триумфа, ни протеста, как об этом часто говорят, но лишь длинный нос по адресу публики. Смысл этого жеста никогда не был раскрыт в постановке Фокина. Однако одно его изобретение было замечательным, это движение негнущейся руки незабываемый жест в исполнении Нижинокого.
Фокин был самым неприятным человеком, с которым я когда– либо работал. Мы никогда не были друзьями, даже в первый год нашего сотрудничества: я держал сторону Чекетти, а Чекетти был для него только академистом. Несмотря на это, Дягилев согласился с моим мнением, что поставленные Фокиным танцы в «Князе Игоре» рекомендуют его как наилучшего из наших квалифицированных балетмейстеров для постановки «Жар-птицы». После «Жар-птицы» и «Петрушки» я мало общался с ним. Он был избалован успехом в Америке и потом всегда напускал на себя вид «я победил Америку». В последний раз я видел его с Идой Рубинштейн. Он должен был поставить для нее танцы моего «Поцелуя феи», но сделала это, в конце концов, Бронислава Нижинская, и я был очень доволен. Затем, вплоть до конца его жизни (1942), я получал от него жалобы по деловым вопросам или по поводу отчислений с поспектакльной оплаты «Жар– птицы», о которой он говорил: «его музыкальное сопровождение» к «моей хореографической поэме»* (И)
Нижинский и НижинскаяР. К. Можете ли вы добавить что-либо к тому, что раньше писали о Вацлаве Нижинском?
И. С. Когда Дягилев познакомил меня с Нижинским – в Санкт-Петербурге в 1909 г., – я сразу заметил необычность его конституции. Я заметил также странные провалы в его личности. Мне нравилась его застенчивость и мягкая польская манера речи, и он сразу стал со мной очень откровенным и нежным – но он всегда был таким. Позже, когда я лучше узнал его, он мне показался по-ребячьи избалованным й импульсивным. Еще позже я стал понимать, что эти провалы были своего рода стигматом;[48]48
Здесь – знаком судьбы, психического заболевания, поразившего Ни. жинского в 20-х гг. – Ред.
[Закрыть]я не мог и вообразить тогда, что они так скоро и так трагически погубят его. Я часто думаю о Нижинском последних лет его жизни, о пленнике собственного разума, неподвижном, пораженном в своем прекраснейшем даре – экспрессии движений.
Когда мй с ним познакомились, Нижинский был уже известен, но вскоре еще более прославился благодаря одному скандалу. Дягилев. взял на себя заботу о его костюмах – они жили вместе, – в результате чего Нижинский появился на подмостках императорского театра в столь тесно облегающем наряде, какого еще никто никогда не видел (фактически, в спортивном бацдаже, сшитом из платочков). Присутствовавшая на спектакле императрица-мать был шокирована. На Дягилева и князя Волконского, директора театра, чьи наклонности были аналогичны дягилевским, пало подозрение в заговоре против общественных приличий. Сам царь был шокирован. Он упомяйул об этом эпизоде в разговоре с Дягилевым, но получил весьма краткий ответ, вследствие чего Дягилев никогда больше не пользовался расположением в официальных кругах. Я сам столкнулся с этим, когда по его просьбе пошел к послу Извольскому, чтобы попытаться получить заграничный паспорт для одного артиста балета призывного возраста. Поняв, что я действую от имени Дягилева, Извольский заговорил холодным, дипломатическим тоном. (Позднее я часто бывал дягилевским послом, в особенности «финансовым» – или, как он сам называл меня, его сборщиком податей.)
Возвращаясь к скандалу в императорском театре, надо сказать, что виновником был не Нижинский, а Дягилев. Нижинский всегда был очень серьезным, благородным человеком и, по-моему, никогда не смотрел на свои выступления с дягилевской точки зрения. Еще больше я в этом уверился впоследствии в Париже, когда он танцевал в «Послеполуденном отдыхе фавна». Знаменитое представление любовного акта, исполненное в натуралистической манере в этом балете было целиком измышлено Дягилевым, но даже в таком виде исполнение Нижинского являло собой столь изумительно концентрированное искусство, что только глупец возмутился бы этим зрелищем – правда, я обожал этот балет.
Нижинский был абсолютно бесхитростным человеком. Больше того, он был до наивности, до ужаса честным. Он никогда не мог понять, что в обществе не всегда говорят то, что думают. На одном вечере в Лондоне, незадолго до премьеры «Весны священной», леди Райпон затеяла шуточную игру, в которой все мы должны были решать, на какое животное каждый из участников больше всего походит – опасную игру. Леди Райпон начала первая заявлением, что «Дягилев похож на бульдога, а Стравинский на лисицу. Ну-ка, Нижинский, как вы думаете, на кого же похожа я?» Нижинский задумался на один момент, затем сказал ужасную, точную правду: «Вы, мадам, верблюд» – всего эти три слова; Нижинский плохо говорил по-французски. Леди Райпон, конечно, не ожидала такого сопоставления, и хотя она повторила за ним: «Верблюд? Как забавно! Однако! Действительно верблюд?» – в течение всего вечера она пребывала в возбуждении.
Меня разочаровало в Нижинском его незнание музыкальных азов. Он никогда не мог понять музыкального метра, и у него не было настоящего чувства ритма. Поэтому ад можете себе вообразить ритмический хаос, который являла собой «Весна священная», в особенности в последнем танцевальном номере, когда бедная мадемуазель Пильц – Избранница, приносимая в жертву, – не могла понять даже смены тактов. Нижинский не сделал ни малейшей попытки проникнуть в мои собственные постановочные замыслы в «Весне священной». Например, в Пляске щеголих мне представлялся ряд почти неподвижных танцовщиц. Нижинский сделал из этого куска большой номер с прыжками.
Я не говорю, что творческое воображение Нижинского было ограниченным; наоборот, оно было чуть ли не слишком богатым. Но все дело в том, что он не знал музыки, и потому держался примитивного представления о ее взаимосвязи с танцем. До некоторой степени это можно было исправить обучением, так как он, конечно, был музыкален. Но он стал главным балетмейстером Русского балета, будучи безнадежно несведущим в вопросах музыкальной техники. Он полагал, что танец должен выявлять музыкальную метрику и ритмический рисунок посредством постоянного согласования. В результате танец сводился к ритмическому дублированию музыки, делался ее имитацией. Хореография, как я ее понимаю, должна обладать своей собственной формой, не зависящей от музыкальной, хотя и соразмеряемой с ее строением. Хореографические конструкции должны базироваться на любых соответствиях, какие только может изобрести балетмейстер, но не просто удваивать рисунок и ритм музыки. Я не знаю, как можно быть балетмейстером, не будучи в первую очередь музыкантом, подобным Баланчину.
Нижинский был наименее музыкальным из сотрудничавших со мной балетмейстеров, но зато обладал талантом по другой линии – и одного этого таланта было вполне достаточно. Его мало назвать танцовщиком, в еще большей степени он был драматическим актером. Его прекрасное лицо, хотя оно и не было красивым, могло становиться самой впечатляющей актерской маской из всех, какие я видел. В роли Петрушки он был самым волнующим существом, когда-либо появлявшимся передо мной на сцене.
Недавно я нашел письмо от Нижинского, адресованное мне в Россию, но пересланное в Швейцарию, где я тогда находился. Это документ, свидетельствующий о такой потрясающей невинности, что не будь оно написано Нижинским, я подумал бы, что его написал кто-нибудь из героев Достоевского. Мне даже сейчас кажется невероятным, что он не отдавал себе отчета в интригах, сексуальной ревности и движущих силах внутри Русского балета. После постановки «Весны священной» я никогда больше не встречался с Нижинским, таким образом я знал его только в течение четырех лет. Но эти четыре года были золотым веком Русского балета, и я встречался с ним тогда почти ежедневно. Я не помню, что я ответил на это письмо, но Дягилев уже вернулся в Россию, и когда я увиделся с ним во время его следующей поездки в Париж, бедного Нижинского «заменил» Мясин. (II)
Р. /Г. Кто же тогда в дягилевские времена был самым интересным вашим балетмейстером?
Я. С. Бронислава Нижинская, сестра Нижинского. Ее хореография для первых постановок «Байки про Лису» (1922) и «Свадебки» (1923) нравилась мне больше хореографии любого из моих балетов, поставленных дягилевской труппой. Ее концепция «Свадебки» в групповых и массовых сценах и ее акробатическая «Байка про Лису» соответствовали моим замыслам, так же как реальным, – но не реалистическим – декорациям. «Свадебка» была оформлена в желтых тонах оттенка пчелиного воска; костюмы – крестьянская одежда коричневого цвета вместо отвратительных не-русских красных, зеленых и синих костюмов, обычно фигурирующих в иностранных постановках русских произведений. «Байка» была ведь также настоящей русской сатирой. Животные отдавали честь подобно русским военным (это понравилось бы Оруэллу), и в их движениях всегда был скрытый смысл. Постановка «Байки про Лису» Нижинской во много раз превосходила таковую при возобновлении этого спектакля в 1929 г., хотя последний был испорчен, главным образом, фокусниками, приглашенными Дягилевым из цирка, – идея, отнюдь не имевшая успеха.
Бедной Брониславе не повезло с Дягилевым> Поскольку у нее было скуластое и интересное лицо, вместо того чтобы быть кукольным, Дягилев воспротивился ее исполнению роли Балерины в «Петрушке». А танцовщицей она была непревзойденной. В самом деле, Нижинские – брат и сестра вместе – были наилучшей балетной парой, которую только можно вообразить.
Р. К. Насколько проницательны были суждения Дягилева о музыке? Каков, например, был его отзыв о «Весне священной» при первом прослушивании?
И. С. Дягилев обладал не столько способностью музыкальной оценки, сколько замечательным чутьем возможного успеха данного музыкального произведения или вообще произведения искусства. Когда я сыграл ему на рояле начало «Весны» (Весеннее гадание), он, несмотря на свое удивление и вначале ироническое отношение к длинному ряду повторяющихся аккордов, быстро осознал, что дело в чем-то ином, нежели в моей неспособности со– чиндть более разнообразную музыку; он сразу же принял всерьез мой новый музыкальный язык, понял его ценность и возможность коммерческого успеха. Вот, по-моему, о чем он думал, впервые слушая «Весну». (I)
Р. К. Достаточно ли хорошим было первое исполнение «Весны священной»? Помните ли вы что-либо еще о вечере 29 мая 1913 г.[49]49
В «Хронике» (стр. 91 русск. изд.) ошибочно указана дата 28 мая.
[Закрыть]помимо того, о чем уже писали?
Я. С. Я сидел в четвертом или в пятом ряду справа, и в моей памяти сегодня более жива спина Монтё, чем происходившее на сцене. Он стоял, на вид невозмутимый и столь же лишенный нервов, как крокодил. Мне до сих пор не верится, что он действительно довел оркестр до конца вещи. Я покинул свое место, когда начался сильный шум – легкий шум наблюдался с самого начала – и пошел за кулисы, где встал за Нижинским в правой кулисе. Нижинский стоял на стуле, чуть ли не на виду у публики, выкрикивая номера танцев. Я не понимал, какое отношение имеют эти номера к музыке, так как в партитуре нет никаких «тринадцатых» или «семнадцатых» номеров.
То, что я слышал, по части исполнения не было плохо. Шестнадцать полных репетиций внушили оркестру, по меньшей мере, некоторую уверенность. После «спектакля» мы были возбуждены, рассержены, презрительны и… счастливы. Я пошел с Дягилевым и Нижинским в ресторан.
Далекий от того, чтобы, согласно преданию, плакать и декламировать Пушкина в Булонском лесу, Дягилев отпустил единственное замечание: «В точности то, чего я хотел». Он, безусловно, казался довольным. Никто лучше него не знал значения рекламы, и он сразу понял, какую пользу можно в этом смысле извлечь из случившегося.
Весьма вероятно, что возможность такого скандала он предвидел уже в те минуты, когда несколькими месяцами ранее, в восточной угловой комнате нижнего этажа Гранд-отеля в Венеции, я впервые проигрывал ему партитуру. (I)