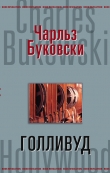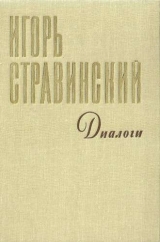
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
От издательства
В современной борьбе идей особо серьезное значение приобретают критический анализ и оценка творчества таких больших и влиятельных мастеров культуры, как Хемингуэй, Пикассо и Матисс, Чаплин и Феллини, Стравинский. Различны и подчас противоречивы их творческие пути. Но так или иначе лучшими своими сторонами их искусство входит в культурное достояние человечества.
Игорь Федорович Стравинский – одна из наиболее видных фигур в музыкальном искусстве XX века. Перу этого выдающегося композитора современности принадлежит свыше ста произведений в различных жанрах, многие из которых ~ в особенности ранние – приобрели репутацию классических и прочно закрепились в зарубежном и советском концертно-театральном репертуаре.
Со смертью Стравинского, последовавшей 6 апреля 1971 года на 89-м году жизни, завершилась целая полоса в истории современного музыкального искусства – долгая, богатая событиями композиторская биография, в истоках своих связанная с русской музыкальной классикой и непосредственным влиянием таких ее крупнейших представителей, как Римский-Корсаков и Чайковский. Под воздействием различных тенденций современной ему буржуазной культуры Западной Европы и Америки Стравинский впоследствии отошел от этих первоистоков. И все же с годами становится яснее, насколько глубоки и прочны русские черты в его художественной индивидуальности и творчестве; исследователям Стравинского еще предстоит– выявить и оценить их в полном объеме. Под конец жизни композитор сказал: «Я всю жизнь по-русски говорю, по русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней…»
Изучение этой– сложной, сотканной из противоречий и крайностей фигуры важно и необходимо по многим причинам. В течение более полувека – от «Жар-птицы» и «Петрушки» до последних сочинений, написанных в шестидесятых годах, – Стравинский владел вниманием музыкальной общественности, давал пищу для ожесточенных споров. Вокруг его сочинений сталкивались непримиримые мнения восторженных поклонников и возмущенных отрицателей. В этих спорах участвовали не только рецензенты и посетители концертных и театральных залов, но и выдающиеся деятели современного музыкального искусства. И каково бы ни было их отношение к музыке Стравинского, сама горячность этого отношения говорит о сильном влиянии, которое она оказывала на умы музыкантов XX века.
Выяснение роли Стравинского в эволюции современного музыкального творчества, а с другой стороны – влияния исторических, социальных и прочих условий на его композиторскую эволюцию – назревшая задача, актуальная не только в научном, но и в практическом плане. Только глубокое, разностороннее освещение с марксистских позиций позволит правильно понять значение творчества Стравинского в исторической перспективе, отчетливее отграничить черты положительные, плодотворные от черт случайных или бесплодных, вызванных идейно-эстетическими заблуждениями или подчинением буржуазным вкусам, – позволит тем самым вооружить советских музыкантов четкими ориентирами, поможет более сознательно и целеустремленно освоить действительные завоевания итравинского и претворить их в соответствии с путями и задачами социалистического искусства.
Таков долг в первую очередь советского музыкознания, призванного выработать научно объективный взгляд на это сложное явление художественной современности, противостоять попыткам идеологов модернизма оторвать творчество Стравинского от русских национальных корней, затушевать те его стороны, которые соприкасаются с прогрессивными тенденциями в современном искусстве.
В решении этой ответственной задачи заслуги советского музыкознания очевидны. Достаточно упомянуть «Книгу о Стравинском», выпущенную Б. В. Асафьевым в 1929 году, – первую обобщающую монографию об этом композиторе, которая доныне сохранила научную ценность. Посещение Стравинским Советского Союза в 1962 году, во– зобно'вление его связей с родиной активизировали интерес советской музыкальной общественности, исполнительских организаций, музыкантов и любителей музыки к личности и творчеству выдающегося соотечественника. В 1963 году вышло в свет монографическое исследование о Стравинском, написанное Б. Ярустовским (2-е, дополненное издание – 1969 год). Тогда же Ленинградским отделением издательства «Музыка» была впервые опубликована на русском языке мемуарная книга Стравинского «Хроника моей жизни». Затем последовали книги Н. Вершининой, И. Ков– шарь, В. Смирнова, статьи в специальных музыковедческих изданиях, журналах «Советская музыка» и. «Музыкальная жизнь»; к творчеству Стравинского все чаще обращаются авторы диссертационных работ, живой интерес вызывают его интервью, помещавшиеся в специальной и общей прессе.
Вместе с тем следует отметить, что успехи советского музыкознания в изучении творческого наследия Стравинского преимущественно связаны с двумя первыми десятилетиями его композиторской биографии; немногим продолжительнее период, освещенный им самим в «Хронике», доведенной до 1934 года. Последующие этапы его творческого пути известны значительно хуже.
К тому же в 30—60-х годах в силу многих обстоятельств художественная эволюция Стравинского становилась все более сложной и противоречивой, что сказалось и на художественной ценности конкретных произведений. Здесь требуется особенно внимательный анализ, разносторонний дифференцированный подход, учет и осмысление множества рзнородцых фактор4 сочинениях, взглядами на различные явления искусства XX и предшествующих столетий, с его пониманием эстетических проблем и вопросов композиторского мастерства, наконец, с его наблюдениями над собственным творческим процессом и художественной эволюцией.
Материалы этого рода богато представлены в книге, предлагаемой вниманию советского читателя. Ее содержание составляют беседы Стравинского со своим секретарем – дирижером Робертом Крафтом. Однако, по существу, это – монолог: Крафт (обозначен инициалами Р. К.) лишь задает краткие вопросы, высказывается же один Стравинский (И. С.).
Он касается множества тем: вспоминает подробности своего детства и юности, первых музыкальных учителей и русских композиторов начала века, сотрудничество с Дягилевым и участников его балетной антрепризы, музыкантов и литераторов, с которыми встречался и общался на Западе в последующие годы; детально освещает творческую историю многих своих сочинений; формулирует свои взгляды на музыкальное искусство, проблемы композиции и композиторской техники, свое отношение к классической музыке и к современному состоянию музыкальной культуры в Европе и США, заостряя внимание на ее кризисных проявлениях.
Высказывания Стравинского содержат обильный фактический материал, свидетельствуют о незаурядной широте общекультурного кругозора и эрудиции композитора, проникнуты убежденностью, отчетливо обнаруживают его позиции и изложены в интонации живой прямой речи. Эти высказывания, концентрирующие наблюдения большой, насыщенной жизни, обширный творческий опыт, итог многолетних размышлений, думается, не только будут ценным подспорьем для музыкантов и исследователей, но и вызовут интерес широкого круга любителей мемуарной литературы.
Память престарелого композитора поражает силой и цепкостью, однако по временам и она ошибается: некоторые факты в разных высказываниях освещены противоречиво, другие же – вовсе не подтверждаются (наиболее важные из таких погрешностей оговорены в комментарии и редакторских примечаниях).
Многое в высказываниях Стравинского может показаться неотразимо убедительным, но, чем убежденнее, энергичнее речь Стравинского, тем резче выступает – субъективность его суждений. Это й наибольшей мере относится к характеристикам тех представителей художественного мира, с которыми он так или иначе сталкивался. Эти характеристики порой заведомо односторонни, иногда явно несправедливы, в отдельных же случаях оскорбительны.
Когда речь заходит о явлениях искусства, чуждых или далеких ему как композитору, суждения Стравинского делаются едкими, ироничными, раздраженными или обидно небрежными. В таком тоне он позволяет себе делать замечания по адресу многих музыкантов. Таковы некоторые его высказывания о Глинке, Чайковском, «кучкистах», Стасове и др. Подготавливая русский перевод Диалогов, издательство не считало нужным «улучшать» Стравинского, сглаживая остроту таких явно пристрастных выражений; острота эта, помимо всего, составляет неотъемлемую черту его индивидуальности, манеры высказывания и лишь с особой наглядностью подчеркивает субъективную ограниченность музыкальных вкусов говорящего. Лишь любовью к «красному словцу» можно объяснить хлесткость некоторых крайне несправедливых характеристик, тем более, что они отнюдь не определяют его отношения к данному композитору в целом, а порой и противоречат другим, более спокойным и взвешенным формулировкам. Так или иначе, они остаются на совести говорящего и интересны лишь как штрихи к его собственному портрету.
Еще критичнее следует относиться к мнениям Стравинского по общим идейно-эстетическим вопросам. При этом было бы ошибкой отождествлять Стравинского-мыслителя со Стравинским– композитором, поскольку его теоретические формулировки в ряде случаев не только не подтверждаются, но и опровергаются его же собственной художественной практикой. Чтобы разобраться в трудном вопросе взаимоотношений между словом этого глубоко противоречивого художника и его делом, между его субъективными убеждениями и объективной ценностью творчества, необходимо принимать во внимание множество обстоятельств.
В первую очередь они связаны с интеллектуальными воздействиями художественной среды, в которой формировался, а затем эволюционировал Стравинский, – с воздействиями, интенсивность которых соответствовала его пытливости, восприимчивости, а пестрота во многом объясняется тем, что его творческая жизнь проходила на пересечении различных идейных, философских и художественных течений. Мы многого не поймем, упустив из виду эту сторону вопроса.
Сильное влияние оказали на молодого Стравинского, на становление его художественных идеалов и критериев идеология и эстетика «Мира искусства». Преклонение перед искусством как таковым, вера в его самодовлеющую ценность, взгляд на музыку не как на «средство беседы с людьми» (Мусоргский), а как на цель, породили у него черты эстетской изысканности, преимущественный интерес к имманентным законам музыки, к выработке различных «манер», уведя, мысль от понимания идейной, социальной значимости художественного творчества. Ущербность социальной позиции особенно сильно сказалась в том, что молодой Стравинский прошел мимо. революционно-демократических освободительных идей, которыми жило русское общество и художественная мысль в конце XIX – начале
XX столетий. Идейно-гражданственная слепота в первую рчередь помешала композитору понять социальный пафос, национально демократические устремления русской музыкальной классики – то, что было для нее главным и определяющим. Отсюда – несправедливость близоруких, «музыкантских» отзывов о некоторых ее величайших представителях, в особенности о Мусоргском, в котором Стравинский проглядел гениального художника, выразителя большой социальной идеи, увидев лишь «самобытного музыканта».
Читая страницы, где Стравинский выступает как последовательный сторонник теории «искусства для искусства», следует учитывать, что за соответствующими декларациями кроется характерная для него острая неприязнь к «литературщине» в музыке, ко всевозможным разговорам «около» и «по поводу» нее; от таких разговоров он неизменно уклоняется. В этой своей неприязни он заходит настолько далеко, что распространяет ее и на вопросы идейного содержания, хотя некоторые «обмолвки» показывают, что подобные вопросы его занимали. Тем более, что содержательность музыки Стравинского во многих случаях неоспорима, и его конкретные соображения по поводу замыслов, собственных сочинений, будучи поняты в должном контексте и верно истолкованы, дают ценный материал для ее исследований в указанном плане.
Еще в «Хронике» Стравинский сделал ставшее печально знаменитым заявление, отрицавшее «выразительность» музыки. В данной книге композитор пытается разъяснить это, как он сам говорит, «досадно несовершенное» изречение, однако и здесь не достигает полной ясности. По– видимому, корни неверного понимания и восприя– тин музыки следует искать в идеалистических идеях о символичности форм человеческого познания и общения.
Мысли Стравинского относительно искусства как символизации действительности резко противоречат реалистическому принципу чувственно конкретного соответствия художественного образа жизненным явлениям и процессам. Однако его многочисленные свидетельства о непосредственных жизненных стимулах музыкальных замыслов окончательно опровергают сомнительные теоретические декларации, звучащие как обоснование бессодержательного формалистического зву– котворчества. Эти свидетельства помогают увидеть его музыку в новом свете, различить в ней и в музыкальном мышлении композитора реалистические элементы, в существовании которых можно усомниться, читая его парадоксальные, полемически заостренные формулировки.
Желая понять истоки и своеобразие так называемого «неоклассицизма» Стравинского, следует учесть не только его постоянную озабоченность поисками новых «моделей», но и стремление композитора обогатить свое творчество художественными завоеваниями многовековой европейской культуры, осовременить ее отстоявшиеся ценности.
Искания Стравинского-неоклассициста были сопряжены не только с удачами, но и с ошибками, заблуждениями, поражениями. Он говорит об этом откровенно, самокритично, и его высказывания позволяют увидеть живую картину неустанных поисков, противоречивых увлечений, падений и взлетов.
Искания эти продолжались и в годы, когда на склоне лет Стравинский вел публикуемые беседы, в годы, проходившие под знаком нового музыкального увлечения композиторской техникой и представителями так называемой «новой венской школы». Этой увлеченностью окрашены его отзывы, и воспоминания о главе школы, Шёнберге и его ближайших учениках – Веберне и Берге. Естественно, читатель отнесется к этим страницам книги особенно настороженно и критично, ибо здесь Стравинский наиболее непоследователен: всем складом своего мироощущения, строем музыки он резко противостоит эмоциональной взвинченности и пессимизму, с предельной остротой выразившимся в экспрессионистских крайностях «нововенцев».
Здесь отчетливее всего выступает непоследовательность, характерная и для других суждений Стравинского. В сложном переплетении высказываний этого композитора будущие исследователи, несомненно, смогут выделить то главное, что определяет своеобразие и место его творческого наследия в музыкальной культуре современности.
Настоящее издание является первой публикацией на русском языке четырех выпусков бесед Стравинского с Крафтом, изданных в 1959–1963 годах. Эти выпуски выходили спорадически, по мере накопления материала. Единый план в них отсутствует. К одним и тем же событиям, фигурам, проблемам собеседники возвращаются повторно. Кроме того, три четверти объема 4-го выпуска составляет дневник Крафта. При подготовке однотомного русского перевода было признано целесообразным объединить высказывания Стравинского из всех четырех изданий. При этом пришлось пожертвовать значительными по объему, но представляющими узко специальный интерес рабочими материалами по операм «Соловей», «Персефона», «Похождения повесы» и «Потоп» (наброски и отрывки сценариев и либретто, деловая переписка с либреттистами). Остальные сокращения касаются фрагментов, не имеющих существенного отношения к проблемам музыкального искусства и к творчеству Стравинского, – воспоминаний о членах царствовавшей фамилии и аристократической знати; кратких, частного характера, заметок о некоторых художниках и литераторах Запада.
Все высказывания Стравинского, касающиеся творческих проблем, были перекомпонованы и сведены в ряд тематически объединенных разделов.[1]1
Римская цифра в скобках в конце каждого фрагмента соответственно обозначает ту из четырех книг диалогов, из которой взят данный фрагмент.
[Закрыть]Задача облегчалась фрагментарностью вопросов и ответов, мозаичностью их соединения, зачастую не имевшей внутренней связи. Думается, такая перепланировка придала изложению большую стройность, упорядоченность, сделала сложное, многообразное содержание бесед легче обозримым. Отметим, что тот же принцип осуществлен в однотомном (также на основе четырех книг) чешском издании диалогов (Igor Stravinsky. Rozhovory s Robertem Craftem. Sup– raphon, Praha – Bratislava, 1967). В итоге материал разместился в трех крупных разделах (внутренне, в свою очередь, дифференцированных): 1. Из воспоминаний; 2. О своих сочинениях; 3. Мысли о музыке. Книгу завершают послесловие М. Друскина, научный комментарий И. Белецкого и наиболее полный из существующих, заново выверенный список сочинений
И. Стравинского, составленный И. Белецким и И. Блажковым.
В 1966 году за рубежом вышла в свет 5-я книга диалогов, где материалы, принадлежащие самому Стравинскому, занимают сравнительно небольшое место среди прочих, но содержат ценные авторские аннотации к ряду произведений разных, в том числе последних лет: к «Прибауткам», «Игре в карты», Симфонии in С, «Орфею», «Похождениям повесы», «Аврааму и Исааку», Вариациям для оркестра. К сожалению, эти материалы включить в данное издание не представилось возможным.

Мать композитора, А. К. Стравинская

 Отец, Ф. И. Стравинский
Отец, Ф. И. Стравинский
Часть первая Из воспоминаний о детстве и юности
Детство, старшие, школа
Р. К. Что вы помните о вашей детстве – о семье, родственниках, о первых друзьях, школьных впечатлениях, о первой услышанной и запомнившейся вам музыке? Я заметил, что вы всегда спите при свете; помните ли вы, отчего возникла эта привычка?
И. С. Ночью я могу спать, только если в комнату проникает луч света из соседнего помещения. Понятия не имею, как Появилась эта потребность, хотя корни ее следует искать в моем раннем детстве, и я уже не в состоянии вспомнить, каков именно был тогда источник света. (Во всяком случае не помню, чтобы в коридоре, куда выходила дверь из нашей с моим младшим братом комнаты, находился какой-нибудь ночник, и я твердо уверен, что традиционная лампада не горела перед единственной в нашей квартире иконой в комнате моей матери. Источником света, который я пытаюсь воскресить в памяти, должно быть служили кафельная печка, нагревавшаяся к ночи, – в углу нашей комнаты – или уличный фонарь под окном, выходившим на Крюков канал; поскольку отверстия в печной дверце иногда принимали вид угрожающих физиономий, полагаю, что успокоительно действовал свет от уличного фонаря.) Однако, что бы то ни было, и от какого бы рода нечистой силы это ни служило защитой, пуповина освещения дает мне ощущение надежности в мои 78[2]2
Написано в 1960 г. – Ред.
[Закрыть]лет так же, как когда мне было 7 или 8.
Но мир ребенка этого возраста, хотя бы в общих чертах, продолжает быть «надежным» и утром. Мой день начинался регулярно в 7 часов. До занятий в петербургской Второй гимназии оставалось два часа, но гимназия была далеко от нашего дома. Будила меня всегда моя няня Берта, самая «надежная» фигура в моем мирке, и ее голос больше всех других голосов моего детства выражал любовь ко мне. Часто, хотя и не всегда, будивший меня ввук ее голоса смешивался с шумом воды, наливаемой для меня в старинную оцинкованную ванну в конце коридора (двумя ступеньками выше пола). Туда доносились кухонные запахи, указывавшие на существование другого «надежного оплота», Каролины, кухарки-финки, жившей у нас в течение 30 лет.
Завтрак подавался горничными или Семеном Ивановичем. Я не помню горничных, так как они часто менялись; по мере того, как я рос, моя мать следила, чтобы и их возраст был более почтенным. Семен Иванович – мужчина невысокого роста, с небольшими, как у военных, усиками – одно время служил под началом моего дяди Вани. У него была, главным образом благодаря лысой голове, видная внешность, напоминавшая быка. Он жил в маленькой прихожей, у парадной лестницы, вернее делил эту дыру с грудой книг из отцовской библиотеки.
Я любил Семена Ивановича, и он, как я думаю, платил мне тем же, в большинстве случаев верноподданнически защищая мои интересы. Вероятно, он не раз спасал меня от немилости, но отчетливо я помню лишь один такой случай, когда я впервые напился. Я пошел на вечеринку со старшим братом и некоторыми его соучениками-студентами. Все мы были моложе 20 лет и все изображали из себя взрослых, за исключением брата, рано ушедшего домой. Один из собутыльников по какому-то случаю спросил меня, какого я пола, и тут я осознал, что мы все пьяны. Я неотступно твердил: «Я не могу идти домой… если бы меня увидели мои родители…» И действительно, я провел часть ночи в известном месте, где (с помощью моего брата) и был найден Семеном Ивановичем, который каким-то чудом ухитрился незаметно препроводить меня в мою комнату.
Семен Иванович жил в нашей семье тридцать лет и умер стариком перед самой революцией. Еще один островок «безопасности» существовал между ним и школой. Это был швейцар Захар, приятный старик в нелепой форме швейцарского педеля. Он тоже как будто обретался там в течение всей моей жизни.
Школа, разумеется, была гораздо менее «надежна», но и там были люди, достойные любви. Во Второй гимназии я особенно любил двух мальчиков, которые оба носили фамилию Смирнов, хотя и не были в родстве: их называли «Смирнов 1-й» и «Смирнов 2-й». Самым «надежным» в гимназии был, однако, священник, который перед началом занятий читал нудные молитвы и преподавал катехизис и священное писание, называемые «закон божий». Отец Рождественский пользовался большой популярностью среди учеников, тем не менее они жестоким образом изводили его, и на его уроках царил хаос. (Не могу представить себе, какого рода шаткие догмы он старался нам преподать – поистине, «закон божий».) Не думаю, чтобы к его урокам я проявлял больше интереса, чем другие ученики, и отец Рождественский должно быть понимал, что я ничего не знаю, и все же в нашем классе я был его любимцем.
В школах царского времени изучение Библии было связано не только с религией, но и с изучением языка, так как наша Библия написана по-церковно-славянски. Звучание славянской речи и изучение самого языка приводили меня в восторг, помогая высидеть на этих уроках. Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что мои школьные занятия большей частью сводились к изучению языков – латинского и греческого в возрасте от 11 до 19 лет, французского, немецкого, русского и славянского (похожего на современный болгарский) с первых дней обучения в гимназии. Мои друзья иногда жалуются, что я, как этимолог, имею привычку сравнивать языки. Но, прошу меня извинить, я напомню им, что проблемы языка занимали меня всю живнь – в конце концов, сочинил же я однажды кантату, которую назвал «Вавилон», – и даже сейчас, через полстолетия после того, как я покинул мир, говорящий по русски, я все еще думаю по-русски и говорю на других языках, переводя с него. (Однако, независимо от «надежности» отца Рождественского и немногих товарищей, я испытывал отвращение к гимназии и страстно желал навсегда освободиться от нее и от других учебных заведений.)
Еда в школьной столовой была отвратительна, и в знак протеста учащиеся устраивали забастовки, но успеха не добивались. Поэтому я всегда бывал голоден, особенно потому, что дома у нас не было дневного чаепития, чай пили только после обеда: Семен Иванович вносил самовар и поднос с булкой и вареньем фактически в то время, когда я уже отправлялся спать. Распорядок менялся лишь в те дни, когда отец пел в Мариинском театре. В дни спектаклей, сверх того, всех членов семьи пробирала дрожь, так как мой отец, нервничая, всегда становился очень раздражительным, а участие в спектакле неизменно заставляло его нервничать. (То же происходит со мной в дни моих концертов, и хотя мое недовольство – какими-нибудь особенно любимыми мной запонками или непослушным воротником – несомненно, всегда имеет некоторые основания, оно в то же время может служить иллюстрацией бихевиоризма.[3]3
Направление в психологии, развиваемое преимущественно в США, которое основано на изучении поведения. – Редл
[Закрыть]) В дни спектаклей с участием отца он обедал отдельно от семьи, иногда же, в виде исключения, мы обедали вместе после спектакля. Я помню себя в этих исключительных случаях голодным, сидящим на печке в своей комнате и прислушивающимся, не возвращается ли его экипаж. После этих поздних обедов мама или Берта приходили к нам, когда мы ложились спать, и слушали, как мы читали свою молитву: «Отче наш» по-славянски; эту молитву я никогда не произношу порусски… Да, теперь я вспомнил: занавески были всегда раздвинуты, чтобы в комнату проникал свет от уличных фонарей с набережной канала.
Дяди тоже «надежны» – т. е. так обычно бывает, хотя свое первое разочарование я испытал как раз на руках у одного из них: по правде говоря, этот дядя был не настоящим дядей, в чем, вероятно, и крылась загвоздка. Он и его братья были кузенами моей матери: один из них – художник, двое других – генералы. Художник «дядя Миша» обладал мефистофельским характером, или так мне кажется: во всяком случае, он был слишком себе на уме, чтобы попасть в категорию «надежных». Реалистическая школа передвижников, которой он придерживался, была в резкой оппозиции к дягилевскому движению; позднее меня нередко стесняли противоречивые позиции этих школ, в особенности потому, что дяди Мишины картины с изображением полей пшеницы на Украине или коров на берегу реки и т. п. повсюду украшали стены нашей квартиры. Генералами были дядя Ваня, командир дивизии, и дядя Коля, комендант Кронштадта, известный изобретатель одного из видов оружия.
Разочарование постигло меня во время кратковременного пребывания на нематеринских руках дяди Вани, когда он обещал мне, что я увижу птичку, а никакой птички не появилось. (Эта утвердившаяся у фотографов тактика является по-моему серьезным злом, и следовало бы отговорить их от нее, так как благодаря нашему падению, которое может и не уподобиться падению в раю, мы осознаем свою наготу и начинаем сомневаться в том, что наша «безопасность» гарантирована.) Особенно живо я запомнил из этого первого фотографического сеанса запах дяди Ваниных погон и холодный, металлический вкус шнуров его мундира, которые я сосал, как конфету.
Доктор Душиикин, врач нашей семьи, был еще одним оплотом «надежности». Пожилой человек, главный врач одного из военных госпиталей, он регулярно посещал нашу семью раз в неделю. Я помню его только в военной форме и лишь в зимнее время, когда после улицы в его бороде блестели снежинки. Доктор Душинкин заставлял меня показывать язык и подставлять грудь под его ледяной стетоскоп, затем я должен был давать ему отчет
об утреннем действии желудка, и если такового не было, он давал мне проглотить маленькую черную пилюлю. Помню также нашего зубного врача, хотя зубные врачи, конечно, никогда не бывают «надежными», а этот к тому же был немец. Не помню его фамилию, но уверен, что смог бы найти его приемную неподалеку от Исаакиевского собора.
«Надежность» друзей бывает смешанной, и, возможно, к этой категории подходят только друзья того поколения, которые уже не могут стать нашими соперниками. Одним из самых дорогих мне старших друзей был Владимир Васильевич Стасов, ученик Глинки;[4]4
Стасов не был прямым учеником Глинки. – Ред.
[Закрыть]в самом деле, ему случалось играть с Глинкой на двух роялях, и по этому случаю он был священной коровой; помимо того, он был адвокатом и сотоварищем русской «Пятерки».[5]5
Принятое на Западе название Могучей кучки. – Ред.
[Закрыть]Этот гигант с длинной белой (когда она бывала чистой) бородой времен наших предков носил маленькую шапочку-ермолку и темный, грязный сюртук. Ему была свойственна широкая жестикуляция, и разговаривая, он всегда громко кричал. Желая сообщить что– нибудь конфиденциально, он приставлял к вашему уху свою громадную руку и кричал прямо в ухо; мы называли это «стасовским секретом». Он имел обыкновение в каждом данном случае говорить лишь о его хорошей стороне, предоставляя плохой говорить самой за себя. Мы обычно шутили, что Стасов не будет отзываться плохо даже о погоде. Своей энергией и энтузиазмом он иногда напоминал мне запыхавшегося пса, которого вам хотелось бы погладить, но вы удерживаетесь, боясь, что в ответ он вас опрокинет. Стасов хорошо знал Толстого, в запасе у него было множество замечательных рассказов о Толстом. По его словам, однажды, когда Толстой говорил группе лиц о не-насилии и непротивлении, кто-то спросил его, что делать, если подвергнешься в лесу нападению тигра. Толстой ответил: «Делайте все, что в ваших силах; это случается редко».
Однако лучше всего я помню Стасова при его похоронах, и я не могу мысленно представить себе его квартиру, не увидев тут же гроб и Стасова в гробу. Больше всего меня поразило в этой церемонии, что Стасов, лежащий в гробу со сложенными на груди руками, казался неестественным; он был ярчайшим представителем породы людей с широко раскрытыми объятиями. Комната казалась к тому же абсурдно узкой для такого громадного человека; отчасти это объяснялось дождливой погодой: мы все толпились там в пальто и с зонтиками. Помню, когда гроб проносили через дверь, дирижер Направник повернулся ко мне со словами: «Отсюда выносят кусок истории».
Воспоминания сами по себе, конечно, являются «надежными», они гораздо надежнее «подлинников», и «надежность» их возрастает с годами. Кроме того, всплывающие плохие воспоминания можно отогнать и извлечь из памяти наиболее стоющие реликвии. Никакого хронологического порядка в картинах прошлого, особенно часто оживающих в моей памяти, не наблюдается. Недавно, например, мне часто представлялся Мариинский театр с главным входом, задрапированным в черное по случаю кончины Чайковского. Помню, как колебались завесы на зимнем ветру, и как меня волновало это зрелище, ибо Чайковский был героем моего детства. В последнее время я часто вспоминал также звуки музыки, услышанной мною впервые, – пронзительные звуки флейт и гром барабанов оркестра моряков из казарм, расположенных вблизи нашего дома, при слиянии Крюкова канала с Невой. Эта музыка и звуки оркестра, сопровождавшего полки конной гвардии, ежедневно проникали в мою детскую. Особенно забавляли меня в младенчестве звуки труб, флейт и барабанов. Я знаю также, что желание воспроизвести эту музыку было причиной моих первых попыток сочинительства; я пробовал подобрать на рояле услышанные мной интервалы – лишь только смог дотягиваться до клавиатуры, – но при этом находил другие интервалы, нравившиеся мне больше, что уже делало меня композитором.