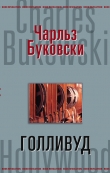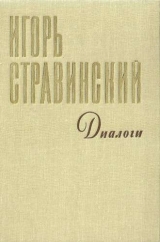
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
О себе и о современниках
От Санкт-Петербурга до Лос-АнжелосаР. Я. Помните ли вы подробности вашей жизни в связи со сменой основных мест жительства и их географическим местоположением?
И. С. В мае 1910 г., когда я уехал из Санкт-Петербурга и оставил свою квартиру на Английском проспекте – там была сочинена «Жар-птица», – я не подозревал, что буду в своем родном городе еще лишь однажды, да и то несколько дней. Я не поверил бы также, что буду жить в Швейцарии, хотя с детства вспоминал эту страну с любовью. Я сопровождал моих родителей в Интерлакен летом 1895 г., и в последующие годы мы неоднократно наезжали в Швейцарию. Швейцария была тогда в моде у русских, и мои родители следовали этой моде. После премьеры «Жар-птицы» я возымел желание посетить знакомую с детства страну, и во исполнение этого желания осенью 1910 г. мы поехали в Шардон Жоньи, селение, расположенное выше Веве двумя остановками фуникулера. Оттуда мы вскоре перебрались в Кларан, где жили в пансионате отеля Шателар. Эта гостиница вторично стала нашей резиденцией в 1913 г.; там были написаны «Японские песни». (В то время Равель с матерью жили в отеле де Крет, расположенном ниже нас, под горой у станции, и мы часто встречались.) Большим событием в моей, тогдашней жизни был концерт, на котором я присутствовал в декабре 1912 г. в Берлине – исполнялся «Лунный Пьеро». Равель быстро заразился моим энтузиазмом, тогда как Дебюсси, которому я сказал об этом, просто уставился на меня и ничего не сказал. Не потому ли Дебюсси позднее написал своему другу Годе; «Стравинский угрожающим образом склоняется du cote de Schoenberg?»1.
В период между 1911 и 1913 гг. мы жили в пансионе Ле Тийе, позади отеля Шателар и выше него; там была сочинена «Весна священная». В начале 1914 г. мы на два месяца переехали в Лезин, высокогорный климат которого считался благоприятным для здоровья моей жены. Там нас посетил Кокто… В июле того года мы переехали в «bois de Meleze», шале близ Сальван, в до-, лине Роны, в дом, который сняли у крестьян; в конце июня я отправился в Лондон для постановки «Соловья», оттуда поехал в Сальван, где были написаны «Прибаутки» и Три пьесы для струнного квартета. В конце августа мы вернулись в Кларан и сняли там Л а Перванш, коттедж по соседству с Jle Тийе; там я начал работать над «Свадебкой».
Весной 1915 г. мы снова переехали, на этот раз в Шато д’Ё, к востоку от Монтре. Эту новую перемену местожительства предполагалось использовать для отдыха, однако там я начал писать «Байку про Лису». В Шато д’Ё нас застало землетрясение, происшедшее в Авеццано; помню, я проснулся от толчка и увидел, что шкаф, подпрыгивая, двигается ко мне, как человек, связанный по рукам и ногам.
Из Шато д’Ё мы переселились на виллу Реживю в Морж, где жили до 1917 г. В начале 1917 г. мы переехали на второй этаж в Мезон Борнан, тоже в Морж (2, улица Сен Луи), здание XVII века, во дворе которого позднее – я видел это несколько лет тому назад – был установлен памятник Падеревскому. (Годами я жил по соседству с Падеревским в Морж, но мы никогда не общались; мне рассказывали, что, если кто-нибудь спрашивал его, не хочет ли он встретиться со мной, он отвечал: «Non, merci: Stravinsky et moi, nous nageons dans des lacs bien differents.»[55]55
Нет, спасибо; мы со Стравинским плаваем в разных водах (фр.).
[Закрыть]) Наше последнее, трехлетнее пребывание в Швейцарии было прервано только однажды: лето 1917 г. мы провели в шале возле Диаблере.
Швейцарию можно считать велосипедной стадией моей жизни. Велосипед служил там моим главным видом транспорта, и я стал специалистом, научившись ездить без помощи руля. Я не раз ездил на велосипеде от Морж вплоть до Нешатель вместе с моим другом Шарлем-Альбером Сэнгриа; мы останавливались по пути в Ивердон выпить vin du pays[56]56
местное вино (фр).
[Закрыть]и выходили оттуда, пошатываясь.
Мы навсегда покинули Швейцарию летом 1920 г., переехав сначала в Карантек в Бретани, а затем, осенью, в дом Габриэль Шанель в Гарш, близ Парижа. Гарш был нашим домом в течение всей зимы, весной же 1921 г. мы перебрались на морское побережье в Англе, Биарриц. Нам до такой степени понравился Биарриц, что мы сняли дом в центре города (Вилла де Роше) и оставались там до 1924 г. Живя в Биаррице, я стал чем-то вроде aficionado[57]57
болельщик на бое быков (исп.).
[Закрыть]и при каждой возможности ходил на корриду. Я присутствовал на корриде в Байони с моим другом Артуром Рубинштейном в тот трагический раз, когда бык выбил бандерилью, и, пролетев по воздуху, она попала прямо в сердце генерального консула Гватемалы, стоявшего у барьера, который ту* же скончался. В Биаррице же я заключил контракт на шесть лет с парижской фирмой Плейель, по которому обязался переложить все свои сочинения для «механического пианиста» с оплатой 3000 франков ежемесячно и правом пользования одной из парижских студий фирмы. Я иногда ночевал в студии Плейель и даже устраивал там приемы, так что ее можно считать одной из моих «резиденций».
(Мои транскрипции – эти бесполезные, забытые упражнения, потребовавшие сотен часов работы, – в то время имели для меня большое значение. Интерес к механическому исполнению пробудился у меня еще раньше, в 1914 г., когда я присутствовал на демонстрации пианолы лондонской компании Эолиан. Эолиан написал мне во время войны и предложил за значительное. вознаграждение сочинить произведения специально для пианолы. Меня забавляла мысль, что моя музыка будет исполняться роликами перфорированной бумаги, к тому же меня очаровала механика этого инструмента. Этюд для пианолы был написан в 1917 г., но и после того я не забыл специфику этого инструмента. Через шесть лет, начав перекладывать свои сочинения для фирмы Плейель, я одолжил один из инструментов для самостоятельного изучения механизма. Ц открыл, что его главная особенность – ограниченная педализация – диктуется разделением клавиатуры на две части; это похоже на синераму, где экран делится пополам, и фильм демонстрируется двумя одновременно действующими проекторами. Я решил эту задачу, посадив двух секретарей справа и слева от себя, тогда как сам я стоял лицом к клавиатуре; в процессе работы я диктовал справа налево каждому по очереди. Моя работа для этого «шизоидного» инструмента, вероятно, оказала влияние на сочинявшуюся мной тогда музыку, во всяком случае, на присущие ей взаимосвязи темпов и нюансировки – вернее, на отсутствие таковых. К этому нужно добавить, что многие из моих аранжировок, в особенности таких вокальных сочинений, как «Свадебка» и Русские песни, были, в сущности, заново сочинены для механического инструмента.)
В 1924 г. мы переехали в Ниццу, где сняли бельэтаж в доме 167 на бульваре Карно. Первым событием в Ницце была болезнь моих детей; все четверо подхватили дифтерит. В Ницце началась автомобильная стадия моей жизни (и закончилась. Я считал себя хорошим водителем —* сначала Рено, позднее Гочкиса, – но никогда не водил машину в Париже и никогда не отваживался водить ее в США, где, так или иначе, моя жизнь перешла в последнюю, аэропланную стадию). Ницца служила нам домом до весны 1931 г., хотя в промежутках мы провели лето 1927, 1928 и 1929 гг. у озера д’Аннее (Таллуар), и лето 1930 г. в Эшарвин ле Бэн (Дофине), в шале де Эшарвин.
В начале 1931 г. мы переселились из Ниццы в Шато де ла Ви– роньер вблизи Вореп (Гренобль). Мы жили там три года, исключая зиму 1933/34 гг., которую провели в Париже, в меблированном доме на улице Вье. В конце 1934 г. мы переехали в дом 125 на улице Фобур Сан-Оноре в Париже – мою последнюю и самую несчастливую резиденцию в Европе; там умерли моя жена, старшая дочь и мать.
(Я стал французским подданным 10 июня 1934 г. На следующий год умер Поль Дюка, и мои французские друзья настаивали, чтобы я выставил свою кандидатуру на его место во Французской Академии. Я возражал против этой затеи, но Поль Валери уговаривал меня попытать счастья, говоря о привилегиях, которыми пользуются академики. Я покорно нанес визиты Морису Дени, Шарлю-Мари» Видору и другим старейшим избирателям этого рода, но плачевно провалился в соперничестве с Флораном Шмиттом. Это обстоятельство почти опрокинуло мое убеждение в том, что академии состоят из плохих художников, стремящихся отличиться тем, что время от времени избирают нескольких хороших художников – случай, когда удостаиваемые оказывают честь удостаивающим чести {the honorands honoring the honorers.)
В сентябре 1939 г. я приехал в Америку. Пароход «С. С. Ман– хеттен» был переполнен, как паром в Гонконге; в моей каюте кроме меня было еще шесть пассажиров, хотя мы все семеро заказывали отдельные каюты. Тосканини тоже ехал этим пароходом, но я не видел его. По слухам, он отказался войти в свою каюту, где тоже было еще шесть пассажиров, и спал в кают-компании или, как капитан Ахав[58]58
Персонаж романа Мелвилла «Моби Дик». – Ред.
[Закрыть]и столь же разъяренный, разгуливал по палубам. Из Нью-Йорка, куда мы прибыли 30 сентября, я отправился в Кембридж, где жил до декабря в «Пристани Джерри», комфортабельном доме Эдварда Форбса, мягкого и культурного человека, очень похожего на своего деда, Ральфа Вальдо Эмерсона; это было время моих гарвардских лекций. В декабре я поехал с концертами в Сан-Франциско и Лос-Анжелос, после чего вернулся в Нью-Йорк, чтобы встретить мою будущую жену, Веру де Боссе, прибывшую 13 января на пароходе «Рекс» из Генуи. Нас обвенчали в Бедфорде, Массачусетс 9 марта 1940 г. (бракосочетание состоялось в доме д-ра Таракуцио, русского, профессора в Гарварде), и мы жили в отеле Хеменуей (Бостон) до мая.
Из Бострна мы отправились пароходом в Нью-Йорк и Гельв– стон, а оттуда поездом в Лос-Анжелос. Еще во время моего первого путешествия в 1935 г. я подумывал поселиться в отвратительном, но полном жизни, лос-анжелосском конгломерате городов – в первую очередь из-за здоровья, а кроме того, потому что Лос-Анжелос казался мне лучшим местом в Америке, где я мог бы начать новую жизнь. В августе 1940 г. мы переехали через границу США из Мексики в счет квоты русских и немедленно подали заявление о переходе в американское подданство. Помню, как один из чиновников учреждения, ведавшего делами иммигрантов, спросил меня, не желаю ли я переменить фамилию. Это был самый неожиданный из когда-либо заданных мне вопросов. Я засмеялся, на что чиновник сказал: «Что ж, большинство так делает». Мы стали подданными США 28 декабря 1945 г. (Моим свидетелем был Эдвард Дж/ Робинсон, но по ходу дела выяснилось, что он сам последние сорок лет формально бы незаконным жителем.) Последние адреса моего местожительства были: 124 Саус Суолл Драйв, Беверли Хиллз – май – ноябрь 1940 г. (там была закончена симфония До мажор); Шато Мармон, Голливуд – март– апрель 1941 г.; и мое последнее местопребывание, самое длительное, самое счастливое и, надеюсь, окончательное – хотя я все еще являюсь заядлым путешественником во всех смыслах этого слова, – также в Голливуде. (III)
Дирижерская деятельностьР. К. Какими произведениями других композиторов вы дирижировали в гастрольных поездках?
И. С. Список невелик и, боюсь, ни о чем не говорит, так как он не дает никаких указаний на направленность или вкус. Концертные организации обычно давали заявки на программы целиком из моих сочинений, и случаи исполнять музыку других композиторов представлялись редко. Обычно такое произведение включалось в программу из-за нехватки репетиционного времени на подготовку моего собственного произведения. Но, за двумя исключениями, сочинения, которыми я все же дирижировал, отбирались мною. Исключениями были увертюра «Анакреон» Керубини, которую меня убедил играть Менгельберг по той простой причине, что оркестр знал ее, а нам не хватало репетиционного времени, и Седьмая симфония Шуберта, которую я однажды репетировал в Милане для Шерхена, но публично не исполнил.
Сочинения других композиторов появлялись в моих программах также потому, что они были в репертуаре солистов, с которыми я выступал: последний, Ре-мажорный скрипичный концерт Моцарта, скрипичный концерт Чайковского, Соль-мажорный фортепианный концерт Моцарта (К. 453), фортепианный и виолончельный концерты Шумана и Концерт де Фалья. Я часто дирижировал Второй симфонией Чайковского[59]59
Эта симфония все еще сохраняет известное очарование, если выпустить в финале точные повторения, и исполнять ее с некоторым чувством стиля; например, нужно ясно выделять трехтактную фразу вСкерцо, а фигуру в маршеиграть 7
[Закрыть]й изредка Третьей, хотя и не являюсь поклонником этих очень академических вещей; просто выбор падал на них в силу обстоятельств – подходящей в. данном случае длины и ограниченности репетиционного времени, – но эти вещи заслуживают того, чтобы их слушали, хотя бы для равновесия с тремя позднейшими симфониями. Однажды я исполнял в Принстоне с Филадельфийским оркестром Шестую симфонию Чайковского и даже дирижировал сюитой из «Щелкунчика». Я по-прежнему люблю Серенаду Чайковского и не раз исполнял ее. Под моим управлением шли также третий Бранденбургский концерт Баха, увертюра «Фйнгалова пещера» Мендельсона, увертюра «Турандот» Вебера, «Камаринская» Глинки и увертюра к «Руслану», симфоническая поэма «Садко» Римского-Корсакова, Серенада для струнных и литавр Моцарта, «Ученик чародея» Дюка, «Облака» и «Празднества» Дебюсси. Но некоторые мои дирижерские мечты, боюсь, никогда не осуществятся: исполнить первые четыре и Восьмую симфонии Бетховена, а из опер – «Фиделио». (III)
Р. К. Помните ли вы обстоятельства, при которых дирижировали названными вами двумя вещами Дебюсси?
И. С. Я дирижировал ими в Риме, кажется, в 1932 г. Римская концертная организация просила меня сыграть «что-нибудь французское», и, разумеется, под этим мог подразумеваться только Дебюсси. Однако лучше всего я помню из этого эпизода, что за мной послал Муссолини, и мне пришлось пойти. Меня привезли в его канцелярию в Палаццо Венециа, в длинный холл с одним большим письменным столом, освещенным стоявшими по бокам безобразными современными лампами. Там стоял в окружении лысый мужчина с квадратной фигурой. Когда я приблизился, Муссолини поднял на меня глаза и сказал: «Bonjotir, Stravinsky, asswye-ez-vous»;[60]60
Здравствуйте, Стравинский. Садитесь (искаж. фр.).
[Закрыть]французские слова были произнесены правильно, но с итальянским акцентом. На нем был темный деловой костюм. Мы немного поговорили о музыке. Он сказал, что играет на скрипке, и я быстро проглотил едва не вырвавшееся у меня замечание о Нероне.[61]61
Нерон считал себя великим артистом и музыкантом. – Ред.
[Закрыть]Он держался спокойно и с достоинством, но не слишком вежливо – последние его слова были: «Вы придете ко мне в ваш следующий приезд в Рим, и я приму вас». Позднее я вспомнил, что у него жестокие глаза. В результате – по этой самой причине – я стал избегать поездок в Рим вплоть до 1936 г., когда я репетировал в Санта Чечилиа, и появился граф Чиано с приглашением посетить его тестя. Помню, что разговаривая с Чиано о выставке итальянской живописи в Париже, я выразил беспокойство по поводу сохранности полотен при морских перевозках. Чиано проворчал: «О, у нас есть километры этих вещей!» Теперь окружение Муссолини было ДО нелепости величественным. Он сам был в мундире, и вереницы военных все время ходили взад и вперед. Он казался веселее, оживленнее, чем при первом моем визите, и его жестикуляция стала еще более экстравагантно театральной. Он прочел мою автобиографию, что-то пробормотал о ней и обещал прийти на мой концерт. Я благодарен ему за то, что он не выполнил своего обещания. (III)
Р. К. Что побудило вас сделать аранжировку американского гимна?
Й. С. Я взялся за это дело по совету одного ученика-вернее, композитора, приходившего ко мне дважды в неделю для «пере– сочинения» своих вещей, – и частично потому, что во время войны я должен был начинать свои концерты исполнением американского гимна, существующие аранжировки которого представлялись мне весьма слабыми. Моя версия была написана 4 июля 1941 г. и вскоре после этого исполнена оркестром и негритянским хором под управлением зятя моего ученика. После концерта я послал рукопись миссис Ф. Д. Рузвельт на аукцион, устроенный с целью пополнения военных фондов; однако аккорд большой септимы во второй теме гимна (эта часть больше всего нравилась дамам-патриоткам), должно быть, привел в замешательство какое– то высокопоставленное лицо, так как мне с извинением вернули партитуру. Затем я отдал ее Клаусу Манну, который по той же причине скоро сумел продать ее. Я сам впервые исполнил свою версию гимна с Бостонским оркестром зимой 1944 г. Я дирижировал, стоя спиной к оркестру и лицом к публике, так как предполагалось, что слушатели будут петь, но они не пели. Мне казалось, что никто не заметил отличий моей версии от стандартной, по на следующий день, перед самым началом второго концерта, в моей уборной появился комиссар полиции, сообщивший мне, что по массачусетским законам запрещаются всякие самовольные «орудования» с национальной собственностью. Он сказал, что полиция уже получила распоряжение снять мою версию гимна с пюпитров. Я утверждал, что если первоначальная версия гимна где– то и существует, то она, конечно, редко исполнялась в Массачусетсе, но это ни к чему не привело. Не знаю, исполнялась ли моя версия с тех пор. Она заслуживает этого, так как лучше выявляет мелодический рисунок и гармонию, и, конечно, стоит на более высоком уровне, чем любая другая слышанная мною. (Комплимент по собственному адресу, фактически, очень небольшой.) (И)
ПианизмР. К. Помните ли вы ваше первое публичное выступление в качестве пианиста?
И. С. В роли пианиста-солиста – нет, не помню; мне думается, что в 1908 г. я где-то исполнил мои Четыре этюда, но не могу восстановить это событие в памяти. Однако по крайней мере за четыре года до того я выступил впервые перед публикой в роли аккомпаниатора с артистом, игравшим на английском рожке. Это происходило на одном из Вечеров современной музыки; композитор (фамилию его я забыл) был кто-то из новых русских авторов. К тому времени я уже обладал солидным аккомпаниаторским опытом, но все же нервничал. Не знаю, хорошо ли, плохо ли я играл, но потом Николай Черепнин сказал, что взятый мной медленный теми «заставил исполнителя на английском рожке задохнуться почти до смерти», что глубоко оскорбило меня. Концерт был в небольшом зале, где позднее проводились Пятницы Полонского.
Моя аккомпаниаторская деятельность имела чисто экономические основы. Как-никак, пианисты-репетиторы зарабатывали 5 рублей в час – сумма, успешно конкурировавшая с выдаваемым мне дома содержанием. По этой причине я аккомпанировал и певцам. На 19-м году жизни я стал также аккомпаниатором известного виолончелиста Евгения Мальмгрена. За каждый слащавый час мальмгреновского салонного репертуара мои материальные, средства увеличивались на 10 рублей. (Через 35 лет моей женой стала одна из племянниц Мальмгрена, Вера де Боссе. Я узнал тогда, что другой дядя мадемуазель Боссе, некий доктор Иван Петров, тоже был виолончелистом-любителем и играл дуэты с Антоном Чеховым.[62]62
Версия о музицировании А. Чехова не находит подтверждений.—»
[Закрыть])
Как пианист я не мог выдвинуться – помимо недостаточных данных, из-за плохой, как я ее называю, «исполнительской памяти». Я считаю, что композиторы (и художники) запоминают не все подряд, в то время как музыканты-исполнители должны обладать способностью охватывать произведение «все, как оно есть», подобно фотографическому аппарату; я же считаю, что первое возникшее в сознании композитора представление – это уже произведение. Понятия не имею, жалуются ли другие композиторы– исполнители на подобную трудность. Кроме того, я должен признать, что мое отношение к типу исполнителя, «заучивающего наизусть», психологически неправильно. Способность держать в памяти концерт или симфонию не представляет для меня интереса, я не сочувствую складу ума тех людей, которые к этому стремятся. Что касается композиторской памяти, то я хочу сослаться на историю, случившуюся с Шёнбергом, который, надолго прервав сочинение «Моисея и Аарона», жаловался на неспособность вызвать в памяти написанное. Я испытал нечто подобное, когда сочинял вторую часть Фсэртепианного концерта. Однажды несколько страниц рукописи таинственным образом исчезли, и, попытавшись записать их заново, я обнаружил, Что почти ничего не могу вспомнить. Я так и не знаю, насколько отличается эта часть в печатном издании от потерянной, но уверен, что они очень непохожи одна на другую.
Моя исполнительская память представляет собой нечто иное, но и она по-своему ненадежна. При первом исполнении того же Фортепианного концерта я был вынужден попросить дирижера напомнить мне тему’второй части. (С этой частью явно связана какая-то большая психологическая проблема.) При другом исполнении этого Концерта у меня образовался провал в памяти: мной вдруг овладела навязчивая идея, что публика – это коллекция кукол в большом паноптикуме. Еще раз память изменила мне, когда я внезапно заметил отражение своих пальцев в блестящей деревянной поверхности крышки клавиатуры. На мою исполнительскую память влияет также алкоголь – по крайней мере дважды, играя Фортепианный концерт, я был умеренно пьян, – тогда я чересчур поглощен тем, чтобы владеть собой, и автоматическая часть механизма памяти работает плохо.
Однако безразлично, являюсь ли я пианистом или нет, рояль сам по себе находится в центре моих жизненных интересов и служит точкой опоры во всех моих музыкальных открытиях. Каждая написанная мною нота испробована на рояле, каждый интервал исследуется отдельно, снова и снова выслушивается. (Это напоминает замедленное движение или записи птичьего пения, воспроизведенные на малой скорости.) (III)