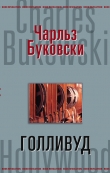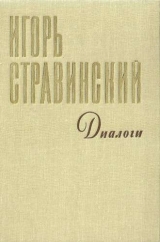
Текст книги "Диалоги Воспоминания Размышления"
Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц)
Р. К. Что вы помните о Мануэле де Фалья?
И. С. Однажды в 1910 г., в гостях у Сипа Годебского, меня познакомили со скромным и ушедшим в себя, как устрица, человеком, который ростом был даже ниже меня. Я надеялся – это был Мануэль де Фалья – интересно побеседовать, но оказалось, что он самый нетерпимый церковник, какого я когда-либо встречал, и менее всего расположен к юмору. Я еще никогда не видел такого застенчивого человека. Во время вечера, данного в его честь после исполнения «Балаганчика мастера Педро» в доме у княгини де Полиньяк (этой смешной американки, походившей на Данте, честолюбие которой заключалось в желании видеть свой бюст в Лувре рядом с бюстом Ришелье), внезапно выяснилось, что сам де Фалья исчез; его нашли сидящим в одиночестве в темном театральном зале с одной из кукол мастера Педро в руках. Меня всегда удивляло, как такой застенчивый человек вообще мог заставить себя появиться на подмостках. Однако он выступал в качестве дирижера и солировал в своем Клавесинном концерте – восхитительном сочинении, которым я дирижировал. В последний раз я видел де Фалья на исполнении этого же Концерта в Лондоне в 30-х гг.
Де Фалья всегда оказывал внимание мне и моим сочинениям. Когда после премьеры его «Треуголки» я сказал ему, что наилучшие в его партитуре места необязательно «испанские», я знал, что это замечание произведет на него впечатление. И он действительно рос, хотя материала у него было недостаточно для того, чтобы этот рост мог повести его достаточно далеко. Я считал его самым преданным из всех моих музыкальных друзей. В то время как Равель отвернулся от меня после «Мавры» (фактически единственной из моих последующих вещей, которую он вообще отметил, была Симфония псалмов), де Фалья следил за всеми моими более поздними сочинениями; у него было очень тонкое ухо, и я думаю, что его суждения были искренними. (II)
Р. К. Не опишете ли вы встречу с Шёнбергом в Берлине в 1912 г.? Разговаривали ли вы с ним по-немецки? Был ли он приветлив или держался отчужденно? Хорошо ли он дирижировал «Лунным Пьеро»? На берлинских репетициях «Пьеро» присутствовал Веберн; сохранились ли у вас какие-нибудь воспоминания о нем? Вы писали об инструментовке «Пьеро», но не о его полифонии или применении в нем приемов строгого контрапункта; как в то время вы относились к этим новшествам?
И. С. Дягилев пригласил Шёнберга прослушать мои балеты «Жар-птицу» и «Петрушку», а Шёнберг пригласил нас прослушать его «Лунного Пьеро». Я не помню, кто дирижировал на репетициях, когда я присутствовал: Шёнберг, Шерхен или Веберн. Дягилев и я разговаривали с ним по-немецки, он держался дружелюбно и сердечно, и у меня создалось впечатление, что он заинтересовался моей музыкой, в особенности «Петрушкой». Трудно вспоминать впечатления через 45 лет; но я помню совершенно отчетливо, что инструментальная сторона «Лунного Пьеро» произвела на меня огромное впечатление. Под словом «инструментальная» я подразумеваю не просто инструментовку этой музыки, но всю блестящую контрапунктическую и полифоническую структуру этого инструментального шедевра. К несчастью, я не помню Веберна, хотя и уверен, что встречался с ним в доме Шёнберга в Целлендорфе (Берлин). Сразу после войны я получил несколько сердечных писем от Шёнберга с вопросами относительно разных моих маленьких пьес, которые он и Веберн готовили к исполнению в знаменитых венских концертах Общества закрытых исполнений. Затем, в 1925 г., он написал очень гадкое стихотворение обо мне (хотя я почти простил его из-за того, что он положил его в основу такого замечательного зеркального канона). Я не знаю, что было между этими датами. (I)
Р. К. А Берг, знали ли вы его?
И. С. Я встретился с ним только однажды – в Венеции в сентябре 1934 г. Он пришел повидаться со мною в артистическое фойе в Ла Фениче, где я дирижировал моим Каприччио в концерте Биеннале с моим сыном Сулимой за роялем. Хотя я видел Берга тогда впервые и видел-то в течение всего нескольких минут, помню, я был покорен его прославленным обаянием и утонченностью. (I)
Р. К. Оценили ли вы Шёнберга и его роль по недавней публикации его неоконченных вещей?
И. С. Они значительно расширили представление о нем, но мое мнение о его роли осталось прежним. Однако каждое вновь обнаруженное произведение мастера взывает к более детальному суждению о нем; Элиот говорил, что даже мелкие сочинения Данте представляют интерес, поскольку их написал Данте. Точно так же любое сочинение Шёнберга, будь то инкунабула вроде струнного квартета 1897 г. или аранжировка вроде переложенного в 1900 г. для двух роялей «Севильского цирюльника», интересно нам, потому что написано Шёнбергом. Из его незаконченных вещей наиболее интересны Три пьесы для ансамбля солирующих инструментов, сочиненные в 1910 или 1911 г. Они заставляют пересмотреть воцрос о том, насколько Веберн обязан Шёнбергу в отношении стиля инструментовки и размера короткой пьесы.[77]77
Эти пьеед я слышал с того времени несколько раз. Нет, они не очень похожи на Веберна, самая же примечательная из них, третья, и вовсе не похожа на Веберна.
[Закрыть]Последняя по времени сочинения из неоконченных вещей, «Современный псалом» (1950–1951) показывает, что Шёнберг вплоть до самой смерти продолжал пролагать новые пути и искать новые законы в серийной музыке.
К числу посмертно опубликованных произведений относится также «Моисей и Аарон», но это случай особого рода; это сочинение, незавершенное как и остальные, тем не менее, законченно в духе, рассказов Кафки, в которых характер сюжета делает невозможной концовку в обычном понимании. «Моисей и Аарон» – самая большая вещь зрелого Шёнберга, последняя, которую ему было суждено написать в Европе, – не меняет наш взгляд на его историческую роль. О последней позволяет судить уже «Лестница Иакова» или сто тактов оттуда, которые можно исполнить.[78]78
В настоящее время «Лестница Иакова» меня разочаровывает, и я нахожу, что интонируемая речитация ее хоров хуже, чем в начале «Счастливой руки», которая действительно так поразительна, что лишает оригинальности не только «Лестницу Иакова», но даже такое позднейшее сочинение, как «Le Visage Nuptial» Булеза.
[Закрыть]Она написана в самый острый момент переходного периода и фактически является единственным сочинением, представляющим 1915–1922 гг. Творчество Шёнберга слишком неровно, чтобы мы могли объять его как нечто единое. Например, все его тексты очень плохи, некоторые настолько, что расхолаживают к исполнению музыки. Его оркестровки Баха, Генделя, Монна, Лёве, Брамса отличаются от оркестровок коммерческого типа лишь высоким уровнем мастерства, замыслы же не лучше тех. Шёнбер– говские аранжировки Генделя свидетельствуют о неспособности оценить музыку «ограниченного» диапазона гармонии, и действительно, мне говорили, что он считал примитивной музыку английских вёрджинелистов и вообще всякую музыку, лишенную гармонического развития. Его экспрессионизм – наивнейшего порядка, о чем можно судить по указаниям на световые эффекты в «Счастливой руке»; последние тональные сочинения так же скучны, как сочинения Регера, на которые они похожи, или Цезаря Франка, о котором напоминает мотив из четырех нот в «Оде
Наполеону». Его различение «мелодии по вдохновению» и голой «техники» («душа» противопоставлена «разуму») было бы искусственным, если бы не было столь наивным, вдобавок приводимый им пример первого рода – унисонное Adagio из Четвертого квартета – заставляет меня корчиться. Мы – я имею в виду поколение, которое говорит теперь «Веберн и мы» – должны помнить только совершенные его вещи; Пять пьес для оркестра (существование которых могло бы примирить меня с исчезновением всех остальных из первых девятнадцати опусов), «Побеги сердца», Серенаду, Вариации для оркестра и, ради партии оркестра, – кантату «Серафита», опус 22.
Благодаря этим вещам Шёнберг занимает место среди больших композиторов, и музыканты еще долго будут черпать из них. В числе немногочисленных сочинений немногих композиторов они действительно устанавливают традиции. (I)
Р. К. Как вы оцениваете теперь музыку Берга?
И. С. Если бы я мог проникнуть сквозь барьер стиля (органически чуждый мне эмоциональный «климат» Берга), я подозреваю, что считал бы его самым одаренным конструктором форм среди композиторов нашего столетия. Он преступает пределы собственных, созданных им, образцов. В самом деле, он единственный оперировал развитыми формами, не прикрываясь «неоклассической» симуляцией. В его наследии, однако, немногое могло бы служить базой для создания новых конструкций. Он находится в заключительной фазе эволюции (форма и стиль не являются независимыми элементами этой эволюции, и мы не можем претендовать на то, что пользуясь одним, отказываемся от другого), тогда как Веберн, этот сфинкс, заложил целостный фундамент как современного чувствования, так и стиля. Формы Берга тема– тичны (в этом, как и во многом другом, он противоположен Веберну); сущностью его композиции является тематическая структура, и ею же обусловлена спонтанность его формы. Как бы ни были сложны, «математичны» его формы – это всегда «свободные» тематические построения, рожденные «чувством» и «экспрессией». Наряду с «Воццеком», наиболее показательной в этом плане вещью, важнейшей для изучения всей его музыки, являются, на мой взгляд, Три пьесы для оркестра, опус 6. В них Берг проявил себя зрелым мастером, и мне представляется, что они полнее и свободнее отражают его талант, чем его додекафонные пьесы. Если принять во внимание отдаленную дату их создания – 1914 г. (Бергу было тогда 29 лет), они покажутся чем-то вроде чуда. Интересно, многие ли музыканты знают их даже теперь, спустя сорок лет? Во многих местах они предвещают позднего
Берга. Музыка 54-го такта в Хороводе, например, очень похожа на мотив «смерти», впервые звучащий в арии Марии в «Воццеке». Точно так же музыка сцены, где Воццек тонет, напоминает 102-й такт Марша. Вальс и музыка 50-го такта в Хороводе воццеко– подобны, в стиле музыки в кабачке, а трелевая концовка Хоровода сходна со знаменитой трелью в оркестре в конце первого акта оперы. Соло скрипки в 168-м такте Марша кажется эскизом последних страниц «Воццека», а ритмическая полифония мотива в 75-м такте в той же вещи воспринимается как «цитата» из оперы. Музыку Камерного концерта, например, можно предвидеть в побочном голосе 55-го такта Хоровода, и там же, далее, в соло скрипки и духовых инструментов. Каждый из трех актов «Лулу» заканчивается тем же ритмическим рисунком аккордов, который применен ближе к концу в Хороводе.
В Марше слишком доминирует Малер, но даже эта пьеса спаслась благодаря чудесной (не похожей на Малера) концовке и, пусть меня простят за это замечание, драматически довольно сходной с концовкой «Петрушки»: за кульминацией следует успокоение, затем несколько прерывистых фраз у солирующих инструментов и финальный протест труб; последний такт у труб – одно из прекраснейших мест, когда-либо созданных Бергом. Три пьесы для оркестра должны рассматриваться как единое целое. Это драматический комплекс, все три части которого связаны между собой тематически (превосходно возвращение темы Прелюдии в 160-м такте Марша). Форма каждой отдельной пьесы тоже драматична. Я считаю, что наиболее совершенна из них по замыслу и выполнению Прелюдия. Форма дает спад и подъем, она закруглена и свободна от повторов. Она начинается и кончается ударными, и первые звуки у литавр уже тематичны. Затем флейты и фагот излагают главный ритмический мотив как подготовку к соло альтового тромбона, одному из самых благородных по звучанию во всей оркестровой музыке. Фантазия и мастерство оркестровки Берга феноменальны, в особенности в создании оркестровых массивов, под чем я подразумеваю целостное уравновешивание оркестра в нескольких полифонических планах. Одно из самых замечательных звучаний, когда-либо им задуманных – в 89-м такте Хоровода, но там есть еще много других поразительных звуковых изобретений, например вступление тубы в 110-м такте Хоровода, 49-й такт Прелюдии, 144-й такт Марша.
У меня на стене висит фотография, относящаяся ко времени создания Трех пьес для оркестра, на которой сняты вместе Берг и Веберн. Берг высокого роста, небрежный, с открытым взглядом, почти что чересчур красивый. Веберн небольшой, решительный, близорукий, с обращенным вниз взором. Индивидуальность Берга отражается в его разлетающемся «артистическом» галстуке; Веберн носит крестьянскую обувь – грязную, что таит для меня какой-то глубокий смысл. Глядя на этот снимок, я не могу не вспомнить, что спустя всего несколько лет оба они умерли преждевременной и трагической смертью после жизни, проведенной в бедности, музыкальном непризнании и, под конец, в музыкальном изгнании из своей собственной страны. Я представляю себе Веберна, который в последние месяцы жизни часто посещал кладбище в Миттерсиле, где позднее сам был похоронен, стоящего в тиши и взирающего на горы, как свидетельствует его дочь; и Берга в последние месяцы перед кончиной подозревающего, что его болезнь может стать фатальной. Я сравниваю судьбу этих двух людей, которые не претендовали на внимание мира, но создавали музыку, увековечившую первую половину нашего столетия, сравниваю их судьбу с «карьерами» дирижеров, пианистов, скрипачей – этих пустых наростов на нашей музыкальной жизни. Вот почему фотография, на которой запечатлены два великих музыканта, два чистых душой, благородных человека, низводит мою веру в справедливость на нижайший уровень. (I)
Рл К. Сохранились ли у вас еще какие-нибудь воспоминания об Арнольде Шёнберге?
И. С. Имя Шёнберга я слышал еще в 1907 г., но первым соприкосновением с его музыкой был «Лунный Пьеро». Я не видел также ни одной из его партитур, и, помнится, ни одна из его вещей не игралась в Петербурге, когда я жил там. Не знаю, каким образом устроилась наша встреча в Берлине, но инициатива, должно быть, принадлежала Дягилеву; Дягилев хотел дать Шёнбергу заказ. Помню, что сидел с Шёнбергом, его женой Матильдой и Дягилевым на спектакле «Петрушки»; у меня сохранилось также ясное воспоминание о Шёнберге в его артистической после того, как он в четвертый раз продирижировал своим «Лунным Пьеро» в Choralion Saal, Бельвюштрассе, 4; это было в воскресенье 8 декабря 1912 года, в 12 часов дня, и у меня все еще хранится использованный билет. Альбертина Цеме, исполнительница Sprechstimme, была в костюме Пьеро и сопровождала свои горловые звуки сдержанной пантомимой. Я помню и то, что музыканты сидели за занавесом, но я был слишком занят партитурой, которую дал мне Шёнберг, чтобы заметить что-нибудь еще. Помню, публика была тихой и внимательной, и мне хотелось, чтобы фрау Цеме тоже вела себя потише и не мешала слушать музыку. Мы с Дягилевым находились под одинаковым впечатлением от «Лунного Пьеро», хотя он определил его, с эстетической точки зрения, как продукт Jugendstil.[79]79
Здесь – декаденства. – Ред.
[Закрыть]
Во время моего короткого пребывания в Берлине я неоднократно встречался с Шёнбергом и не раз бывал у него дома. Я прдехал в отель Adlon из Швейцарии 20 ноября 1912 г.; помню, что в поезде я работал над партитурой «Весны священной». Эдуард Штойерман, пианист в первых исполнениях «Лунного Пьеро», припоминает обед со мной в доме Шёнберга, на котором присутствовали Веберн и Берг, но, увы, у меня не сохранилось воспоминаний об этой первой и последней Вечере с гипо– статической троицей музыки XX века.
Когда я встретился с Бергом в Венеции в сентябре 1934 г. на концерте, где я дирижировал своим Каприччио, а Шерхен «Вином» – вещами столь же различными, как Эрос и Агапе, – мы не упоминали о том, что встречались раньше. Мне говорили, что прослушав Каприччио, Берг сказал, что хотел бы уметь писать «такую беззаботную музыку», но когда после концерта он представился мне в артистической, его манера показалась мне несколько снисходительной, хотя людям маленького роста часто кажется, что высокие люди смотрят на них сверху вниз.
Шёнберг был небольшого роста. Во мне 5 футов 3 дюйма, и вес мой 120 фунтов. Эти величины были в точности такими же 50 лет тому назад, но Шёнберг был ниже меня ростом. Он был лыс, с венчиком черных волос, окаймлявших его белый череп наподобие японской театральной маски. У него были большие уши и приятный глубокий голос – не такой basso, как у меня – с приятным венским акцентом. У него были выпуклые пылающие глаза, и вся сила этого человека отражалась в них. Я не знал тогда того, что знаю сейчас, то есть, что тремя годами ранее «Лунного Пьеро» Шёнберг написал Пять пьес для оркестра, «Ожидание» и «Счастливую руку», – главные три сочинения, рассматриваемые сейчас как эпицентр развития нашего музыкального языка. (Под словом «мы» я подразумеваю небольшую пока группу, так как большинство композиторов все еще натыкается друг на друга в потемках.) Истинное богатство «Лунного Пьеро» – звучание и материал, поскольку «Пьеро» является солнечным сплетением и «солью» музыки начала XX века – было выше моего понимания, как было выше понимания всех нас в то время, и когда Булез писал, что я понял это сочинение d’une fa?on impressioniste,[80]80
на импрессионистический лад (фр.)
[Закрыть]он не был доброжелателен, но был прав. Тем не менее, я отдавал себе отчет
в том, что это самое яркое предвидение будущего в моей жизни, хотя в такие моменты «будущее» никогда не бывает осознанной идеей и элементом умозаключений. Время не проходит, проходим только мы, и теперь я знаю не больше того, что знал тогда, поскольку качество моего знания другое, но я знал и понял силу этого человека и его музыки полстолетия назад'
Вскоре после исполнения «Лунного Пьеро» Шёнберг уехал в Петербург дирижировать своим «Пеллеасом и Мелизандой». При расставании мы были с ним в хороших отношениях, но больше никогда не встречались. В 1919 г. в Морж я получил от него весьма сердечное письмо с просьбой прислать мои камерные сочинения для включения в программы его венских концертов Общества закрытых исполнений. Я написал ему, и он ответил мне. Затем в 1920 и 1921 гг. я слышал «Пьеро» в Париже под управлением Дариуса Мийо в исполнении Марии Фрейнд. После этого, как это ни невероятно, я больше не слышал ни одной ноты Шёнберга до «Prdlude to Genesis» в Голливуде в ноябре 1945 г., когда мы вполне могли встретиться, так как были в один и тот же день в студии звукозаписи и сидели на противоположных сторонах в театре Уилшир Эбелл на премьере «Genesis Suite». Шёнберг дирижировал своей Серенадой в Венеции в сентябре 1925 г., а на следующий день я играл там свою Фортепианную сонату, но ни один из нас не слышал тогда музыку другого. Спустя много лет, познакомившись с Серенадой, я понял, что Шёнбергу, возможно, нравилась моя «История солдата», о чем мне говорили в то время. Когда я приехал в Лос-Анжелос в 1935 г., Клемперер и другие наши общие друзья пытались свести нас вместе, но лишь после 1948 г. встреча стала казаться возможной. В последний раз я видел Шёнберга в 1949 г., когда он появился на эстраде во время одного концерта и прочел речь, проникнутую тонкой иронией, благодаря за честь признания его, с опозданием на полстолетия, почетным гражданином города Вены, о чем только что ему было сообщено через австрийского консула. Помню, что он обращался к консулу, повторяя «ваше превосходительство», и читал свою речь по большим листам бумаги, которые извлекал один за другим из своего кармана; у него было тогда очень плохое зрение, и на каждой странице содержалось всего несколько слов, написанных крупным почерком. Даже по случаю такого события, вместо программы, составленной из вещей одного Шёнберга, была сыграна только его ранняя Камерная симфония.[81]81
Я восхищаюсь Камерной симфонией, но меня не привлекает звучание солирующих струнных – они напоминают мне небольшие, из экономи-
[Закрыть]
Через два дня после смерти Шёнберга мне довелось посетить дом госпожи Малер-Верфель и видеть там снятую с Шёнберга еще сырую, посмертную маску. Менее чем через год его «Ожидание» и мой «Царь Эдип» – сочетание немыслимое несколькими годами ранее – были исполнены вместе в Париже покойным Хансом Розбаудом как двойная концертная программа. Надеюсь, что Шёнберг был бы доволен. Знаю, что я был доволен.
Р. К. Не выскажетесь ли вы по поводу популярного мнения о Шёнберге и Стравинском как о тезе и антитезе?
И. С. Подобно всякому произвольному утверждению и это легко поддается развитию, но в форме широких и не очень надежных обобщений. Например:
10. Педагог. Большое количество работ по теории музыки. Едва ли кто-нибудь избежал его школы.(Но философия преподавания следующая: «Гении учатся только у самих себя; таланты* главным образом, у других. Генийческих соображений, оркестры передвижных театров 20-х гг., хотя я согла-U сен, что вариант с умноженными струнными чрезмерно смягчает и притупляет звучание вещи в целом. Временами это сочинение звучит для меня как совместное творение Вагнера, Малера, Брамса и Штрауса, как будто один из этих композиторов написад верхний голос, другой – бас и т. д. Но триоли здесь принадлежат не Брамсу, чьи триоли лирические, а Малеру, чьи триоли риторические. Тем не менее, Камерная симфония более полифонична, чем музыка любого из этих* композиторов. томление (нем.)выразительно (нем.)
10. Педагог. Большое количество работ по теории музыки. Едва ли кто-нибудь избежал его школы.
(Но философия преподавания следующая: «Гении учатся только у самих себя; таланты* главным образом, у других. Гений
ческих соображений, оркестры передвижных театров 20-х гг., хотя я согла-U сен, что вариант с умноженными струнными чрезмерно смягчает и притупляет звучание вещи в целом. Временами это сочинение звучит для меня как совместное творение Вагнера, Малера, Брамса и Штрауса, как будто один из этих композиторов написад верхний голос, другой – бас и т. д. Но триоли здесь принадлежат не Брамсу, чьи триоли лирические, а Малеру, чьи триоли риторические. Тем не менее, Камерная симфония более полифонична, чем музыка любого из этих* композиторов.
томление (нем.)
выразительно (нем.)
Шёнберг
Путь в будущее.
Дворцовый переворот.
Эволюция.
«Сегодня я: открыл нечто, что утвердит превосходство немецкой музыки на следующие 100 лет». Шёнберг, июль 1921 г., рассказывающий одному своему другу об открытии им додекафонии.
Еж (Моисей).
«Музыка выражает все, что заложено в нас…»
«Балет не является музыкальной формой».
По существу полифоничен.
Фактически без повторов.
Стравинский
Использование прошлого.
Реставрация.
Адаптация.
Реакция против «немецкой музыки» или немецкого «романтизма». Никакого «Sehnsucht» никакого «Ausdrucksvoll» 2.
Лисица (эклектическая и богатая разновидность) (Аарон).
«Музыка вообще бессильна выражать что-либо».
Основная продукция – балеты.
По существу гомофоничен.
Широкое применение повторов (ostinato) во всех произведениях до «Движений».
Никогда не был педагогом. Никаких работ по теории музыки.
получает знание из природы, из своей собственной природы; таланты – из искусства».)
И. Никогда не сочинял за роялем.
Сочинял порывами, с быстротой молнии, в «пылу вдохновения». Отсюда много незаконченных вещей.
Современные сюжеты (музыка протеста): «Уцелевший йз Варшавы».
Широкое использование rubato.
Объединяющий взгляд на прошлое.
Хроматизм.
Espresslvo. Партитуры полны обозначений динамики.
Legati.
Предпочитает плотный» сложный восьмиголосный контрапункт (хоры, ор. 35; канон из «Genesis Prelude»).
20. «То, что говорит китайский философ, не может быть отдедено от того факта, что он говорит это по– китайски». (Озабоченность вопросами манеры – manner – и стиля.)Все это не более, как приятная игра в слова; интереснее параллели. Например: Общая для обоих вера во Власть Божества (Divine Authority), в иудейского Бога, библейскую мифологию, католическую культуру. Препятствие в виде успеха первых сочинений – «Ночь просветления» и «Жар-птица», – оставшихся наиболее популярными из всех наших сочинений в течение всей нашей жизни и после смерти. Тесный параллелизм развития за 60-летний период времени. Общее у нас изгнанничество к одной и той же чуждой культуре, где мы написали некоторые из наших лучших вещей (его IV квартет, мой «Авраам и Исаак») и где нас все еще играют гораздо меньше, чем в изгнавшей нас Европе. Оба отцы многодетных семейств, оба ипохондрики, оба глубоко суеверны. «Китайский философ говорит по-китайски, но что он говорит?» («Что такое стиль»?)
20. «То, что говорит китайский философ, не может быть отдедено от того факта, что он говорит это по– китайски». (Озабоченность вопросами манеры – manner – и стиля.)
Все это не более, как приятная игра в слова; интереснее параллели. Например:
Общая для обоих вера во Власть Божества (Divine Authority), в иудейского Бога, библейскую мифологию, католическую культуру.
Препятствие в виде успеха первых сочинений – «Ночь просветления» и «Жар-птица», – оставшихся наиболее популярными из всех наших сочинений в течение всей нашей жизни и после смерти.
Тесный параллелизм развития за 60-летний период времени.
Общее у нас изгнанничество к одной и той же чуждой культуре, где мы написали некоторые из наших лучших вещей (его IV квартет, мой «Авраам и Исаак») и где нас все еще играют гораздо меньше, чем в изгнавшей нас Европе.
Оба отцы многодетных семейств, оба ипохондрики, оба глубоко суеверны.
И. Сочиняет только за роялем.
12. Сочиняет ежедневно, регулярно, наподобие человека со служебным временем. Нет почти что ни кусочка незаконечнного или неиспользованного материала.
18. Сюжеты из далекого прошлого: «Похождения повесы».
Метрономическая точность, никакого rubato. Идеалом является механическая правильность (Октет, Концерт для фортепиано и ДР-)*
Разъединяющий, в высшей степени избирательный взгляд на прошлое.
Диатоника..
Secco. Партитуры содержат минимум обозначений динамики.
Staccati.
Предпочитает экономный двухголосный контрапункт.
Для нас обоих числа – это вещи.
Мы оба были преданы Слову, и каждый из нас написал некоторые из своих либретто («Моисей и Аарон», «Счастливая рука», «Лестница Иакова», «Свадебка», «Байка про Лису»),
Каждый из нас писал для определенных звучаний, в отличие от позднего Веберна, у которого выбор звучания является заключительной стадией сочинения.
Для нас обоих серия тематична, и мы,^в конечном счете, меньше интересуемся конструкцией серии как таковой, чем Веберн, (IV)
Р. К. Изменили ли вы в чем-нибудь свое мнение о Веберне?
И. С. Нет, он открыл новую дистанцию между музыкальным объектом и нами самими, и отсюда возникло новое музыкальное измерение; в этом отношении его значение очень велико. Но оно признается сейчас даже кумирами утренников.
Веберн как человек тоже стал теперь всплывать на поверхность, благодаря публикации его писем к Бергу, Хумплику и Йоне* В этих письмах он предстает глубоко религиозным человеком и не только в общепринятом смысле (странно, однако, что он сопоставил шесть частей своей второй кантаты с Kyrie, Gloria, Credo, Benedictus, Sanctus, Agnus Dei), но также в простом благочестии к божьим созданиям (цветку, горе, тишине). Музыка для него – это тайна, которую он не пытается объяснить, в то же время для него не существует ничего, кроме музыки. Он стоит перед фризами и прочими чудесами Парфенона и восхищается «концепцией» скульптора, сопоставляя ее с собственным «методом композиции… всегда одно и то же, достигаемое тысячью различных способов» (в другом письме: «.. смысл всегда остается тем же, независимо от различия в способах достижения»). Он никогда не дает более пространных объяснений и даже признается в одном из писем, что необходимость разъяснять – тяжкое испытание для него: «Для меня иногда… мучение преподавать».
Он подобен сельскому священнику, чей мир не простирается за пределы его села – в действительности же он заставляет мой мир казаться удаленным за миллионы миль. И манеры его, и речь тоже сельские и… проповеднические. Он не употребляет ни слова из технического жаргона (в письме к Бергу: «искусство должно быть простым») или из эстетики' («я не понимаю, что значит «классический» и «романтический»;. Он бесконечно терпелив и, конечно же, испытывает бесконечные муки,[82]82
зывают, как много он занимался при сочинении своих поздних вещей соотношением длительностей нот с музыкальным материалом (и темпом, метром, единицей отсчета); и как одна только эта задача побуждала его к неоднократным переделкам.
[Закрыть]но творчество для него абсолютно естественный процесс. Он не наделен бунтарским духом, – в самом деле, он принимает музыкальные традиции без критики, так как вырос в них, – и отнюдь не считает себя радикальным композитором; он был тем, кем был, всегда оставаясь в стороне от так называемого «духа времени». Такой Веберн беспокоит «вебернианцев». Они краснеют за «наивность» и «провинциализм» своего учителя. Они прикрывают его наготу и смотрят в сторону.^ И этот взгляд в сторону совпадает с реакцией против его музыки (в пользу музыки Берга; я слышу сейчас повсюду, что серии Веберна слишком симметричны, что в его музыке слишком выпячиваются двенадцать тонов, что у Берга серийная структура более замаскирована; однако для меня эта музыка, по сравнению с веберновской, подобна старухе, про которую говорят: «как прекрасна, вероятно, она была в молодости»). Веберн был слишком самобытен – то есть слишком явно самим собой. Ко^ нечно, весь мир должен был подражать ему, конечно, ничего из этого не вышло и, конечно, весь мир обвинил его. Но это не имеет значения. Положенные в основу множества музыкальных произведений ужасающие выдумки, приписываемые теперь его имени, не могут ни ослабить его мощь, ни уменьшить его совершенство. Он как вечное явление Христа апостолам в день Троицы для всех, кто верит в. музыку. (И)
Р. К. Как вы понимаете замечание Веберна: «Не пишите музыку, руководствуясь только ухом. Ваш слух всегда верно направит вас, но вы должны знать – почему».
И. С. В определенном смысле Веберна не удовлетворяло пассивное слушание музыки: ему нужно, чтобы слушающий, будь то композитор или слушатель, воспринимал услышанное сознательно: «Вы должны знать – почему». Это заставляет не только слушать, но и слышать, и призывает слушателя к активному контакту с музыкой. (I)