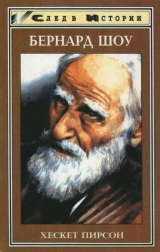
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
На Виктория-Гроув в доме № 13 Шоу прожили с приезда Джи-Би-Эс в Лондон почти четыре года. Потом держать целый дом стало слишком обременительно, и они переселились на Фицрой-стрит, во второй этаж дома № 37 – это был самый последний дом на левой стороне улицы и стоял он уже неподалеку от Фицрой-Скуэр, простиравшейся к северу. Затем они вознеслись этажом выше в доме № 36 по Оснабург-стрит. Теперь здесь Приют Св. Екатерины, а некоторое время, по словам Шоу, был Приют Св. Бернарда. В конце концов миссис Шоу с сыном заняли два верхних этажа в доме № 29 на Фицрой-Скуэр. Дочь устроилась на сцену и часто выезжала в провинцию с оперетками, которым еще не скоро придут на смену музыкальные комедии.
Шоу сохранил для нас чрезвычайно живую картину Фицрой-Скуэр начала 90-х годов:
«Умаявшись от беготни, я прихожу домой, а живу я на одной лондонской площади, где сожительствуют покой особнячков с Рассел-Скуэр и деятельная неразбериха Сохо или Голден-Скуэр. Имеется парочка клубов.
Там есть бар, и даются музыкальные вечера, но публика порой срывается в лихой пляс, слышный за хорошую милю. Некая солидная торговля держит здесь помещение для своего барахла и несколько способных теноров, раскланивающихся за прилавком. Добровольцы устроили на втором этаже штаб и набираются уму-разуму, а во дворе палят из мелкокалиберок, разнося треск на тысячу ярдов в округе. И все же в летние вечера, когда распахнутые окна выбалтывали площади все без утайки, я садился и работал и терпел меньше неудобств, чем от семейного фортепиано. Эту шарманку, сходившую за «прекрасный инструмент» в глазах британского квартиросъемщика, терзает обычно какая-нибудь дамочка, которой в детстве на ухо крепко наступил слон. Музыкой она балуется ради «образованности» или уступая серьезному заблуждению своей матушки. Хотя бы им, сердечным, дали спинеты вместо фортепиано – все, может, потише стало бы. Или взять скрипку. Теперь скрипка в большой чести, и это добрый знак. Но в местах, где одни миллионеры могут позволить себе жить в особняках, и скрипка может вдруг обернуться страшно громким инструментом».
В первые девять лет своей жизни в Лондоне Шоу просиживал много времени в читальном зале Британского музея: тут ему и кабинет и библиотека, а исполнительный комитет Фабианского общества был его университетом. В Британском музее он трудился каждый божий день на благо уму и сердцу «десяти миллионов человек»: он скромничал, определяя этим числом аудиторию своих будущих зрителей и читателей.
На свете нет другого уголка, столь облюбованного чудаками, как читальный зал Британского музея в дневные часы. Здесь анархист, строящий новый мир с помощью динамита, посиживает рядом с ученым, бледнеющим каждый раз, как ему попадается в тексте «split infinitive» [42]42
Расчлененная инфинитивная конструкция.
[Закрыть]. Вот разминулись, задев друг друга, бесстрашный рыцарь любви и человек, который не согрешит, хоть озолотите. А вот священник трудится над жизнеописаниями святых, ограждаясь пирамидой книг от увлеченного читателя порнографического трактата. Любознательность роднит и пылких исследователей и сонливых тугодумов. Опыт Шоу свидетельствует, что даже охотники до денег и вымогатели могут здесь кое-чем поживиться, хотя, разумеется, разгуляться им тут негде – не такое место.
«В бытность мою завсегдатаем читального зала Британского музея, этой великолепной коммунистической организации, я, помнится, посулил два фунта за переписывание человеку, чья благородная бедность тронула бы и каменное сердце. В прошлом учитель, он не ужился с новыми веяниями и угодил в читальный зал с той же неотвратимостью, что собирает в приюты Армии Спасения менее образованную публику. Он по всем статьям подходил для моего поручения: не забулдыга, приятный в обращении и разговоре, в высшей степени положительный человек и настоящий книголюб. Но он-то и заварил кашу: сначала взял у меня аванс в пять шиллингов, а потом перепродал работу такому же бедняку за фунт пятнадцать шиллингов и со спокойной душой погрузился в свои любимые книги. Этот второй, а точнее сказать – третий участник сделки выпросил у моего знакомого под аванс шиллинг и шесть пенсов якобы на покупку бумаги, а в действительности на выпивку, и, возымев ее, передал контракт четвертому лицу. Тот дал согласие работать за фунт тринадцать шиллингов и шесть пенсов. Еще день-другой шла лихорадочная спекуляция, а к работе никто не притрагивался. В итоге она попала в руки самого что ни на есть последнего пьяницы-переписчика, и тот сделал ее ни много ни мало за пять шиллингов, но зато шестипенсовики стрелял у меня до самой своей смерти, которую уверенно приближали четыре пенса, в то время как благоразумно истраченные два пенса ненадолго ее отводили».
В те дни читальный зал посещали три любопытные личности, из которых каждая по-своему заинтересовала Шоу, – о них стоит рассказать.
Итак, Томас Тайлер. «В 80-е годы в читальный зал Британского музея ежедневно являлся джентльмен с внешностью настолько вопиюще безобразной, что, однажды увидав, забыть его уже было невозможно. Лицом он был бледен, волосы отдавали медным отливом, возраст от сорока пяти до шестидесяти; носил сюртук и приличный, хотя и не новый, котелок. Вылеплен он был весьма прямолинейно: талия, шея, щиколотки – все это отсутствовало. Роста был среднего, а казался еще ниже, ибо, не отличаясь большой дородностью, не был, однако, и худощав. Враждебных чувств его безобразие не пробуждало. От левого уха и ниже, от подбородка, набухал чудовищный зоб, провисший до самой ключицы; очень слабый противовес зобу составляла выпуклость, посаженная на правое веко. Злонравие природы столь явно превзошло здесь все границы, что даже просчиталось в своей главной цели – предмет его не вызывал отвращения. При встрече с Томасом Тайлером вы задумывались всегда об одном: неужели уж так бессильна наша хирургия? Но, едва разговорившись, забывали об уродстве: перед вами был Ромео или Ловелас – не хуже. Как обидно, что люди, и особенно женщины, не умели превозмочь первые мучительные минуты знакомства с ним и он так и остался без друзей, без жены. Я не посмотрел на опухоль, завязал с ним сердечные отношения; он доверительно рассказывал мне о своей работе».
Тайлер занимался историей пессимизма, перевел Екклезиаста, написал книгу о шекспировских сонетах, ошибочно приписав их посвящение графу Пемброку и предположив, что под «смуглой леди» скрывается Мери Фиттон. Шоу отрецензировал труд Тайлера, чем просвещенный мир обязан знакомством с теориями последнего.
В читальном зале Шоу не мог не отметить еще одну странную личность. Это был Сэмюэл Батлер, чьи взгляды на эволюцию не прошли бесследно для мировоззрения Шоу. Впрочем, познакомились они позже. О Батлере Шоу поведал мне следующую историю: «Много лет назад я состоял членом лондонского западного отделения Фабианского общества. Отделение насчитывало четырех членов: я, секретарь, казначей и джентльмен, помешавшийся на биметаллизме [43]43
Денежная система, оперирующая золотом и серебром как платежным средством.
[Закрыть]. Все свободное время секретарь отписывал разным знаменитостям приглашения выступить с лекцией в нашем отделении. Иные вежливо уклонялись – например, Гладстон. Другие просто не отвечали. На собрания никто не являлся, в том числе и я. Биметаллист вообще ничем не интересовался, кроме биметаллизма.
И однажды я читаю объявление: Сэмюэл Батлер выступит в нашем отделении с лекцией об «Одиссее», он тогда носился с мыслью, что автор поэмы – женщина. Я был убежден, что он даже не подозревал об угрожающем положении, в котором вскоре окажется. Слушать его придут самое большее шесть человек, из которых один всенепременно втянет оратора в спор о биметаллизме. Я разослал слезные просьбы всем, кто пришел мне на память, – явитесь и утихомирьте биметаллиста. Примерно сорок человек нехотя согласились, но слово сдержали только двадцать. Батлеру внимал самый большой кворум за всю деятельность отделения.
В середине лекции Батлер допустил паузу, перебирая свои записи. Грех было прозевать такую возможность, и встал биметаллист. Но я уже принял меры, и биметаллист был усажен увещеваниями пары дюжих молодцов, карауливших его с обеих сторон. Лекция Батлера была интересно построена и так захватывающе прочитана, что после следующей неудачной попытки биметаллист напрочь забыл свои валютные тревоги и даже позаимствовал у меня «Одиссею». Спустя несколько дней он вернул книгу, испещрив поля заметками о биметаллизме. После лекции я открыл обсуждение, горячо соглашаясь, что «Одиссею» написала Навсикая. Никто не спорил, и Батлер отправился домой во славе и со спокойной душой».
Благотворным, полезным (и для дела и для души) обернулось знакомство с третьей личностью – Уильямом Арчером, впоследствии известным театральным критиком и переводчиком Ибсена. Высокий, красивый шотландец, Арчер скрывал за своей суровой сдержанностью отзывчивую душу. Считалось, что он не знает чувств, не понимает смеха, но Шоу сошелся с ним, именно распознав, что всем этим Арчер богат сполна. Читальный зал сдружил их на много лет. Шоу напишет об Арчере: «За ним держалась репутация твердого и беспристрастного человека, довольно прохладного в обращении, но до щепетильности справедливого и неподкупного. Думаю, это мнение окончательно упрочили его высокие скулы, аскетический рисунок подбородка и привычка носить высокий воротник, откуда его голова высовывалась, как из банки».
К концу своей деятельности театрального рецензента Арчер без ложной скромности признается, что «продремал в креслах порядочную часть всемирной драмы» – от Софокла до Шоу. Может, поэтому он так обожал ходить в театр? Может, и дружба с Шоу объясняется тем же обстоятельством, хотя характеры у них были совсем разные.
Первый шаг к знакомству сделал Арчер. Он уже давно заприметил человека с характерной внешностью и вкусами, к тому же, кажется, своего ровесника. Даже менее любознательный, чем Арчер, и тог непременно бы заинтересовался читателем с бледным лицом, обрамленным огненной растительностью: читатель этот перемежал изучение партитуры вагнеровского «Тристана и Изольды» «Капиталом» Маркса. Знакомство с Арчером вывело Шоу на дорожку критика.
Арчер подобрал для Шоу книги на рецензирование в руководимой Уильямом Т. Стэдом «Полл-Молл Газетт». Гонорар – две гинеи за тысячу слов. Лучшего не приходилось и желать: как раз в это время Шоу отставили от рецензирования книжных новинок в «Сен-Джеймс Газетт». Ее редактор Фредерик Гринвуд, приветивший Шоу по рекомендации Гайндмана («Это же второй Гейне!»), был до ужаса потрясен, какое безразличие к смерти жены выказывает некий персонаж в некоем романе его рецензента.
Некоторое время спустя умер критик-искусствовед газеты «Уорлд», и редактор Эдмунд Йетс предложил своему театральному критику Арчеру поработать на два фронта. Арчер уже подумывал отказаться и сочинил очень странное оправдание для этого шага: он-де ничего не смыслит в живописи. Но Шоу его разубедил: вовсе нетрудно научиться понимать живопись, если походить и посмотреть ее. Арчер поддался, но взял с Шоу слово ходить по галереям вместе – один он чего доброго заснет на ходу. Соучастие Шоу позволило Арчеру написать «дельные» статьи о художественных выставках, и половину гонорара с первой серии статей он послал Шоу. Шоу немедленно вернул чек обратно. Арчер переслал его в другой раз, и опять Шоу отказался, заявив: «Никто не может сохранять за собою право собственности на высказанные им мысли… Если за мою подсказку мне полагаются от Вас деньги, то справедливее заплатить художникам – они же подсказали мне все… Лукавый наградил Вас извращенными представлениями, выдав их за совестливость».
Арчер сдался и открыл Йетсу, что, в сущности говоря, всю работу за него сделал Шоу. Статьи Йетсу подошли, и он привлек Шоу в «Уорлд» рецензентом по искусству, положив ему пять пенсов за строчку.
За год такой работы не набегала даже сорока фунтов, но поскольку еще перепадали гонорары за рецензии о живописи в журнале Анни Безант «Наш уголок», Шоу смог в первый год своей журналистской деятельности (1885) заработать целых 112 фунтов. Это было весьма кстати: в тот год умер отец, и семья уже не получала из Дублина еженедельный фунт.
Все вышесказанное лишний раз говорит за то, что Шоу не знал похвального честолюбия: его трудоустройством занимались друзья. Первым среди них был Арчер. Трудился Шоу всегда на совесть, но выгод для себя не искал и упустил множество соблазнительных предложений, за которые другой на его месте ухватился бы, не раздумывая.
Важнее всего, что с первых же шагов на поприще критика Шоу отказался от компромиссов:
«Дважды мне пришлось расстаться с прекрасным положением в критических отделах двух лондонских газет, пользовавшихся солидной репутацией. В первом случае мне вменялось – среди прочих обязанностей – сочинять липовые панегирики дружкам и приятелям редактора, взамен чего разрешалось в полный голос рекламировать собственных друзей. В другой раз во мне взбунтовался стилист: супруга владельца газеты втискивала в мои статьи свою прозу, восторгаясь художниками, которых не отметили ни слава, ни мой вездесущий глаз. Зато супруга быстро замечала их гостеприимство».
Успехи критика в области литературы и живописи померкнут перед позднейшими статьями Шоу о музыке и театре, но умение оживить предмет, смачно его расписать было при нем всегда: примись он даже за тригонометрию, мы бы, наверно, не заскучали.
«Если ваше высказывание читается без злобы – уж лучше тогда помолчите, – наставлял он. – По своей воле люди не заболеют вашей тревогой: их надо раздразнить».
Вот его правило: «отобрав мысль, высказать ее с наивозможнейшим легкомыслием». Юмор заключался в том, чтобы, проделывая эту операцию, оставаться совершенно серьезным. Одна из его статей начиналась следующим образом: «В прошлом месяце искусство получило хорошую оплеуху от Королевской Академии, открывшей в Берлингтон-хаузе свою ежегодную выставку». В другой статье читаем: «Никому еще не довелось повидать в жизни такое, перед чем у Милле опустились бы руки, и все же до многого руки у него не дошли, о чем свидетельствуют полотна рецензируемых художников». О Шоу как обозревателе выставок совершенно достаточно знать, что он поддержал импрессионистов, выступил в защиту Уистлера, высоко отзывался о Берн-Джонсе и Мэдоксе Брауне, поставил на место академика живописи Гудолла и, предвосхищая торжество кинематографа, заявил, что придет день, когда фотокамера вытеснит кисть и карандаш.
На заре своей деятельности Шоу не всегда ладил с редакторами. С Уильямом Стэдом поначалу все шло хорошо: его разоблачение фактов торговли белым товаром привело Шоу в величайшее возбуждение – он даже предложил сам продавать газету на улицах, коль скоро ее бойкотируют киоски. Но Стэд был пуританином и так долго сокрушался над вопросами пола, что немного ошалел. Он считал секс грехом, и только. Очень скоро Шоу понял, что Стэд – заматерелый журналист-недоучка и ничему толковому уже не выучится. Как-то Стэд попросил Шоу поддержать его на публичном митинге в Куинс Холле: «Я разумеется, пришел – и что же вижу? Он ровным счетом ничего не знает; не знает, что такое публичный митинг, как его проводить, зачем сидит председатель. Ему невдомек, что все это не богомольная сходка. И досталось же почтенной публике от его пастырского старания. «Выразим наше всеобщее презрение», – вопит он и закатывает истерическую проповедь. Я ушел тут же. Он даже не подумал, что нельзя созывать в свою поддержку католиков, евреев, агностиков, индусов и закатывать им представление в духе религиозного «возродимся». Это, наконец, просто нетактично».
А Стэд ходил как в воду опущенный, если ему не давали поврачевать душу падшую, а то и вовсе что-нибудь неодушевленное. Настал час, когда он решил духовно воскресить театральные подмостки. Актрисы часто очень недурны собой – стало быть, они аморальны. Стэд обязал себя ходить в театр, чтобы на месте во всем разобраться. Когда Шоу прослышал о добровольном подвижничестве своего редактора, терпение его лопнуло:
«Что Вы придуриваетесь, Уильям Стэд, какая там еще аморальность актерок? Пойдемте со мной в любую церковь, на Ваш выбор, и я ткну Вас носом в тучных сударынь с грубыми голосами и обрюзгшими лицами: вот в каком образе красуется невоздержанность. Деньги они просаживают в свою утробу, и одной ненасытной чувственностью оправдывают свой брак. А Вы преклоняетесь перед их добродетелями, перед их «чистотой», по Вашему определению, – Вы и их пастыри. Теперь извольте проводить меня в театр. Я покажу Вам женщин, которые ради своего дела воспитывают в себе выносливость, учатся выворачивать для вас свою душу, следят за собой, чтобы всегда оставаться в форме, чтобы радовать Ваш глаз. Уступи они своим желаниям, разреши они себе хотя бы недельку как следует поесть – и вся их работа полетит к черту. Но Вы лезете на стенку и скрипите о «безнравственности» – лишь оттого, что в своих сердечных делах им не указ слепые и глухие брачные законы Англии. Подумайте над всем этим, уютно устроившись в театральном кресле; задумайтесь, сколь порочно и безнравственно было Ваше постное филистерское воспитание и скорее глушите свою надменность: уже поднялся занавес, уже взору вашему предстает не душное месиво голых плеч, окружающих Вас в зале, но стройная, изящная дочь театра. Уповая на скорое и счастливое Ваше обращение, остаюсь Ваш всегда терпеливый наставник
Джи-Би-Эс».
Была у Стэда и заветная идея: умиротворить мировые распри, нанеся с группой гениев визиты всем европейским монархам. Он пригласил Шоу войти в число этих гениев, а тот предложил все переиграть наоборот: пусть короли наведаются к гениям – им делать нечего, а гений и без того загружен. В этом случае Шоу обещал восторженный прием любому монарху, какого только затащит к нему Стэд, и столько добрых советов, сколько их пожелает получить высочайшая особа.
И еще одна неувязка с редактором приключилась у Шоу.
Литературную страницу в «Дейли Кроникл» вел Генри Вуд Нэвинсон. Он предложил Шоу отрецензировать пять книг о музыке. Объем – полторы колонки, оплата обычная, то есть несколько пенсов «с верстки», а бывало, накинут еще полпенни. Этого правила «Дейли Кроникл» держалась с того времени, когда была еще захудалым провинциальным листком и имела дело с безответной пишущей братией. Но с Шоу газете не повезло – им попался отчаянный тред-юнионист. Он никогда не мешал конкуренту, предлагая свои услуги на более скромных условиях, напротив, сам не упускал случая повысить расценки на свой литературный труд. Безразличие к деньгам позволяло ему далеко заходить, играя в стяжателя: нуждающиеся литераторы предпочитали не гневить редакторов и владельцев газет. Шоу немедленно заявил, что его совершенно не волнует верстка – он не наборщик. Его условия: пять фунтов за колонку (обычная такса была три гинеи). При этом он величал «Дейли Кроникл» Излингтонским Орлом, Грозой столичного проспекта, Хокстонским Квартирьером и т. д. – как бог на душу положит, хотя «Кроникл», говоря по совести, вела заурядное происхождение от «Клеркенуэлл Таймс».
Ответ редакции гласил: «Дорогой сэр! По поводу известной статьи редактор уполномочил меня передать, что скорее увидит Вас в аду, нежели заплатит больше пяти фунтов» [44]44
То есть редакция собирается заплатить Шоу по обычной таксе – три гинеи за столбец.
[Закрыть]. Шоу продолжал в том же духе: «Дорогой сэр! Соблаговолите передать редактору: пусть он, и Вы, и вся Ваша компания «Кроникл» переварятся вкрутую в преисподней, прежде чем я возьмусь работать за эти деньги». И, как всегда, Шоу настоял на своем. Раз за разом выносилось решение исключить его из числа сотрудников – чтобы духу его не было в газете! И всякий раз Мэссингем, Генри Норман или Нэвивсон – любой из тех, кому посчастливилось быть редактором Шоу, – прощали ему его дерзость и шли на мировую, только бы он у них работал.
Следует заметить, что в цитированной переписке обе стороны проявили исключительную корректность – как ее понимал Шоу, – хотя, на взгляд иного, здесь одни запретные приемы. Шоу заявлял: «Не береги чувства людей обидчивых. Бей их не раздумывая по носу и получай сдачи. Ссориться с тобой они уже не станут». Это правило работало так безотказно, что его поспешили перенять самые сообразительные из его друзей. Даже в состоянии, казалось бы, полной невменяемости Шоу был себе на уме. Иначе трудно было бы объяснить его дерзкие выходки – человек он был весьма осторожный.
С первых же денег – они стали у него водиться именно с 1885 года – Шоу раскошелился на приличный, просто даже шикарный костюм: шерстяную трикотажную тройку шоколадного цвета. Это было творение Егера, немецкого ученого мужа, славившего шерстяное белье как средство украсить и оздоровить жизнь. Шоу нашел достойной внимания мысль ученого и решил проверить ее на деле. Более того, поскольку других мучеников за новую веру не объявлялось, Шоу самолично прошествовал в своем привлекательном одеянии по Вест-Энду. Случалось, людей приканчивали и за меньший грех, но его экспедиция не стоила и капли крови. Он даже съездил в Хаммерсмит и покрасовался перед Мэй Моррис. Отныне он будет носить щеголеватые будничные костюмы – тут и конец рубищу.








