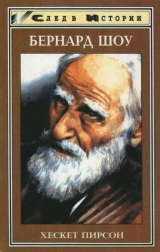
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
Иной раз напряженная атмосфера репетиций разряжалась короткой перепалкой трех острословов. Три спрашивал: «Может быть, накормить Шоу бифштексом и влить хоть немного крови в его жилы?» Миссис Кэмбл протестовала: «Ради бога, не надо! Он и так хорош. А если дать ему мяса, какая женщина в Лондоне поручится за свою безопасность?»
Три хотелось бы сыграть мусорщика, но он ухватился за напоминание Шоу о том, что ему не к лицу быть в своем театре на вторых ролях. Он в жизни не видывал никаких профессоров фонетики. Его собственную дикцию, по словам Шоу, «как и его самого, ни с чем на свете нельзя было спутать». Рубящий с плеча профессор ему не подходил, и он вознамерился сделать из него симпатичного любовника. Шоу всячески мешал этой затее, и Три был сбит с толку.
Его, кроме того, раздражало повышенное внимание Шоу к его игре. Миссис Кэмбл доносила Шоу: «Единственное, чего добивается Три, это прийтись Вам по вкусу со своим Хиггинсом». Но, настрадавшись на репетициях, Шоу редко приходил на этот спектакль.
Однако он откликнулся на неоднократные приглашения Три и пообещал посетить сотое представление, каковое вряд ли должно было иметь место. Но ему суждено было исполнить свое обещание. Он присутствовал на сотом представлении – и наказал себя за свои грехи, обнаружив без особого удивления следующее: «Три подбросил во втором акте такого несусветного комизма, что я торжественно проклял всю эту затею и навсегда распрощался с преступниками-лицедеями». Потом (снова без особого удивления) он обнаружил, что Три, поклонник романтических концовок, ухватился за идею бросать Элизе букет цветов в короткое мгновение, отделяющее последние слова пьесы от финального занавеса. Публика уходила из театра, растроганная предстоящей женитьбой профессора на цветочнице, что ни в какой степени не входило в намерения автора и не соответствовало его понятию об этих персонажах и их отношениях. Шоу в нескольких письмах постарался указать Три его ошибку, но Три указал Шоу на сборы:
– Моя концовка приносит доход. Вы должны быть мне благодарны.
– Ваша концовка, будь она проклята! Вас за нее мало расстрелять.
Миссис Кэмбл, увлеченную как раз тогда своими матримониальными планами, было невозможно заставить репетировать. Она приходила в театр, едва слышно и безучастно повторяла свои реплики и снова исчезала. Шоу послал ей письмо, она вернула его нераспечатанным. Следующее послание он отправил ей в официальном, деловом конверте, адрес был напечатан на машинке. Репетиции подходили к концу, дата премьеры угрожающе приближалась, а миссис Кэмбл все еще не могла отнестись к происходящему серьезно. Ее, разумеется, хватило на то, чтобы поскандалить с Шоу о расположении мебели и украдкой перетащить всю мебель за кулисы. Шоу все-таки велел машинисту сцены привинтить мебель к полу – кроме огромного пианино, которое пусть себе толкает с места на место! Три уже бегал по театру, воздев руки к небу, – из разных концов помещения доносились то его стоны, то проклятья.
Но Стелла, как опытный фокусник, держала успех в рукаве и провела премьеру без единой ошибки.
Самой большой сенсацией премьеры стала фраза «К… бабушке!» [137]137
Эту фразу в русском варианте «Пигмалиона» переводят «К чертовой бабушке!», В оригинале она ближе к современному: «Ни черта подобного!», только употреблено более грубое слово.
[Закрыть]. Публика изумленно ахнула. (Этот звук можно было принять и за шиканье.) На последующих представлениях такого не случалось, поскольку публика теперь знала, что ей предстоит услышать, и заранее давилась от смеха. Эта фраза была ближайшим эквивалентом, подобранным Шоу к тем двум хлестким словам, с которыми покинула общество смоллетовская девица. Но и в этой, поприличневшей форме фраза взбаламутила все старшее поколение.
Один из представителей этого рода зрителей, Сидней Гранди, извергнул на Шоу поток обвинений. Хотя употребленные Шоу слова безвредны, когда ими пользуется гений, писал Гранди, под пером Шоу из них «сочится яд». По мнению Гранди, Шоу ставил под угрозу свободу английской сцены и наносил своим поступком глубочайшее оскорбление общественному вкусу, вызывая в ответ всеобщее негодование. Скорее всего, в Гранди говорила зависть, с которой талант всегда встречает мгновенный успех гения. А может быть, он вспомнил о тех временах, когда Шоу в одной из своих рецензий посчитал пьесу Гранди «простой уловкой для заполнения репертуара, и, увы, можно было словчить и похитрее». Да, ему было что вспомнить, ибо прописи Гранди по вопросам пола, угодившие в одну из его пьес, Шоу назвал «величайшей чепухой на свете». Что бы там ни вспоминал Гранди, он так и не понял, что легче было достать рукой до звезд, чем написать в его время «Пигмалион».
Но не только его устами глаголило «всеобщее негодование». Ассоциация театральных антрепренеров обратилась с письмом к Три, своему президенту, сообщая, что от одного из членов поступила жалоба, касающаяся фразы «К… бабушке!», и, «имея в виду интересы поддержания уважения, какое питает к театру публика», они были бы крайне признательны, если Три сочтет возможным опустить слова, вызывающие нарекания, поскольку эти слова унижают их профессиональное достоинство, а произнесение этих слов может повлечь к аннулированию лицензий, выданных антрепренерам тех трупп, где идет пьеса Шоу. Три попросил Генри Дана ответить, что он отклоняет предложение и удивлен непозволительно резкому тону письма.
«Всеобщее негодование» выразилось еще и в том, что каждый вечер театр был набит до отказа и спектакль сопровождали взрывы аплодисментов. Шоу назвал «Пигмалион» своим «Как вам это понравится», – иными словами, это понравилось его публике. Лондонские спектакли принесли Три тринадцать тысяч фунтов. Он мог бы увеличить сборы, но устал от спектакля и мечтал отдохнуть в Мариенбаде. В конце июля «Пигмалион» при участии Три и Кэмбл прошел в последний раз. Миссис Кэмбл жаловалась Шоу: «Как глупо обрывать спектакли после недели, принесшей две тысячи фунтов!»
Где бы ни ставился «Пигмалион» и кто бы в нем ни играл, пьеса пользовалась оглушительным успехом. Преисполнившись радужных надежд, Три обратился к Шоу с предложением возобновить свой спектакль. Оки говорили об этом, направляясь вместе домой с собрания совета Академии драматического искусства. Через несколько дней всех потрясло известие о скоропостижной кончине Три.
Попытка Стеллы возобновить «Пигмалион», переиначив его ка свой вкус (Хиггинс представал у нее галантным обожателем своего кумира) потерпела провал. Шоу был на одном представлении: «…посмеялся и пошел спать».
Незадолго перед тем чарам Стеллы поддался Барри, написавший для нее новую пьесу. Если бы она была лет на двадцать моложе, эта ее роль имела бы успех как jeu d’esprit [138]138
Игра воображения {франц.)
[Закрыть]. Она играла убийцу – столь очаровательную, что всем приходилось прощать ее, в том числе судье и присяжным. Однако шарм Кэмбл явно шел на убыль; публика, оскорбленная в своих лучших чувствах, не пожелала простить убийцу, вследствие чего пьесу внезапно и со скандалом сняли, а на миссис Патрик Кэмбл зашикали. Это был ее единственный провал – и единственный просчет Барри.
После попытки возобновить «Пигмалион» она дважды с успехом появлялась в Лондоне в амплуа старухи. Ни Шоу, ни Пинеро, которому она заработала состояние, – несмотря на то, что они писали роли, с которыми та Кэмбл, какой они ее знали, могла справиться превосходно (Айрис, Хезиона, Оринтия, Прола), – ей ролей не отдавали. Антрепренеры старой закалки откосились к Кэмбл так же, как Александер.
Ее второе замужество завершилось плачевно. Невозможно было не влюбиться в Стеллу, но жить вместе с ней тоже было невозможно. Кэмбл уехала в Америку, где она никому не была нужна. Потом она оказалась в Париже и не сумела выбраться в Англию, потому что это на целых полгода разлучило бы ее с любимой собачкой. Ее сбережения подходили к концу, и пришлось переезжать в По, в Пиренеи, где жизнь была сравнительно дешевой. Там ее свалило воспаление легких, «не сказать, чтобы смертельно опасное, – говорил доктор, – но как поручиться за жизнь пациентки, которой нисколько не дорога жизнь?» Она скончалась. Среди ее последних слов, которые могли разобрать присутствующие, было одно имя – Джой… Прежние поклонники воспряли, наконец, духом, и могли теперь без риска для себя вспоминать только те ее черты, которые подходили под привычные рубрики: «благородство», «щедрость», «честь», «гордость».
EN PANTOUFLES [139]139
Букв.: в шлепанцах (франц.). Без церемоний, запросто, по-домашнему.
[Закрыть]
Когда в 1913 году я впервые увидел Шоу, он был уже седым, хотя за девять лет до этого его бороду называли огненно-рыжей. Следовательно, преображение совершилось в возрасте между сорока восемью и пятьюдесятью семью годами. Вместе с сединой к нему пришла всемирная известность. Его мать застала и славу и седину сына. Он смог хорошо устроить последние десять лет ее жизни. Чем занимался сын, ее не волновало.
– Вашей музыкальной критикой она, конечно, интересовалась? – спрашивал я у Шоу.
– Вряд ли она даже видела хоть одну статью.
– А пьесы? Неужели она не смотрела ваших пьес?
– Помилуй бог! Конечно, нет. Хотя подождите… Наверно, она читала «Неравный брак». Я помню, она назвала дочь Тарлетона – «дрянь девчонка». Между прочим, так оно и есть.
В 1912 году Шоу в следующих словах отказывался от какого-то очередного приглашения: «У моей матери (ей 82 года) только что случился удар. Шарлотту треплют астма и бронхит, она вся посинела, задыхается. Я замотался на репетициях: три пьесы сразу – не шутка! Поэтому Ваше письмо почти рассмешило меня».
В следующем году мать умерла. Ее отношения с сыном всегда были ровными: «Я жил с матерью до сорока двух лет и решительно никаких трений между нами не бывало. Но когда после ее смерти я задумался о наших отношениях, я вдруг понял, что очень плохо знал свою мать». На кремацию Шоу взял с собой одного Грэнвилл-Баркера. Шоу питал ужас перед захоронением в землю. Дядя его жены был постоянным секретарем-распорядителем самого большого протестантского кладбища в Дублине – Маунт Джером, и Шоу слишком хорошо знал закулисную сторону кладбищенской жизни. Отходную миссис Шоу давала англиканская церковь. Покойная к ней никогда не принадлежала, и выбор сына определи ли два обстоятельства: во-первых, сам мастер своего дела, он считал неприличным лишать работы своего коллегу, профессионала-священника; во-вторых, ему захотелось проверить на себе англиканскую заупокойную службу. Так и высидели они ее всю – он и Баркер. Прибавьте священника – вот вам весь печальный эскорт миссис Шоу.
Заупокойная служба оставила тяжелое впечатление. Когда впоследствии преподобный Дик Шеппард попросит Шоу внести свои поправки в требник (для Шеппарда Шоу был большим религиозным авторитетом), Шоу гневно пройдется насчет «мрачной патологии» заупокойной службы.
После службы он попал на другую половику, где увидел, как гроб задвигают в подобие камеры, словно излучающей солнечный свет. Вскоре взвилось пламя гранатового цвета, заплясали языки огня. Это зрелище обернулось высоким эстетическим переживанием, и Шоу заделался ревностным защитником кремации, дойдя до утверждения, что христианское захоронение следует приравнять к уголовному преступлению. Когда печь закрыли, он отправился с Грэнвилл-Баркером немного пройтись. Кремация кончилась скоро. Вернувшись в крематорий, они увидели на столе спаленный прах миссис Карр-Шоу. В кем копались двое мужчин в белых халатах и шапочках – вылитые повара: они выбирали куски расплавленного металла, отделяли древесный пепел, оставляя на столе подлинные останки покойной. Чувство юмора тотчас взяло верх и выбило из Шоу всякое чувство реальности. Ему даже чудилось, что и мать вместе с ним глядит на это развлечение. В рамки подобающего поведения его вернуло замечание озадаченного Грэнвилл-Баркера: «Веселая вы душа, Шоу!».
Спустя много лет на панихиде по миссис Уэллс он посоветовал убитому горем Уэллсу пройти к кремационной печи: «Возьмите своих мальчиков и идите, мальчики должны это видеть. Это очень красиво. Я видел, когда жгли мою мать. Вам тоже понравится». Уэллс послушался, и ему действительно понравилось. Совсем иная картина была на кремации сестры Шоу, скончавшейся после первой мировой войны. В завещании покойная решительно запрещала отправлять над ней какие-либо религиозные обряды. Но Шоу был здесь уже не с одним-единственным другом: в часовню набилось много незнакомого народу, все они обожали «дорогую Люси», всем была нужна какая-нибудь церемония. Надо выходить из положения. Шоу мне рассказывал: «Я не мог так просто, без напутствия, спровадить ее в огонь, словно ведерко с углем. Пришлось взойти ка кафедру и произнести пышную элегию, заключив ее погребальной песнью из «Цимбелина». С углем тогда было трудно, и Люси горела ровным белым пламенем – как свечка».
Послушав его рассказы на эту тему, я уже не удивлялся, узнав, что он состоит пайщиком в нескольких новых крематориях.
Шоу любил узнавать, как что делается, – в этом он был похож ка Кипликга. Любил бывать в лабораториях, глазеть и микроскоп на бактерию. Сложные приборы всегда захватывали его воображение, он любил пианолы, граммофоны, радио, счетчики. Зато к оборудованию старого фабричного производства питал неодолимое презрение: все это могла бы изобрести и вошь, говаривал он, если бы вошь видела выгоду от своих изобретений.
Шоу часами возился со своими фотоаппаратами, по целым дням говорил о фотографии с такими же энтузиастами, как он сам. На пороге шестидесятилетия он купил мотоцикл, пригнал его с фабрики (77 миль пути) и лихо развернулся на углу около дома, получив возможность полюбоваться ка свою машину уже со стороны. Мотоцикл и плаванье были его любимым моционом и в восемьдесят лет. В Эйоте он косился по деревенским дорогам на велосипеде или автомобиле. В Лондоне – зимою и летом – каждое утро купался перед завтраком в бассейне Королевского клуба автомобилистов. «Настоящий ирландец терпеть не может мыться, – говорил он. – Но мне необходим этот горячительный стимул – окунуться в холодную воду».
Таковы были его увлечения. Азартных игр не признавал; говорил, что никто не любит с ним играть, раз ему одинаково безразличны выигрыш и проигрыш. Наотрез отказывался утруждать свою голову подсчетом очков. Еще не хватало! Он просто развлекается.
Но во всем остальном его энергии приходилось только удивляться. Вконец измотавшись, Шоу шел в темную комнату, плашмя валился на пол и лежал часами, расслабив все мышцы. За исключением этих случаев, о которых знала одна жена, Шоу не давал себе покоя. Он даже не мог спокойно разговаривать: вскакивал, садился, клал ногу на ногу, засовывал руки в карманы, опять вынимал их, выпрямлялся в кресле или глубоко откидывался на спинку, свешивался вперед, почти до пола, или заваливался назад – минуты не мог пробыть в одном положении!
Он рядился в одежду, подобающую своей натуре, – во всяком случае, такой не увидишь ни на ком другом. Не признавал крахмальных воротников, не носил рубашек, считая глупым пеленать талию двойным слоем материи. Вместо белья носил некий футляр, облекавший его с головы до пят, название которому, верно, знал только портной. Один и тот же костюм ухитрялся носить шесть, а то и все шестнадцать лет: «В результате мой гардероб приобретает индивидуальность и уже неотделим от меня. Рукава и штанины вступают в спор с замыслом портного, гуманно принимая необходимую, то есть мою, форму на коленях и локтях».
Репутация оригинала в одежде сослужила однажды Шоу плохую службу. Либеральный политический деятель Холдейн давал обед большому числу сановных лиц. На обеде были Бальфур, Асквиты и прочие. Прослышав, что Шоу отказался носить в театре вечерний костюм, Холдейн пригласил его прийти запросто, в чем есть. Шоу рассчитал, что на обеде, наверно, будут лейбористы – члены Парламента, а надеть ему, кроме затрапезного туалета, нечего (вечерний костюм он, вняв совету хозяина, исключил), – и тогда из своих честно заработанных сбережений он купил строгий черный костюм, в котором и прошествовал вдоль фронта манишек и голых плеч. Он один был одет некстати!
«Дать представление об этой плеяде не берусь: читайте у Байрона описание бала в Брюсселе перед Ватерлоо. В своем бесхвостом двубортном пиджаке я выглядел судовым казначеем, а брюки приводили на память уличного проповедника. Но я очень постарался дать всем понять, что они-то и совершили ошибку, вырядившись к обеду. С невозмутимым апломбом я провел к столу Марго Асквит и держался как мог безмятежнее. И все же не напоминайте мне, как однажды я отрекался от вечернего костюма: не выдержу и стану ругаться».
Представить себе Шоу сидящим без дела просто невозможно, но так велико было желание миссис Шоу увековечить мужа в расцвете сил, что Шоу, скрепя сердце, открывает еще одну замечательную страницу в своей жизни: садится позировать скульпторам. Мне стал доступен рассказ о сеансах ваяния, который сам Шоу поведал Джейкобу Эпштейну, последнему в ряду великих мастеров, оставивших его образ. Вот они, эти пассажи натурщика: «Я только что кончил читать Вашу книгу (то есть, книгу Эпштейна) и очень много извлек для себя – ведь, в сущности, только в старости учишься. Взамен сообщу Вам кое-что, чего Вы не знаете. Вы творец, Вы многого не замечаете. А я всюду поспеваю – я критик. Так вот. Однажды я был в парижском Салоне с Павлом Трубецким, и вокруг – куда ни посмотреть – статуи, статуи, статуи. Павел мрачно оглядел этот хаос и убежденно заявил: «Это не скульптура. Не скульпторы это делали». Я его отлично понял, но, допусти я такое заявление в ту пору, когда в поте лица добывал себе рецензиями кусок хлеба, меня бы погнали с работы немедленно. Павел был и прав и неправ, и мне предстояло решить, что здесь верно, а что передернуто. Эти бедняги – иными словами, «не скульпторы», – они ведь имели такое же право на существование, что и Павел: все они более или менее лепили и работали резцом. Неплохие даже деньги за это получали, между тем как Павел полтора года обедал в долг, живя в роскошном отеле.
С тех пор я позировал многим известным скульпторам и художникам: Герберт Уэллс жалуется, что Европа завалена моими изображениями. У меня, стало быть, есть опыт, которого у Вас нет. Сейчас я Вам все расскажу как ка духу.
Начал я с Родека. Он про меня и не слышал и, конечно, постарался любой ценой уйти от работы, которая была ему совершенно неинтересна. Но с моей женой это не так просто сделать. Через поэта Рильке, который был тогда секретарем у Родена, она узнала условия: тысяча фунтов за мраморную голову и восемьсот – за бронзовую. Потом она написала Родену письмо: ее муж – известный писатель, отлично разбирается в искусстве; она хочет иметь его бюст; супруг согласен позировать только Родену; говорит, что иначе потомки ославят его дураком: жил в одно время с Роденом – и кому-то другому позировал! Она переводит в банк на его счет тысячу фунтов – это ее пожертвование, пусть распорядится деньгами, как ему будет угодно. Это совсем не значит, что он обязан делать мой бюст или, положим, качав его делать, продолжать работу до конца и жертвовать чем-то своим, сокровенным.
Роден не сумел противостоять такому натиску. Он запросил, будет ли мне удобно приехать в Париж и позировать в мастерской, предоставленной ему французским правительством для окончания работы над «Вратами ада» (понятно, что он тянул и не спешил кончить такую работу). На следующее утро мы прибыли. Вероятно, мы понравились Родену: после недолгого разговора он, явно пугаясь своей дерзости, спросил, не будет ли мне в тягость ездить к нему в Медон и позировать в домашней студии. Мы отвечали, что он волен распоряжаться мною, как угодно и когда угодно: завтра в десять утра я буду в Медоне. Он весь расцвел от счастья. Следующий месяц я проторчал в Медоне, сделавшись в доме своим человеком. А с бюстом было удивительное дело! Через пятнадцать минут работы с ним начались превращения – что ваша Сара Бернар! Он прошел все этапы, начиная со средневековья. Когда бюст был на рубеже двенадцатого века, это была такая прелесть, что я взмолился отдать мне его немедленно. Но мастер ответил, что еще «не довел». Благоговейно обмирая, я видел: вот Бернини, это уже Канова (или Торвальдсен?), а это Гибсон (или Фоли) – и наконец бесспорный Роден! Сколько ни приведется еще сидеть натурщиком, такого мне уже не увидеть. И еще в одном этот скульптор не похож на всех остальных: он работает как чертежник. Поворачивает, разворачивает работу из стороны в сторону, заставляет и меня вращаться, отделывая каждый контур, каждый ракурс проверяя кронциркулем. В конце месяца Роден сказал, что «доводить» бюст пока не будет и что мы еще поработаем, как только судьба забросит меня в Париж. Конечно, мы больше уже не поработали. Впрочем, он никогда не считал свою работу законченной, пока ее оригинал еще был жив. Он мне жаловался: устают модели, посылают сами себе липовые телеграммы, призывающие их домой по неотложному делу. Никогда еще, говорил он, никогда не было у него такого усидчивого натурщика, как я; нет никакого сомнения, что он «доведет» этот бюст, и тот будет «лучше не надо».
Теперь о самом бюсте: что в нем хорошо и что плохо. Когда жена пожаловалась Родену, что художники обычно писали мою славу, а про меня забывали, Роден ответил: «Я не знаю, какая слава ходит о мсье Шоу. Я дам вам, что есть». То есть он должен был сказать: «Что вижу, то и дам». Вас это должно заинтересовать. Вооруженный своим кронциркулем, Роден был предельно добросовестен в передаче внешнего облика; Вы же, напротив, считаете такую пунктуальность порочной. Поэтому жены Ваших моделей не ценят Ваши бюсты. Вы не усвоили основного правила, которым должен руководствоваться модный скульптор: женщина и глядеть не станет на бюст своего супруга, если там не в порядке прическа.
Итак, внешний облик: что в нем было для Родена? Я цивилизованный ирландец с тонкой кожей и очень мягкими волосами, которые всегда держу в порядке. Во мне метр восемьдесят с небольшим, но вешу я только семьдесят килограммов. Далее, по мне сразу видно, что я человек умственного, а не физического труда. Все это Роден и передал в самом лучшем виде. Мы толковали о философии и искусстве ка том смешанном языке, который всем понятен, и Роден имел возможность узнать, что я интеллигент, не дикарь какой-нибудь, не боксер и не гладиатор. Все это в бюсте выражено. Но я же не только философ – еще и комедиант, а у Родена не было юмора. По-моему, я только однажды видел его смеющимся: когда мадам Роден угостила меня каким-то очень вкусным пирожком и я половину отдал собаке хозяина Капу. Но, может быть, я ошибаюсь – может быть, Роден и тогда не смеялся. Само собой разумеется, в бюсте не было чувства юмора, а Шоу без чувства юмора это не Шоу, хотя сам он принимает себя всерьез. Помешал языковый барьер! Я никудышный лингвист, не умею шутить на французском языке. Когда хозяйка дома спросила Родена, хорошо ли я говорю по-французски, Роден высказался с обычной серьезностью и прямотой: «Мсье Шоу говорит по-французски плохо, но так пылко, что все понятно без слов».
Увидев роденовский бюст, Трубецкой заявил: «Безглазое лицо. У Родена все бюсты слепые». И властно потребовал у меня полуторачасовой сеанс. Трубецкому разве откажешь? Полтора часа, разумеется, вылились в три часа – я высидел два сеанса в студии Сарджента. Трубецкой молотил по глине так яростно, что и сам весь измазался и заляпал картины Сарджента. О коврах и говорить нечего. На втором сеансе мастерская была вся затянута брезентом. Трубецкой был американцем по матери и русским по отцу, родным языком у него был варварский миланский диалект и на всех других наречиях он объяснялся, может быть, чуть лучше, чем я по-французски. Как и в случае с Роденом, мой юмор опять работал вхолостую. Но для трех часов работы этот бюст – шедевр. И он мне льстит: я вдруг стал похож на российского дворянина, это даже приятно. Не нужно только путать этот бюст с головой, хранящейся в галерее Тейта, со скульптурой в полный рост и со статуэткой: все это Трубецкой сделает много позлее уже в собственной мастерской в Вилла Кабьянка ка Лаго-Маджиоре, когда наши сеансы не придется, ужимать во времени.
Следующий знаменитый скульптор попался американец. Этот понимал английский язык достаточно, чтобы увидеть во мне юмориста. То был гениальный Джо Дэвидсон. Он имел почти одно лицо с Карлом Марксом. Но у Дэвидсона, было в обрез времени – он должен был уехать из Лондона – и буквально ка скорую руку в самый последний момент стал вносить изменения, да так и не закончил как следует (а указал ему на неточность я сам, призвав в свидетели кронциркуль). И все же я получился довольно симпатичным – эдакий записной весельчак.
Затем явился мастер, о котором я ничего не знал прежде: Зигмунд Штробл, венгр. Он сделал все, что уже было и чего еще ни у кого не было. С внешним обликом он обошелся безупречно, как Роден. Один профиль у меня философский, другой – комический. Жена попросила для себя мраморную копию, и он с таким же совершенством высек ее из очень плотной глыбы (хотя и не из каррары). Всех наших гостей мы непременно тащим посмотреть этот бюст.
И вот, наконец, приходите Вы, Джейкоб Эпштейн, машете ручкой на Родена, Трубецкого, Дэвидсона и Штробла, дерзите: «Это все не скульпторы». Вы собираетесь вытянуть из меня нечто такое, что никому из них еще не давалось. Я и так уже оторвал много времени у своих пьес, позируя скульпторам, ко Вам ке решился отказать. Вы большой художник и вправе рассчитывать, что мировой культуре будет больше проку от Вашего бюста, нежели от моей очередной пьесы. И я терпеливо сижу, а Вы занимаетесь своим делом, которое состоит в следующем: сорвать с меня маску культуры, согнать с моего облика нажитое благородство (Штробл и Роден Вам не указ!) и показать меня в сыром, так сказать, виде, образцы которого Вы предостаточно видели в Бруклине. Ваш первоначальный эскиз добросовестно отражал мою личность и был премилой живой головкой. Потом Вы с великим мастерством, прославившим Ваши бюсты, занялись губами, щеками, ртом. Но помимо всего этого, Вы непременно должны выразить свои основополагающие идеи – и вот тут Вы сорвались. Из Ваших рук я вышел бруклинским землекопом. Кожа загрубела, волосы стали жесткими, я прибавил килограммов тридцать в весе, стал раза в три сильнее физически. Превосходный Ваш эскиз превратился в ужасный пасквиль. Случай в лестерской галерее подтверждает это полностью: один рабочий увидел в моем бюсте родную душу и увенчал его своей кепкой, а какой-то фотокорреспондент поспешил запечатлеть это зрелище. Фотография попалась жене на глаза, и она заявила, что с этим бюстом ей под одной крышей не жить. Жена была оскорблена куда сильнее миссис Конрад, ибо Ваш Конрад только слегка непричесан, но вовсе не смотрит дикарем. Я не касаюсь искусства, я говорю только о жизненной правде. Очень может быть, что под хрупкой моей оболочкой отсиживается бруклинский землекоп, ко ведь без этой оболочки я уже не Бернард Шоу. Без язвительного излома бровей я уже не комедиант высокого класса, а шутник самого низкого пошиба. Это шедевр, Ваш бюст. Но это не мой портрет. Если Вы захотите оставить своей жене свой бюст на память, не делайте его сами, попросите лучше Штробла. Один бог знает, какого бруклинского хулигана Вы можете из себя сделать. Уважение к себе Вас не спасет: разом вылезут наружу и Ваши теоретические атавизмы, и Ваша любовь к тихоокеанским и южноамериканским примитивам.
Поэтому в неудаче стрэндовских статуй (я каждый день проходил мимо них, когда жил на Адельфи-Террас) повинны не сами статуи, а Стрэнд. Также и «Рима» [140]140
Рима (Риолама) – юная героиня романа «Зеленые дворцы» У.-Г. Хадсона (1904); действие романа происходит в Южной Америке.
[Закрыть]: в Гайд-парке она не на своем месте. Никто, например, не порицает статуи, расположенные у цоколя памятника Альберту: они согласуются с окружающей обстановкой. «Риме» нужно бы стоять в Луксоре.
Ну, и хватит на сегодня. Говоря вкратце, скульпторами движут в их работе два побуждения (среди многих прочих): 1) в этом лице есть хорошая основа, но она использована не полностью, неудовлетворительно – надо исправить природу; 2) скульптора искушает к работе сам материал, то, из чего он будет ваять.
Ваш Consummatum Est [141]141
Букв.: кончено (латин.) – последние слова Христа.
[Закрыть]был обещан уже в грубом куске гипса. Так же и Микеланджело увидел своего Давида в гигантской мраморной глыбе.
– Извините, что заболтался: сами виноваты – очень хорошую написали книгу».
Встреча с Роденом подвигла Шоу на редкий для него стихотворческий опыт. У Родена была изрядная коллекция скульптур, составленная в основном из перебитых камней с маленькими, не больше почтовой марки, щербинками – следы усилий безвестного скульптора. Но Роден совершенно не знал искусства печати, культуры книжного дела и собирал зауряднейшие подарочные издания, никакой эстетической ценности не представлявшие. Открыть для него новую область взялся Шоу, которому где-то повезло за пятьдесят фунтов приобрести келмскоттского Чосера. Он подарил книгу Родену, снабдив ее такой надписью:
«Двух мастеров я видал: Моррис печатал сей труд,
Другой, великий Роден, в глину меня заковал.
Книгу Родену дарю. Росчерк мой, правда, груб —
Святого труда монолит, тленный, я лишь замарал».
Точную руку Родена Шоу весьма высоко ценил. Если говорили, что его бюст работы Родена не похож на свой оригинал, Шоу неизменно возражал: «Я именно такой и есть. Все другие бюсты – тоже я, но в разных ролях».
Книга Чосера хранится сейчас в Роденовском музее в Париже. Мраморный бюст работы Родена стоит в Дублинской муниципальной галерее, бронзовый – в доме Шоу. Здесь же мраморный бюст работы Штробла и статуэтка Трубецкого. Первый бюст, который сделал Трубецкой, сейчас в Нью-Йорке, в фойе театра «Гилд», второй – в галерее Тейта. Скульптура в рост, представляющая Шоу-оратора, где-то затерялась: ни я, ни Шоу не смогли нащупать, где она припрятана.
Роден был не единственным французом, кто не слышал даже имени Шоу; запоздалое признание Шоу во Франции словно подтверждает справедливость слов драматурга: в художественном отношении Франция отстает на полвека. Однажды Шоу встретил в Сикстинской капелле Анатоля Франса. Они взгромоздились на леса, похожие на Вавилонскую башню с полотна старой школы. Сооружение поддерживало зашаливший потолок Микеланджело. При ближайшем рассмотрении Шоу и Франс отметили, что фрески выполнены так же тщательно, что и гипсовые барельефы. Анатоль Франс забрался ка рабочий верстак и произнес заранее заготовленную речь, где – как полагается – сказал самые обязательные вещи о железкой руке Анджело, его пламенном сердце и о многом другом в этом же роде, а в заключение процитировал из Теофиля Готье. Шоу недоумевал: под взглядом дельфийской сивиллы человек может думать о Готье! Да как его еще земля носит, как терпит его на себе Вавилонская башня, наконец? Преодолев опасный спуск, Анатоль Франс обернулся к Шоу (он знал только, что это «некий сударь», имени не разобрал) и, извинившись, спросил, с кем имеет честь. «С таким же гением, как вы», – последовал ответ. Французу такие речи говорят только о дурном вкусе, и потрясенный Франс пожал плечами: «Quand on est courtisane on a le droit de s’apoeler marchande de plaisir» [142]142
«Куртизанка может называть себя торговкой удовольствием» (франц.).
[Закрыть].








