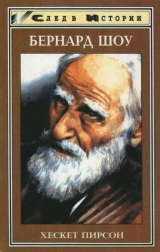
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
«Публику ни в каком случае не следует поощрять в том, чтобы она видела в Андрокле еще одну мою шуточку, – предупреждал Шоу Перси Бэртона, готовившего пьесу к постановке в Америке. – Спектакль провалится, если вы не истолкуете происходящее как большую религиозную драму – со львом для развлечения». Кстати, он потащил в лондонский зоопарк артиста, игравшего льва, чтобы тот изучил движения животного, прежде чем репетировать свою роль. В зоопарке не нашлось громогласного льва, чем-либо напоминавшего приятеля Андрокла, но Шоу был в восторге от возможности побыть возле царственного, хотя и безгри-вого льва и позабавиться с гепардом.
Поколение, воспитанное на «Знаке креста» и псевдо-религиозном театре, не было готово видеть в «Андрокле» что-либо кроме кривляний атеиста. Глупость «до-шовианской» критики бесила драматурга: «Вы читали сегодняшнюю «Полл-Молл»? – спрашивал он у Лиллы Маккарти. – Я не вижу героя (кроме меня одного), который был бы способен вколотить в британскую публику добрые нравы. Семь потов с меня сойдет, но я распугаю всех на сто верст кругом, и тогда нашу сцену окутает замогильная тишина».
Спектакль, в котором кроме «Андрокла» давалась еще одна пьеса, не смог долго окупать значительные расходы своего финансиста. После двухмесячного показа этой перегруженной программы Баркер принялся за возобновления. Мольер, Ибсен. Метерлинк, Голсуорси, Мейсфилд и Шоу быстро сменяли друг друга. Особым успехом пользовалась «Дилемма врача». Успех подвигнул Баркера на то, чтобы перебраться со своей труппой в «Савой», когда подошел к концу контракт с театром «Сен-Джеймс».
Шоу репетировал пьесы вместе с Баркером. Из записки, посланной им 3 декабря Сетро, явствует, что ему была не по душе эта лихорадочная работа: «Я налечу к Вам как молния и как молния вылечу, потому что премьеру «Дилеммы врача» назначили на субботу, а по-настоящему с ней надо бы еще возиться недели три. Но я все-таки появлюсь. Приготовьте мне бутерброды с сыром и салат. И еще лимонаду. Больше ничего не надо. Я становлюсь слишком стар для горячих обедов – они выпаривают мне душу».
С восьмисот фунтов в неделю, которые приносила ему «высоколобая» драма, Шоу одним прыжком вознесся к гигантскому кассовому успеху в самом большом и самом модном театре Вест-Энда. Он поделил успех со своей главной исполнительницей, самой обворожительной из актрис – миссис Патрик Кэмбл. Премьера «Пигмалиона» состоялась 11 апреля 1914 года в Театре Его Величества.
Она покорила его еще в начале 90-х годов своей игрой на фортепиано во «Второй жене Тэнкерея». Когда она стала премьершей у Форбс-Робертсона, он бесконечно восторгался ее физическими данными и, к ее вящему смущению, говорил не о ее игре, а о том, что носочек ее башмачка пролезет в игольное ушко. В феврале 1897 года Эллен Терри увещевала его: «Что ж, теперь вы влюбились в кошечку Пат?»
А в сентябре, увидев Форбс-Робертсона и миссис Патрик Кэмбл в «Гамлете», он уже задумывает «Пигмалиона», который будет написан через пятнадцать лет: «Цезарь и Клеопатра» вылетели у меня из головы. Эго место заняла пьеса, которую я захотел для них написать. Он будет вест-эндским джентльменом, а она – ист-эндской дамой, в переднике и с тремя ярко-красными страусовыми перьями». Уже здесь она упоминается у Шоу, как «прощелыга-цветочница».
Прошло много лет, и вот однажды он забрел в театр «Сен-Джеймс» посмотреть «Bella Donna». В антракте Джордж Александер позвал его за кулисы и спросил: «Что ж вы нам ничего не пишете?» Шоу вышел из театра и написал «Пигмалион». Закончив пьесу, он прочел ее Александеру. Тот сказал: «Это верное дело, вернее не бывает. Теперь слушайте. Я дам вам любую актрису, какую вы пожелаете назвать. Я заплачу ей любое жалование. Вы можете сами назначить цену. Но с миссис Кэмбл я ни одного спектакля делать больше не буду. Лучше умереть».
Однако роль актрисе была уже обещана. Она была для нее написана. Эллен Терри получила весточку: «Мне с ней так же повезло, как с «Брассбаундом». Каким бы невозможным я ни был, дамский портной я все же недурной…»
Александер или Три едва ли изменили бы свое мнение о пьесе, если бы вспомнили, что ее сюжет повторяет содержание одного эпизода из романа Тобайаса Смоллета «Приключения Перигрина Пикля». Сам Шоу, кажется, тоже пребывал в неведении относительно этого сходства. Когда ему указали на него, он сказал: «Смоллета я читал в юности, и он мне не слишком понравился, но эпизод из «Перигрина Пикля» вполне мог, помимо воли, оставить след в моей памяти. Там он и пролежал, пока не появилась в нем надобность. Как Шекспир и Мольер, я беру все, что попадается под руку, и потом осовремениваю, снабжаю шовианской философией и сегодняшним содержанием. Кто-то, помнится, сказал, что нет ничего нового под солнцем. Готов поклясться, что и Смоллет подхватил эту тему где-нибудь еще». Память Шоу-юноши, очевидно, не уступала гению Шоу – знаменитого мужа, потому что история Элизы Дулиттл похожа на рассказ о смоллетовской девице как две капли воды. Такое фамильное сходство встречается разве что в шекспировских римских пьесах, ни на шаг не отступающих от Плутарха.
Вот о чем рассказывает Смоллет. Его герой, Перигрин Пик ль, встречает по дороге нищенку и ее дочь, «девицу лет шестнадцати». Девицу украшают грязные лохмотья, изъясняется она на языке Биллингсгейта, ко при этом у нее «приятное лицо», и Перигрин, предложив матери «небольшую сумму, купил у нее права на эту девицу» [135]135
Роман цитируется в переводе А., В. Кривцовой и Евгения Ланна. (Т. Смоллет. Приключения Перигрина Пикля. М.: Гослитиздат, 1955. С. 509–513.)
[Закрыть]. Незнакомка становится предметом давно задуманного Перигрином эксперимента: «Он убедился, что разговор тех, кто удостоился наименования образованных людей, не более поучителен и занимателен, чем речи, которые слышишь среди низших классов; и единственной существенной разницей в обхождении является тот лоск, придаваемый воспитанием, какой может приобрести без особого труда и прилежания самый неспособный человек. Одержимый этой мыслью, он решил заняться обучением и образованием молодой нищенки, надеясь, что, спустя несколько недель, можно будет ввести ее в общество в качестве благовоспитанной молодой леди, отличающейся незаурядным умом и превосходной смекалкой».
Перигрин поселяет девицу у себя, велит своему лакею вымыть, вычистить и остричь ее, а потом одеть в приличный наряд. Самого большого труда ему стоило отучить ее ругаться. Уже через несколько дней он отважился вывести ее к обеду, на котором присутствовали деревенские сквайры. Промолчав весь обед, она вызывает благосклонность гостей. Перигрин учит ее декламировать отрывки из Шекспира, Отуэя и Попа, знакомит ее с именами «знаменитых актеров, приказав произносить их время от времени с видом небрежным и развязным», обучает игре в вист. Пройдя испытание в женском обществе, девица «благодаря своим цитатам прослыла бойкой молодой леди, весьма ученой и сведущей в изящных искусствах». После этого Перигрин повез ее в Лондон, где ей была предоставлена отдельная квартира и служанка. Она обучается танцам и французскому языку и раза три-четыре в неделю выезжает в театр и на концерты. Затем Перигрин повез ее на ассамблею, где танцевал с нею в кругу веселых дам высшего света; правда, в ее манерах еще оставалось что-то грубоватое и неуклюжее, но это было принято за милую развязность, которая превосходит простую благовоспитанность. Затем он нашел способ познакомить ее с некоторыми знатными представительницами ее пола, приглашавшими ее на самые изысканные собрания, где она с большою ловкостью поддерживала свои притязания на благородное происхождение. Но однажды вечером, играя в карты с некоей леди, она поймала ее в тот момент, когда та пыталась сплутовать, и, напрямик обвинив ее в мошенничестве, навлекла на себя такой поток язвительных упреков, что, позабыв о внушенных ей правилах осторожности, открыла шлюзы природного своего красноречия и крикнула «с…!» и ш…!», и эти слова повторила с большим жаром, приняв позу, свидетельствующую о готовности к ручной расправе, к ужасу своей противницы и изумлению всех присутствующих. Мало того, она до такой степени потеряла самообладание, что в знак презрения щелкнула пальцами и, выходя из комнаты, шлепнула себя по той части тела, которая последней скрылась за дверью, и, назвав оную часть грубейшим словом, предложила собравшимся поцеловать ее. Перигрин был слегка смущен «совершенной ею оплошностью», после которой «свет решительно извергнул ее». Оскорбленные тем, что Перигрин «навязал им под видом благородной и образованной молодой леди простую потаскушку», аристократы отказывают ему от дома. Перигрин освобождается от обузы, когда девица бежит с его камердинером, и дарит новобрачным деньги на открытие «кофейни или таверны».
Стоит ли говорить, что одержимость Шоу вопросами фонетики и остроумная разработка сюжета ставят его пьесу намного выше рискованного юмористического наброска Смоллета.
Однако впереди еще маячило немало опасностей. Ни одну премьершу – и уж, во всяком случае, такую блестящую даму, как миссис Кэмбл, – не уговорить было превратиться в грязную и вульгарную цветочницу, косноязычную, в переднике и со страусовыми перьями. Ни одна из них не была готова к тому, что ее шляпку бросят в огонь, чтобы огонь пожрал паразитов, и что со сцены она отправится куда-то, где ее должны «хорошенько вычистить». Шоу был напуган предстоящим ему испытанием: не мог же он уговорить миссис Патрик Кэмбл, что эта роль «облегает ее, как перчатка»! Он решил попросить убежища у своей подруги Эдит Литтлтон. Он ей будет читать пьесу, а уж она постарается пригласить в этот день миссис Кэмбл на чашку чая.
Ничего не подозревающая миссис Кэмбл явилась к чаю, «припахивая Белла Донной». Как всегда, она горела желанием язвить, унижать и сбивать с толку писателей, артистов и всех надутых от спеси персон. Чай кончился, Шоу начал читать.
Все шло гладко, покуда он не подобрался к первому «У-у-ааааа-у!». Миссис Патрик Кэмбл, не предполагая, что уличная девчонка может оказаться главной ролью, решила, что ей пора переходить в наступление: «Мистер Шоу, будьте любезны, не надо этого ужасного шума, это некрасиво!» Шоу как ни в чем не бывало продолжал читать и вскоре повторил ужасный крик, но теперь он звучал уже как полная какофония: «У-ааа-у!.. Уу-ааа-у!.. Уу-ааааа-у!..» Не унималась и миссис Кэмбл: «Но, право же, мистер Шоу, я прошу вас не издавать эти страшные звуки, это так вульгарно!» Шоу снова не обратил внимания на ее слова pi завел свое: «У-у-аааааааа-у!!». Смекалистой миссис Кэмбл овладело ужасное подозрение. Уже не ее ли это роль? Она знала, что от Шоу всего можно ожидать.
– Она перестала дурачиться и внимательно вслушивалась в текст. Читка продолжалась в мертвой тишине. Когда Шоу кончил, перед ним сидела уже не острая на язык дамочка с окраины, а благородная красавица римлянка (в жилах миссис Патрик Кэмбл текла кровь и той и другой). С неподражаемым достоинством она поблагодарила его за оказанную ей честь первой выслушать замечательную пьесу и быть избранной ка первую роль.
Они договорились о том, что деловая часть беседы переносится к ней на квартиру. Подходя к ее дверям, он был спокоен, деловит, тверд как скала, исполнен высокомерного убеждения, что совладает «с десятком таких Далил». Но когда миссис Кэмбл была в охотничьем настроении, против нее никто не мог устоять. Не прошло и мгновения, как Шоу был уже по уши влюблен и вне себя от изумления. Он предался мечтаниям и ликованию, «не оставлявшим меня весь этот день и весь следующий, как если бы мне вскоре должно было стукнуть двадцать». Ему было не до дел: «Я воображал себе тысячи сцен, в которых ей принадлежала роль героини, а мне – героя. Ни о чем другом думать не мог. Мне вот-вот будет пятьдесят шесть. Мир не знал еще ничего более странного и более радостного. В пятницу мы провели вместе целый час: посетили лорда, проехались в такси, посидели на Кенсингтон-Скуэр. Годы спали с меня, как ненужная одежда. Я был влюблен не менее тридцати пяти часов. И да простятся ей за это все ее грехи!»
Через несколько дней дело напомнило о себе. Ей вздумалось взять на себя антрепризу и прибрать к рукам сборы. Кому быть ее партнером? «Она предлагала самые невообразимые кандидатуры. Я предложил Лорейна. Она не желала и слышать о нем. Я настаивал. Ока рассказала о нем ужасные вещи. Я пересказал их ему. Он не остался в долгу и наговорил на нее. Я передал это ей. Она была потрясена солдатским юмором и обозвала меня интриганом. Я поинтриговал еще. Кончилось тем, чего я добивался: им пришлось уверять друг друга в вечном почтении и восхищении». Но Лорейна ждал американский контракт, и деловые переговоры стали перемежаться скандалами. «Она говорила, что никогда, никогда, никогда не станет играть Элизу», а потом удрала передохнуть в Эксле-Бэн. Все это происходило в июле и в августе 1912 года. Тем временем в Вене и Берлине велись успешные переговоры о постановке «Пигмалиона», и осенью 1913 года он был поставлен в обеих столицах, так и не дождавшись лондонской премьеры.
Шоу без особого труда мог разбить свое сердце. В конце концов, как бы успешно он ни продвинулся в своем эволюционном процессе, сердце ведь косный орган, сохраненный от ранних стадий этого процесса, рудимент… Но вот голову потерять он не сумел бы. Он очень хорошо понимал, что семейная жизнь с миссис Кэмбл – дело немыслимое. Кроме того, оба знали, что она выходит замуж за его друга, который был так же порабощен ею и чье имя даст миссис Патрик Кэмбл достаточно прочное положение в столичном обществе.
Приведу отчет Шоу об их отношениях: «Перед войной, в течение нескольких лет я был с миссис Кэмбл в интимных отношениях, очень близких к тем, что сложились между королем Магнусом и Оринтией в «Тележке с яблоками». В то же время я оставался таким же верным супругом, как король Магнус, так что его фраза о «причудливо-невинных отношениях» сохранила и для нас свою силу» (или, как говорит Грэгори в «Одержимых», – «нас манит опасность, но ликуем мы, только разминувшись с нею».)
Связь Шоу и Кэмбл была странным образом предвосхищена в «Неравном браке» – в диалоге между Тарлетоном и Линой. Тарлетон говорит: «Вы затрагиваете такие струны… Поэтические струны… Вы вдохновляете… Я хочу потерять из-за вас голову. Можно?» Лина спрашивает его: «Разве эта дама не ваша жена? Вы не боитесь ее обидеть?» Тарлетон отвечает: «Боюсь. И предупреждаю: ей всегда первое место. Я пекусь о ее достоинстве даже тогда, когда жертвую собственным. Я надеюсь, вы согласны с тем, что это дело чести?» Лина удивлена: «Чести, не более того?» Тарлетон возбужденно поправляется: «Бог мой, да нет же, и чувства, разумеется».
После этого стоит ли удивляться, читая у миссис Патрик Кэмбл о том, что для Шоу «отменный распорядок его дома был всегда превыше всего. Что бы ни случилось, он не заставлял Шарлотту (миссис Шоу) ждать более десяти минут». Не удивительно и то, что миссис Кэмбл, как Оринтия в «Тележке», порой теряла терпение из-за того, что она называла «непреклонной домовитостью» Шоу, и очень старалась задержать его – так, чтобы он не поспел к сервированному Шарлоттой «яблочному» завтраку.
Задолго перед тем, еще в бытность свою музыкальным критиком, Шоу писал: «В отличие от моего всеядного читателя, я был влюблен, как Бетховен, и сочинял в изобилии идиотские любовные письма. К сожалению, многие из них не были мне возвращены. Теперь их уже не обнаружат в бумагах после моей смерти, ко, быть может, к стыду моему, усилиями неосмотрительных поклонников опубликуют, пока я жив. Меня утешает единственно то, что, как бы они ни были написаны, – а об этом, убей меня бог, я судить не могу, – нельзя все же предположить, что они глупее бетховенских».
Его пророчеству суждено было сбыться, но, вдоволь пророчествуя, он и не думал прекращать привычную практику и. заваливал свою новую «беломраморную леди» грудами идиотских любовных посланий. Спустя много лет, в пору фантастического успеха у читателя переписки Шоу и Эллен Терри, Стелле ужасно захотелось затмить этот успех, напечатав его письма к ней. Ее ждал решительный отказ. «Еще успеется, – изрек Шоу. – Мое авторское право кончится через пятьдесят лет. Кстати, и миссис Шоу убережется от всякого рода недоразумений». Когда Кэмбл вышла наконец замуж, она написала воспоминания, пообещав издателю, что включит в книгу бесценную коллекцию любовных писем – от знаменитого герцога, от известного художника (с иллюстрациями), от Джеймса Барри, от Шоу и от сотен других жертв своих чар. Издатель, не задумываясь, вручил ей аванс – две тысячи фунтов. Но она не посчиталась с авторским правом. Душеприказчики авторов писем категорически отказались поощрить издание столь безответственных документов. И у миссис Патрик Кэмбл появился крупный долг. Спасти ее могли только Шоу и Барри. Им пришлось отредактировать несколько образцов своих интимных сочинений, и дело было улажено. Она не показала Шоу рукопись своей книги, чтобы никто не мог подумать, будто он помогал ей писать. И не послала ему экземпляр. Через много-много лет, когда все это поросло травой забвенья, Шоу случайно увидел воспоминания миссис Кэмбл в Новой Зеландии. Прочтя книгу, он сказал, что без нее самой это пустой звук.
Она звала его Джой, как циркового клоуна. А он выкидывал коленце за коленцем, лишь в умных шутках приоткрывая свою душу. Он ей поведал, что до невозможности застенчив, пуглив и малодушен. Он посвящал ее в тайну смущения, которое охватывает юного ирландца рядом с английской дамой: «Если отпускаешь галантный комплимент ирландке, то знаешь, что в ответ тебе ухмыльнутся и тоже отпустят что-нибудь вроде: «Ладно, ладно, проходи!» Англичанка бледнеет, как смерть, и сдавленно хрипит: «Я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что вы только что произнесли?» И попробуй теперь признаться в том, что это не так! Для того чтобы она ни с чем не спутала его собственные чувства, он очень методично ей объяснял: «Помимо влюбленности, на которую, как Вам представляется, моя диета и слабая природа сделали меня неспособным, существует еще множество упоительных отношений, и душевной близости, и детской связанности общим страхом. Минутами и я хочу любить, но Вы постарайтесь этого не замечать!»
«Пигмалион» между тем лежал в Лондоне без движения: Оринтия раскапризничалась не на шутку. Бирбом-Три заговорил с Шоу о новой пьесе. (Очевидно, до него дошли слухи через Александера.) Однако миссис Патрик Кэмбл тут же дала понять Шоу, что натерпелась таких обид от Три во время своего последнего ангажемента, что его имя не должно больше произноситься в ее присутствии. Керзон из Театра Принца Уэльского сделал великодушное предложение предоставить на любой срок свое помещение. По этому поводу миссис Кэмбл продержала Керзона у телефонной трубки около двадцати минут, втолковывая ему, что он не джентльмен и весьма нескромно вмешался в ее личные дела.
У Шоу, по сути дела, никогда не хватало времени на постановку своих пьес. Он отдавался всем сердцем следующей работе, и судьба ее предшественницы его уже не занимала. «Пигмалион» мог так и остаться в столе, если бы миссис Кэмбл не образумили кредиторы, употребив на это всю свою настойчивость, и вот актриса обращается к Шоу с предложением: а почему бы и не Три? «Как же смертные обиды?» – интересуется Шоу и обнаруживает, что обиды не стоили и выеденного яйца.
К моменту появления «Пигмалиона» с миссис Кэмбл стало так трудно работать, что любого антрепренера одолевали мучительные колебания, прежде чем он посылал ей приглашение на роль, – хотя все они знали, что кроме нее не было на свете актрисы, которая умела бы, взвалив на свои плечи плохую пьесу, приходить с этой ношей к ошеломляющему успеху. Три, точно так же, как Александер, понимал, что с миссис Патрик Кэмбл работать невозможно. Но в отличие от Александера, едва она сказала ему о своих планах в связи с «Пигмалионом», Три незамедлительно попросил у Шоу пьесу. Читка состоялась под сводами Театра Его Величества. Прежде чем был прочитан третий акт, Три уже все было ясно: пьеса была объявлена к постановке [136]136
В юбилейном 1897 г. Шоу-критик присутствовал на торжественном обеде в честь открытия нового театра Три – Театра Ее Величества. Вот описание речи Три на этом обеде, оставленное нам Шоу: «Мистер Три обещал нам не опозорить имя, которое носил его театр. Он говорил с таким видом, будто ему оставалось сделать всего один шаг, чтобы стать фальшивомонетчиком, поджигателем и двоеженцем, и только сознание того, что владельцу Театра Ее Величества не к лицу подобные затеи, отвращало его от этого шага». (Прим. автора)
[Закрыть].
О репетициях лучше не рассказывать. Когда Шоу показали фотоснимки, сделанные перед самой премьерой, он запретил их публиковать, «потому что выглядел на них как старая дворняжка, попавшая в драку, из которой вышла с помятыми боками». Но один снимок был послан Стелле с надписью: «И Вам не стыдно?» А другой – Три, с надписью: «Это Ваша работа».
Легкомысленный Три не имел понятия о том, что такое методичная работа с актерами и соответственно вовсе не соблюдал на репетициях порядка. Его постоянно приходилось ловить на серьезном, но совершенно непреднамеренном нарушении театральной этики. Если в разгаре его сцены ему говорили, что кто-то его спрашивает, он преспокойно выходил из зала, заставляя труппу ждать его возвращения сколько угодно времени. Когда, возвратившись однажды, Три обнаружил, что Шоу продолжал репетицию с его дублером, он принял смертельно обиженный вид и настоял на том, чтобы репетиция возобновилась с того места, где он ее покинул. Шоу ему не противоречил, но всем своим поведением дал ясно понять, что Три был неправ. И Три пришлось несколько подобраться, чтобы избежать подобных столкновений.
А что было поделать с тем, что ни Три, ни миссис Кэмбл не владели сценической техникой, которой Шоу обучился у Барри, Салливена, Сальвини, Коклена и Ристори. Оба были незаурядные личности и научились эффектно использовать свою незаурядность. Но причастившись к таинству своего ремесла, самой его азбуки они не знали. Шоу был мастер использовать авансцену, а миссис Кэмбл не могла найти употребления его мастерству. Она жаждала, чтобы весь свет был направлен только на ее лицо, не подозревая, как выразился Шоу, что превращает этим свою хорошенькую головку в глубокую тарелку с двумя сизыми сливами.
При этом оба относились к Шоу как к чудаку и профану, которого случайно занесло на подмостки. Как-то раз, уже после окончания репетиций, они втроем обедали в Клубе автомобилистов, и Шоу поинтересовался, замечают ли его спутники, что, хотя все трое давно достигли искомой высоты в своей профессии, друг с другом они обращаются как с новичками, которые еще ничего толком не знают.
С такими театральными чудищами, как Три и миссис Кэмбл, нельзя было совладать, пользуясь той мягкой, спокойной, непринужденной манерой, какой Шоу покорял артистов из ангажемента Грэнвилл-Баркера. Три, сочетавший в себе удивительное обаяние и беспечность, совершал один за другим самые непростительные поступки, пребывая в полнейшем неведении на этот счет. Шоу вспоминал: «Я так и не смог найти в себе решимость обойтись с ним по всей строгости. Зато ни кочерга, ни кирпичи, ничто не могло оставить хотя бы царапину на шкурке миссис Кэмбл». Надо, впрочем, отдать должное Шоу. Однажды он все-таки заявил Три: «Не хватит ли с нас вашей патоки?» Труппа стала давиться смехом, а жертва этих слов обнаружил признаки эпилептического припадка.
Бывали случаи, когда миссис Кэмбл заявляла, что отказывается продолжать репетицию, пока автор не покинет театр. Однажды Шоу поднялся со сцены в бельэтаж за какими-то своими вещами, как вдруг раздался голос миссис Кэмбл, продолжавшей свой монолог. «Проклятая баба! Не могла подождать, пока я отойду подальше?!» – взорвался Шоу. На генеральной репетиции Шоу умолял Три хотя бы немного поделиться с другими исполнителями огнями рампы, верно служившими ему одному вот уже тридцать лет. Тут взорвался Три: «Я достаточно терпел ваши оскорбления. С меня довольно!» Шоу хотелось его задобрить: «Ну-ну, успокойтесь! Стоит вам только ка мгновение запамятовать, что вы и есть сэр Герберт Бирбом-Три, и представить себе, что вы играете роль профессора Хиггинса, мы тут же отлично сговоримся».
Некоторое время Шоу не появлялся в театре. Он послал Три длинное письмо, содержавшее советы, как лучше играть Хиггинса. Вскоре в записной книжке Три появились следующие размышления: «Я не стану заходить так далеко, чтобы утверждать, что все, кто пишет письма более чем на восьми страницах, безумны, но, странное дело, все безумцы пишут письма более чем на восьми страницах». А в день премьеры, 11 апреля 1914 года, Шоу сообщал миссис Кэмбл: «Я отправляю Три письмо, которое заставит его взять себя в руки – если не убьет». Стелле безумно нравилось, как Три с любезным безразличием принимал письма Шоу, из-за которых любой француз вызвал бы автора на дуэль. Но ведь виновницей очередной встряски, как правило, была она сама. Три, положим, спрашивал: «Почему в этом месте вы всегда становитесь ко мне спиной?» Она ласково отвечала: «Вам разве не нравится моя спина?» Довольное хихиканье Шоу мало помогало делу, и в иные моменты доведенный до припадка Три пулей вылетал за кулисы.
Хуже всего было то, что Три со всей искренностью считал своим долгом помочь превращению пьесы Шоу в эффектное развлечение. Ему и в голову не приходило, что драматург уже все рассчитал заранее и Три остается лишь точно воплотить сделанное автором. Он не мог поверить, что ему не дано ничего додумать к тому, что в лучшем виде приготовил Шоу. Не знал он и того, что Шоу, с его богатейшей ораторской техникой, сумел построить монологи на таких трюках, для которых не хватало голосовых данных Три. «Мы не так поделили профессии, – подвел Шоу итог. – Вам бы нужно было быть автором, а мне артистом». Три, недурно владевший пером, был до крайности польщен.
Кое-какие недостатки Три оказались даже небесполезны. Он был до такой степени занят самим собой, что всякий раз удивлялся, когда слышал рядом еще чью-то речь. Шоу ликовал: ему приходилось тратить столько сил, чтобы обучить исполнителей подавать реплики так, как будто они произносят их впервые, и не выдавать каждой репликой, что давно знают все наизусть.
Об этой особенности Три и об атмосфере, царившей ка репетициях, Шоу писал мне: «Три неизменно производил впечатление человека, который впервые слышит реплики своих партнеров. Он даже бывал до некоторой степени ими потрясен. Расскажу об одном исключительном случае. Героиня «Пигмалиона», разъярившись, швыряет в лицо герою его шлепанцы. Для первой репетиции я отыскал пару очень мягких бархатных шлепанцев, памятуя, что миссис Кэмбл – женщина шустрая, сильная и бьет без промаха. И, конечно же, как только мы дошли до этого места, туфли твердой рукой были направлены прямо в цель, и угодили актеру по физиономии. Действие, которое возымел этот удар, было трудно предвидеть. Три совершенно позабыл о том, что акция произведена по пьесе. Ему показалось, что миссис Кэмбл, поддавшись приступу дьявольского гнева и ненависти, нанесла ему незаслуженное и жестокое оскорбление. Он рухнул в ближайшее кресло, обливаясь слезами, и я в недоумении наблюдал, как над ним склонилась вся труппа, утешая, что так полагалось по пьесе, и даже показывая для пущей правды суфлерский экземпляр. Но его моральное равновесие было в корне подорвано, и, для того чтобы он снова приступил к репетиции, понадобились долгие уговоры и льстивое подлизывание миссис Кэмбл. Самое худшее ждало меня впереди. У миссис Кэмбл не было никакого сомнения, что то же самое будет повторяться каждый раз, и она позаботилась, чтобы больше не удивлять и не ранить его. Эпизод этот, соответственно, стал едва ли не самым натянутым во всем спектакле…
В театре Три был всегда окружен свитой, состоявшей из людей, которые не вполне определили свое назначение, но аккуратно получали жалованье. Один расторопный человек умел распоряжаться на сцене. Поэтому я счел возможным обращаться к нему как к распорядителю сцены. Но пока в афише его имя не попалось мне на глаза по соседству с наименованием этой должности, я пребывал в убеждении, что имею дело с каким-то случайным знакомым Три, встреченным им в клубе или на улице и приглашенным в театр посидеть, отдохнуть. В том, что такое распорядитель сцены, Три разбирался не больше, чем в том, что такое драматург. Он не очень отчетливо сознавал даже, что представляет собой артист. Своих придворных (иначе служащих из его окружения не назовешь) он мог удивить и побаловать порывом доброты и дружелюбия. Но тут же непозволительно нарушал этикет, позабыв об их положении и правах, если таковые имелись. С его стороны было очень мило и порядочно забывать свое место в театре, ибо выше этого места в его театре не было. Но не признавать за другими их законного места – это могло довести до бешенства.
Вскоре я уже не помышлял, что со мной у него будут обходиться иначе, чем с приятелем, забежавшим поболтать. Тут я почувствовал, что волен вмешиваться в происходящее, пользуясь тем же правом, что и всякий случайный гость, и стал вмешиваться не только в свои дела, но решительно во все. Я не встречал противодействия, но в один прекрасный день вмешался до того основательно, что Три пришлось меня слегка одернуть:
– Где-то я прочел или услышал от добрых людей, что в этом самом театре ваш покорный слуга ставил пьесы и играл спектакли. Администрация театра осталась все та же. Если же послушать вас, так ничего этого ведь не было? Что вы ка это скажете?
– Ничего не скажу, – отвечал я тупо и благонамеренно, ибо был в отчаянном положении.
– Тогда я вам скажу. В газету давалось объявление, что спектакль начнется в половине девятого, затем надо было встать в дверях и собирать входную плату. Теперь отступать некуда – надо играть. Вот так, надо думать, обстояли наши дела до вашего появления?!
Были два случая, когда я счел жестоким дальше трепать ему нервы, тем более что сдвинуть дело с подготовительной стадии работы ка сцене (а до этой стадии я уже дело довел), казалось предприятием совсем нереальным. Мне оставалось искренне пожелать ему успеха в самостоятельной постановке моей пьесы и удалиться, отряхнув прах театра с моих ног. В обоих случаях пришлось внять настойчивой мольбе всей труппы, вернуться и распутывать безнадежную неразбериху. Я уходил, а Три делал мне реверансы: с моей стороны было очень любезно заскочить на его репетицию. Я возвращался, и это тоже было благородно с моей стороны – еще раз проведал спектакль, интересуюсь, как идут дела. Мне все хотелось думать, что он валяет со мной дурака, но этого ке могло быть: ни искренность Три, ни его толстокожесть не подлежали сомнению».
Шотландцы выражают свою индивидуальность, отстаивая противоположное мнение, англичане – не отстаивая никакого мнения. Ирландцу Шоу пришлось вооружиться и тем и другим приемом. Он боролся, сдавался, снова боролся и снова сдавался, пока не сделал спектакль «в содружестве с податливым, забавным, дружелюбным и отчаянно строптивым корифеем».








