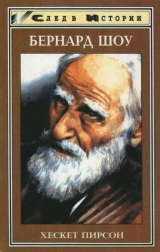
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
Шоу умел хорошо разглядеть особенности характера и ярко их передать, но ему не было дано раскрывать подспудный мир чувств своего героя, если, конечно, этот мир не перекликался с чувствами самого драматурга. У него не было шекспировской способности выворачивать напоказ чужую душу.
Весной «антисептическое лечение» заменил простой водопровод – и тотчас рана на ноге стала заживать. 3 мая Шоу начал работу над пьесой для Эллен Терри, составив себе представление о характере актрисы по ее письмам и своим впечатлениям зрителя. Сядь он. за пьесу немного позже, она, может статься, уже не была бы рассказом о жестокости, смиренной вниманием и симпатией: «Некоторое время я прожил на южном склоне Хогс-Бэк и каждое воскресенье утром слышал, как загоняют кроликов. Я сделал такое наблюдение: визг разгоряченных терьеров и вопли спортсменов различить совершенно невозможно, хотя в обычных условиях человеческий голос так же непохож на собачий лай, как и на соловьиное пенье. И людей и терьеров спорт низвел до общего знаменателя, до скотства. От этих звуков я не стал гуманнее – о, нет; будь я сумасбродным деспотом, располагающим артиллерийским парком, я бы сказал – и не задумался, – во что превратил этот спорт самих спортсменов: «Это уже не люди, это звери, и самое правильное будет – уничтожить их. Будьте любезны, сметите их с лица земли».
Но подобные происшествия не сбили Шоу с толку, и он создал то, что хотел. Много лет спустя Шоу так рассказывал о рождении на свет «Обращения»: «Как и «Разоблачение Бланко Поснета», «Обращение капитана Брассбаунда» – превосходный религиозный трактат. Я написал его для Эллен Терри. Когда у ее многодетного сына Тедди (Гордона Крэга) родился первенец, Эллен сказала, что уж теперь для нее пьес писать не будут: еще бы – бабушка!.. А я пообещал: напишу, и написал «Обращение капитана Брассбаунда». Пьеса разочаровала ее в такой степени, что она даже не попыталась скрыть от меня свое впечатление: нет спора, это, наверно, очень умная книга, но напрасно я считаю ее пьесой – так прямо и заявила. Я рассмеялся и сказал, что в моем представлении пьеса должна быть только такой. Меня похвалили: хорошая шутка! Надо вам сказать, что, подобно многим актерам и актрисам. Эллен днем обычно отдыхала в постели, и, чтобы ее усыпить, сиделка читала ей самую скучную книгу, какая только имелась в доме. Указанной цели, казалось, превосходно отвечал «Брассбаунд», и посему он был привлечен к делу. Эллен уже клевала носом – совсем, как Террис, хотя и была умнее его во сто крат, – когда сиделка бросила чтение и воскликнула: «Мисс Терри, да это же вылитая вы!» Эллен тотчас переменила свое мнение о пьесе и даже пыталась уговорить Ирвинга поставить ее. Но тот ткнул пальцем в сцену, где Брассбаунд появляется в сюртуке и цилиндре, и заявил: «Шоу нарочно это сделал: хочет, чтобы меня осмеяли». И был совершенно прав. Этот маскарад был так удачно придуман, что, когда в роли Брассбаунда выступил Лоренс Ирвинг, публика хохотала минуты две в этом самом месте. Эллен сыграла в пьесе много лет спустя, и с нею она совершила свое прощальное турне по Америке.
Я хотел, чтобы Ада Реган сыграла в этой пьесе в Америке, и, как водится, попросил послать ей книгу. Реган возмутилась: ей-де подсовывают не пьесу, а бог знает что, и к тому же мужская роль там сильнее женской. Прошли годы, и я сам прочел ей пьесу, прикинувшись, что не знаю о старом конфузе. Реган пришла в состояние крайнего возбуждения, восклицая пылко и бессвязно, что актрис ее поколения учили: нужно стараться быть красивой, остальное, мол, приложится, а я доказываю что-то совершенно новое, совсем другое. Что бы там ни было, она сыграет в этой пьесе! Но вмешалась болезнь (которая привела ее к смерти), и с театром пришлось покончить.
– Как хочется сыграть, – говорила она, – и не могу: вдруг шлепнусь на сцене?
– Сделайте одолжение, – отвечаю. – Мы опустим занавес и придержим, пока вы не встанете.
– Хочется, ах как хочется, – говорила она, да так и не успела.
Теперь даже матерые лицедеи уверовали, что я пишу очень хорошие роли, хотя и трудненько бывает старикам признать мои пьесы пьесами. А ведь было время, когда актеры и актрисы, не зная своего счастья, отвергали мои роли как абсурдные и нетеатральные. Ада Реган, Ирвинг, Три, Мэнсфилд, Уиндхем, Террис, Александер, Фанни Колмен, миссис Кэмбл, Эллен Терри, Сирил Мод, Аллен Эйнсуорт, Джек Барнс – все они передо мной провинились, все они оказались в положении старых итальянских певцов, которым предложили музыку Вагнера».
Шоу не совсем точно передает эпизод с Эллен Терри и ее сиделкой. Действительное событие было далее интереснее. 7 июля он закончил пьесу под условным названием «Атласская фея»: «Теперь надо пройти пьесу заново, чтобы все было как надо, – значит, свою бедную голову я буду мучить еще несколько дней. А там – новая задержка: когда-то хозяйственные и семейные заботы отпустят Шарлотту, и она сможет расшифровать мою пачкотню и подготовить машинописный вариант». В конце месяца пьеса была в руках Эллен, а 1 августа автор извещал, что даст пьесе «уродливое, но захватывающее заглавие – «Обращение капитана Брассбаунда». Это ее пьеса, писал Шоу, наконец-то он собрался с силами и создал нечто достойное ее, и присовокуплял: «Хватит с меня пьес – во всяком случае, ходовых. Да нет – любых: пока – хватит. Пора Шоу что-то сделать в философии, в политике и в социологии. Оставаться всего лишь драматургом, голубушка Эллен, Ваш автор не может».
4 августа он испил последнюю и самую горькую чашу, которую ему когда-либо подносил актер, выросший в современном коммерческом театре. Эллен писала, что пьеса ей решительно не подходит, что никаких сборов она не сделает – и пусть роль леди Сесили играет миссис Патрик Кэмбл. Шоу был больно поражен: «Как?! Эллен, милая, Вы это серьезно? Выше головы я уже не прыгну, даже для Вас. Я был так уверен, что леди Сесили прямо на вас скроена… Вот уж подлинно: в сегодняшнем театре мне делать нечего. Мне нужно в младенчестве уже выпестовать себе новое поколение – и публику, и актеров, и пусть они кромсают мои пьесы, когда меня сожгут в печке… Ах, эти планы – прощай и наш: прощай, наша мечта… Глупая Эллен!» В ответном письме у нее вырвалась фраза: «Никогда не поверю, что Вы для меня писали леди Сесили». Шоу представил многословное возражение: «Напрасно, напрасно Вы так, Эллен: Вашей роли нет равных по глубине. Глупышка, Вы не знаете себя – до седых волос дитя, актриса, зачарованная блуждающими огоньками». Он рекомендовал ей прочесть две книги о путешествиях – Мери Кингсли и Генри Мортона Стэнли и пусть она сравнит «храбрую женщину, вооруженную здравым смыслом и добрым сердцем, – и озверевшего мужчину в обнимку с его пушкой; этот несет с собою страх и убийство; по собственной трусости попав в переделку, он уже ничего не помнит – только бы спасти свою шкуру… Так, может быть, Вы верите в героизм пирата? Или когда-нибудь сочувствовали жестокости судьи? Жизнь, какой-никакой опыт – неужели не научили они Вас малой толике сердечной мудрости? Так-таки и не пожелаете замечать всего, что есть в человеке хорошего, – будете безжалостно казнить дурное?.. Эта роль главенствует в пьесе, потому что такой характер – в мире самый главный… Во всех своих пьесах, даже в «Кандиде», я делал из актрисы проститутку, вызывая к ней интерес отчасти сексуальный… С леди Сесили я обошелся без этого и только умножил этим ее обаяние. А Вы разочарованы… Ах, Эллен, Эллен. Теперь уже всему конец».
Это письмо, над которым она всплакнула, должно быть и повлекло за собой упомянутый выше «снотворный» эпизод. 20 августа Эллен Терри писала из Йоркшира, что четыре дня пролежала с гриппом и сиделка, перечитав ей пьесу два или три раза, никакого сходства Эллен с леди Сесили так и не обнаружила. Но однажды они зашли в какой-то трущобный район – и тут окруженная бедняками Эллен увидела загоревшиеся глаза своей сиделки. «А что ее, собственно, так развеселило?» – подумала Эллен. Через неделю они попадают в Болтонское аббатство, их окружает вполне приличная публика – и опять Эллен отмечает возбужденный взгляд сиделки. Дома она, наконец, поинтересовалась, что же так забавляет ее компаньонку. «Простите, простите, – выпалила девица, с трудом подавляя смех, – но леди Сесили – просто ваш портрет! Она везде добивается своего – совсем, как вы!» Тогда-то Эллен и запросила Шоу, можно ли показать пьесу Ирвингу.
Шоу меж тем укреплял здоровье в Корнуолле, два раза в день купался, растил мускулатуру. «В порядке исключения я люблю плаванье ради него самого. Сейчас я в основном плаваю под водой, несу спасательную службу: жена учится плавать». Он отлично понимал, что Ирвинг никогда не поставит его пьесу, но увлекся капризом Эллен настолько, что написал длинное письмо, вошел даже в такие детали, как гонорары, проценты и прочее. А что, в самом деле?! Вдруг Ирвинг тронется в рассудке и возьмет «Обращение»? Пьеса все больше нравилась Эллен, ее затянула роль леди Сесили, и она уламывала Ирвинга очень старательно. Ничего не вышло: Ирвинг увидел в драме «комическую оперу». Эллен оставалось надеяться когда-нибудь самой осуществить постановку.
Осенью Шоу с женой отправились на крейсере по Средиземному морю. На пути «между Вилльфраншем и Сиракузами» он отмечал: «Дрянное место, отвратительное в нравственном смысле, и даже глаз не на чем остановить – так много пошлой красоты. Эх, сюда бы Шпицберген! Я рожден глотать северный ветер, а не теплую сырость этого голубого картежного притона». И накликал беду – вот чем встречал его через десять дней Греческий архипелаг: «Холод, шторм, мрак, слякоть, швыряет, качает, мутит, голова разрывается от боли, кошмарная эпидемия морской болезни… Зато, по крайней мере, не увижу Афин с их дурацким классическим Акрополем и разбитыми колоннами». Константинополь недурно смотрелся при луне, но вонь какая!.. Здесь он провел день, «шаркая в смешных галошах по мечетям». Путешествие ему приелось, навязанное безделье тяготило.
В начале 1900 года они возвращаются в Лондон, на Адельфи-Террас, в дом № 10, который двадцать восемь лет будет для Шоу родным домом. Здесь он получил письмо от Эллен, гастролировавшей в Соединенных Штатах. Она писала, что еще два года ничего не сможет сделать для пьесы – обещала Ирвингу поработать у него это время.
«…Теперь – относительно отставки, которую мне дали не в первый раз, – отвечал Шоу. – Я держусь молодцом, пока от меня не отрекается очередная звезда, а потом и сам забрасываю все надежды и принимаюсь за что-нибудь новое, вынуждая тупоголового англичанина объяснять цинизмом и бесчувственностью мой скоропалительный переход: сам он раскачивается долго, прежде чем осознает свалившиеся на него неприятности… Достаточно грез покидал я в окошко – ну, будет одной больше. Честно говоря, я научился получать сатанинское удовольствие, замечая, как мало все это меня тревожит. Отправляйтесь же за окошко, моя дорогая Эллен, а пьесу я выбрасываю на рынок: кто даст больше?»
Но похоже, что агенты не рвали эту пьесу друг у друга из рук, ибо осенью того же 1900 года Шоу просил Эллен Терри сыграть леди Сесили в Сценическом обществе. Она в это время гастролировала с Ирвингом в провинции и не смогла принять его предложение.
На первом представлении, которое Сценическое общество дало 16 декабря 1900 года в театре «Стрэнд», леди Сесили сыграла Дженет Эчерч. Играла она не блестяще, и автор взялся указать ей, почему: «Как Мольер, я всегда интересуюсь, что думает о моих пьесах моя кухарка. Она замечательный критик, высиживает на моих лекциях, ходит на мои пьесы. Для нее актеры и актрисы – просто старое барахло перед Ееликим драматургом, которого они играют. Спросил я ее и о леди Сесили. На что она сразу объявила: «Леди не получилась. Она, когда садилась, прихватила коленями платье, а никакая настоящая леди этого не допустит». Прибавить к этому великолепному отзыву нечего. Вы провели всю роль, «прихватив коленями платье».
Спектакль состоялся в воскресенье вечером, и поэтому Эллен смогла на нем присутствовать. За кулисами «Стрэнда» она и Шоу встретились – впервые за все время их заочного знакомства. Он показался ей «добрым, мягким существом». По письмам и рецензиям Эллен представляла себе совсем другого человека.
FIN DE SIECLE [107]107
Конец века (франц.).
[Закрыть]
«Доброе, мягкое существо» – отзыв Эллен Терри о Джи-Би-Эс мало у кого встретил бы сочувствие. Рядовой драматург, композитор, актер, певец, антрепренер, театральный директор, да кого ни возьми, все бы выразили свое отношение к нему и пространнее и в выражениях более сильных. Но вместе с тем он оказался куда более положительным членом общества, нежели большинство знаменитых его литературных современников: сколько их к 1900 году закончили свою жизнь в доме умалишенных, в курильне опиума, в реке Сене или в лоне римско-католической церкви!..
Шоу трудно было понять – вот в чем беда. Кажется серьезным человеком – а может быть, валяет дурака? Но эта неразбериха объясняется просто: у него был огромный запас неуемного веселья, как раз и находивший себе разрядку в паясничаньи. Однажды в цирке его представили клоуну-эксцентрику.
– Как приятно, что вы подали руку старику клоуну, – сказал эксцентрик.
– Это же рукопожатие двух старых клоунов, – ответил Шоу.
Он любил розыгрыши, жизнь выпирала из него, а всякие скучные люди решили, что нельзя принимать всерьез ни одного его слова. Его застенчивость казалась людям оскорбительной холодностью, и на этом фоне даже невинные его выходки вызывали раздражение. Как-то на станции метро «Вестминстерский мост» он забрался на самую верхотуру лестницы и, поскользнувшись, полетел вниз на спине, считая ступени, под взглядами обомлевших от ужаса пассажиров. Внизу он спокойно встал на ноги и отправился дальше, словно проделанный спуск ему не в новинку. Облегчение, тревога и радость зрителей нашли себе выход в истерическом хохоте.
А если разобраться, то ведь позиция Шоу, которая глупцам казалась безнравственной, объясняется его реакцией на заскорузлость литературных соплеменников. Они между тем пожимали плечами: мол, испытанный трюк – выдает черное за белое (Шоу, кстати, быстро ставил их на место: «Попробуйте сами, если это так просто»).
Резкий пересмотр общественных отношений обозначился в Европе с выходом «Капитала» Маркса. Ницше начал, по его собственному выражению, «полную переоценку» современной морали. В Лондоне новый угол зрения утверждал в своих беседах Оскар Уайльд – без сомнения, самый большой умница и великий рассказчик fin de siecle. Борьба Ибсена с традиционными фетишами и хваленым домашним очагом заклеймила героев теннисоновского образца как претенциозных хамов. Но литературный Лондон читал только Маколея и Энтони Троллопа, а Оскара Уайльда знал лишь как записного обеденного оратора, который расплачивается за приглашения горстью парадоксов. Вот и Шоу был бельмом на глазу, был фигурой скандальной, хотя на самом-то деле он бился на передовой линии революции нравов, усвоив идеи Генри Джорджа, предвосхитив значение Ибсена и Ницше и принимая всерьез своего земляка Уайльда. Революция нравов еще не поднялась до политической революции. Рядом с практиками грядущих социальных революций Шоу покажется сегодня безвредным старым джентльменом. Однако Шоу приобрел славу, когда Европа была еще викторианской, и это была скандальная и чрезвычайно громкая слава.
«Будет интересно сравнить допотопные моральные представления Шекспира и новую мораль в пьесах Ибсена и моих собственных, – писал мне однажды Шоу. – Конечно, разрыва здесь нет: человеческая натура, в основном, остается все такой же, и поэтому все драматурги работают как бы сообща. И все же есть разница, и большая. У Шекспира не было веры, не было программы. Его сюжеты – просто готовые платья, которые он перекраивал со всей ловкостью своею гения. А я с начала и до конца оставался социальным реформатором и доктринером – заодно с Шелли, Вагнером и Ибсеном. Бесспорно, и Шекспир не был глух к социальным, политическим и религиозным несправедливостям и глупостям. Но он не знал выхода и заболел подобием свифтовского пессимизма, увидев в человеке, облеченном властью, «злую обезьяну»» а потом и вообще скатился к цинизму, от которого его спас лишь божественно живительный гений. Не умерли Меркуцио и Бенедикт: они состарились и стали Гонзало, который вкупе с Калибаном и Автоликом мешает нам разглядеть, что их окружают самые настоящие негодяи-макиавеллисты (исключая юных любовников, разумеется). Тимон и Терсит оставлены без ответа. Но свое они сказали, и Шекспир знал меру – что же ворчать понапрасну? У Шелли, Вагнера, Ибсена, у меня – все другое. Мы видели, какой дорогой уходят в Долину Смертной Тени, и верили, что человек не ступит на нее, если разберется в своем назначении».
Когда его работе «Лучше Шекспира?» исполнилось сорок лет, я спросил Шоу: а теперь не добавит ли он к ней что-нибудь? Он ответил: «Конечно, добавлю. Для начала забудьте чепуху вроде того, что Шоу – молодой, полный сил человек, а Шекспир – старый, исписавшийся стратфордский обыватель. Просто: Уильям Шекспир, джентльмен. Вся штука в том, что Шекспир умер раньше своего срока. Может быть, он слишком много пил, как Ибсен. Знаю, знаю, Вы всегда заступались за Барда и думаете, что я не смею сравнивать себя с Шекспиром. А ведь это прежде всего невыгодно Шекспиру! Вы хотя бы сознаете, что я пережил Шекспира на целых тридцать лет и лучшие свои вещи, создал в том возрасте, которого он не достиг? У всех великих художников, проживших жизнь сполна, были юношеский период, средний период и «третий стиль», как мы его называем, рассуждая о Бетховене. А что же? Бетховен ведь написал Девятую симфонию и Мессу ре мажор в том возрасте, когда Шекспир уже был в могиле. На шесть лет отошел от роковой для Шекспира черты Гендель, когда его мощный талант породил «Мессию». Произведение это потрясает даже сегодняшних слушателей, которые вроде меня не верят в нем ни одному слову. Шекспир на пятнадцать лет моложе Ибсена – творца «Строителя Сольнеса», на тринадцать лет отстает от меня, когда я написал «Назад, к Мафусаилу», и от меня же в пору создания «Святой Иоанны» – на шестнадцать лет. Все перечисленные работы – плоды «третьего стиля». Не было у Шекспира этого «третьего стиля». Я не возьмусь утверждать, что, доживи Шекспир до шестидесяти, – он бы написал «Освобожденного Прометея», «Кесаря и Галилеянина», «Кольцо Нибе-лунгов» или «Назад, к Мафусаилу». Но очень может быть, что Гонзало сочинил бы что-нибудь получше, нежели красть мысли Монтеня, а Просперо, может статься, не сокрушил бы свои «тучами увенчанные горы», что-нибудь поумнее придумал бы. Шекспиру предшествовал святой мученик Томас Мор – так дерзай же, превзойди его! А потом будет Джон Беньян – этого постарайся предвосхитить! Теперь Шекспир сказал бы, что мы все стоим на его плечах. А на чьих плечах он сам стоял? Марло? Чапмена? Да по сравнению с ним они были пустыми болтунами, эти его достойнейшие соперники. И вышло, что Шекспир стоял на краю ужасающего degringolade [108]108
Падение (франц.).
[Закрыть]английской драмы, которое совершилось сразу после его смерти и продолжалось три столетия – вплоть до моего прихода. Вот почему я просто вынужден сравнивать его с такими гигантами, как Гендель и Бетховен: ему не было достойной пары в английском театре. Харли Грэцвилл-Баркер вернул английской сцене подлинного Шекспира, а до этого его пьесы губили и калечили страшным образом, и, когда священники преклоняли колена и лобызали ирландские подделки, а критики своим тупым обожанием выставляли Шекспира дураком, – на это было больно и стыдно смотреть: ясно, что ни те, ни другие не читали ни строчки Шекспира – и не прочтут».
Очевидно, не стоит и заводить речи о том, что Шекспира занимали глубинные свойства человеческого характера, а не моральные вопросы.
Его предметом была всегда неизменная человеческая природа. Так называемая «новая мораль» Ибсена, Шелли, Вагнера, Шоу и К° в каждую эпоху выступала в привлекательном и новом обличье, но это была непременно мораль определенной группы людей, стремившихся настоять на своем или устранить беспорядок, который до них натворили такие же горячие головы. Эта «новая мораль» стара, как Воинствующая Церковь, как Магомет, Аттила или Дарий; стара, как Моисей, как мир. И печальной милостью неба Шоу нес чепуху, когда брался сравнивать Шекспира с собой или с кем-нибудь из своих любимых художников. Ну, хорошо: Шекспир – пессимист, а чем возразит ему Шоу?! Его оптимизм ничуть не радостнее того убеждения, что если Человека придется выбросить на помойку как вечного неудачника (Шоу не исключает этой возможности), то, дескать, Жизненная Сила позаботится отыскать на его место какое-нибудь животное получше.
Когда его приятель Генри Солт закончил свою автобиографию под названием «Семьдесят лет среди дикарей», Шоу понимающе хмыкнул. Мир представлялся ему подобием зоопарка – стоят повсюду обезьяньи будки и клетки с тиграми. Обреченным жить среди зверей казалась ему участь гения – его собственная участь. Спору нет, современникам это было не по вкусу: они были о себе лучшего мнения.








