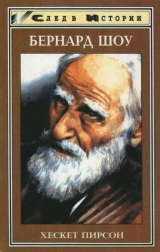
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
Не Англия принесла Шоу материальную независимость: Ричард Мэнсфилд поставил «Ученика дьявола» в Америке, и это дало драматургу возможность бросить работу в «Субботнем обозрении». Еще в сентябре 1894 года Мэнсфилд поставил «Оружие и человек» – первую пьесу Шоу на американской сцене. Успех был небольшой, и в 1898 году Шоу признался, что по обе стороны океана пьеса принесла ему лишь восемьсот фунтов. Мэнсфилд стал осторожнее, отказавшись взять «Волокиту» и «Избранника судьбы». Он возлагал надежды на «Кандиду»: если Шоу сделает работу чисто – что ж, можно будет и взяться. Но вышло даже лучше: не пьеса, а конфетка, и Мэнсфилд начал репетировать. Но ему пришлось отказаться от этой затеи, как только он понял, что роль поэта, «болезненного юноши», ему не подходит и что он потеряется рядом с Дженет Эчерч, которую сам подрядил на роль Кандиды. Далее, это пьеса «без действия» – проповедь на два с половиной часа. И «Кандида» осталась дожидаться своего часа: Арнольд Дэйли сделает ее сенсацией нью-йоркского сезона 1904 года.
«Ученика дьявола» Мэнсфилд показал 1 октября 1897 года в Олбэни, а затем перенес спектакль в театр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Здесь пьеса держалась долго. Потом Мэнсфилд успешно гастролировал с ней. Но что-то раздражало его – и в пьесе и, конечно, в самом Шоу. Некий сенатор посоветовал ему еженощно благодарить бога, что тот послал ему такую пьесу, и Мэнсфилд признался: он благодарит, но на душе у него обида: «Почему, господи, ты явил свою милость через Шоу?» Атлантический океан не мешал им осыпать друг друга оскорблениями. Глупой пародией назвал Мэнсфилд присланного ему «Цезаря и Клеопатру», за что получил от автора характеристику отыгравшего свое гастролера: «Да простят меня оба континента, которые я убедил в Вашей гениальности… Прощай, Помпей!»
Но, что ни говорите, «Ученик дьявола» в постановке Мэнсфилда принес автору 3000 фунтов, и он смог оставить каторжный труд критика: сил это отнимает немало, а известности и денег не прибавляет – лучше уж пьесы писать.
Не мешает лишний раз отметить, что первый кассовый успех Шоу принесла первая же пьеса, где он показал беспримерный религиозный характер – воинствующего святого. В обрисовке таких характеров ему не будет равных, и самый крупный кассовый успех ждет его именно на этом пути [98]98
Имеется в виду «Святая Иоанна».
[Закрыть].
БРАК И ШЕДЕВР
В конце лета 1896 года фабианцы по-семейному съехались в пасторский дом в Стрэтфорде Сент-Эндрью. Дом на несколько недель сняли Уэббы. С ними вместе приехали Чарльз Тревельян, Грэам Уоллес, Шарлотта Перкинс-Стетсон, Бернард Шоу и Шарлотта Пейн-Таунзенд. Хорошенькое местечко выбрали наши преобразователи мира! Направляясь из Сэксмондэма к Ипсуичу, путник проходит деревушку Стрэтфорд Сент-Эндрью, сложенную из красного кирпича, потом сворачивает направо и выходит на аллею, тянущуюся меж вековых деревьев; по левую сторону лежит роскошный луг. Всюду пышная зелень – покой, деревня. В конце подъездной аллеи путешественник ожидает увидеть перед собой эдакое елизаветинское нагромождение или, по крайней мере, что-то в георгианском стиле. А видит он крепко сложенный дом серого камня, верный духу позднего викторианства. Странник тотчас почувствует озноб, а если день пасмурен, то и зябко съежится. И пала духом Шарлотта Стетсон – бежала, бросив на миссис Уэбб и мисс Пейн-Таунзенд заботы о мужской половине. А фабианцам – хоть бы что: с утра они часа четыре работают, днем еще часа четыре катаются на велосипедах, за едой и по вечерам толкуют о социализме, читают книги.
Здесь началась фабианская любовь. Наследнику Шекспира и потомку Макдуфа надо бы поосмотрительнее вести себя в местечке, которое и называется-то Стрэтфорд Сент-Эндрью [99]99
Шекспир, как известно, родился в Стрэтфорде-на-Эйвоне.
[Закрыть], а он взял да и влюбился в Шарлотту Пейн-Таунзенд.
Ирландка по отцу, сна была богата, но сердце ее было расположено к справедливости и добру. Она дала отставку множеству расчетливых поклонников и принялась заигрывать с социализмом. Шарлотту представили миссис Уэбб, которая быстро вытянула у нее тысячу фунтов на помещение для новой лондонской Экономической школы. Шарлотта сделалась фабианкой. Коготок увяз – всей птичке пропасть: «свет» ей опротивел, и теперь она вылезать не хотела от фабианцев. Не согласится ли миссис Уэбб снять вместе с нею сельский домик и пригласить избранный фабианский круг? Миссис Уэбб ответила, что она всегда снимает на лето дом в деревне, где обыкновенно с ними отдыхают два главных фабианца – Бернард Шоу и Грэам Уоллес. У мисс Пайн-Таунзенд есть возражения против этого варианта? У мисс Пейн-Таунзенд возражений не было. Она приехала в Стрэт-форд Сент-Эндрью, увидела Бернарда Шоу, победила его – и, в свою очередь, была им побеждена. Этой новостью Шоу поделился 28 августа с Эллен Терри.
«С нами живет ирландская миллионерша, у которой хватило ума и духу пойти наперекор божескому соизволению, определившему ей быть лакомым куском. Она с большим успехом вошла в нашу фабианскую семью. Хочу тряхнуть стариной и влюбиться в нее – обожаю влюбляться. Но влюблюсь я, заметьте, в нее самое, а не в ее миллион. Пусть себе кто-нибудь другой женится на ней, если, конечно, она стерпит его после меня».
Почти все время уходило на дописывание «Поживем – увидим!», латанье проколотых дамами шин и застольные чтения своих пьес по вечерам. А, знать, нашел он все же время по душам переговорить с мисс Таунзенд – ведь были еще долгие велосипедные поездки в Ипсуич или куда глаза глядят, были и пешие прогулки. Последние очень полюбились фабианцам; во время прогулок разговор порою принимал столь серьезный оборот, что спорщики переходили с шага на рысь.
Водворившись к началу октября опять в Лондоне, Шоу заметил за собою «столь сильное чувство» к ирландской даме со светло-зелеными глазами, «что влюбляться было уже поздновато». Через три недели он будет спрашивать Эллен Терри: «А не жениться ли мне на моей ирландской миллионерше? Ее идеал – свобода, а не брак, но я бы смог ее переубедить, если это понадобится, и тогда имел бы каждый месяц – здорово живешь – не одну сотню фунтов. Что, простите Вы мне когда-нибудь такое? Только честно! Даже если мы любим друг друга? Конечно, не простите».
На следующий день он сообщал Эллен некоторые новые подробности: «Ее чувство ко мне, строго говоря, – не любовь. Она, знаете ли, умная женщина и дорожит своей независимостью: при жизни матери и до замужества сестры она немало натерпелась семейного гнета. Она не даст свалять дурака и связать себя замужеством, не узнав, как живется на белом свете, не успев как следует распорядиться собой и своими деньгами. На том она стоит и впредь стоять обещает Несколько лет назад ее сердечку сделали больно, и страданий хватило надолго (она очень сентиментальна), пока, наконец, не довелось ей прочесть «Квинтэссенцию ибсенизма», которая стала для нее евангелием, спасением, научила свободе, эмансипации, собственному достоинству. Потом она встретила автора, а тот, как Вам известно, может быть вполне сносным собеседником. Для велосипедных прогулок он тоже неплохая пара, особенно в деревне, где люди наперечет. Я ей понравился, и она этого не скрывала, не кокетничала. И мне она понравилась: мне было хорошо с нею в деревне. Вы всегда отогревали мое сердце – оттого я во всех и влюблялся. А тут подвернулась она, из всех – самая лучшая. Вот как обстоят дела. Что мне подскажет Ваше мудрое сердце?»
Эллен отвечала: «Я женщина простая. Умом никогда не отличалась, а как посмотрю на вас всех – и умнеть-то не особенно хочется». Но все же одно она знала твердо: «Вы будете последним подлецом, если женитесь на ком-нибудь без любви. Женщине, той можно не любить до замужества: потом втянется, если никого не любила раньше».
Все же решительного еще ничего не произошло. Шоу поостыл – не к даме, а к браку, который для сорокалетнего холостяка манящей целью, очевидно, не светит. Смущала также меркантильная сторона дела. Ну, что он такое, если разобраться? Авантюрист, с грехом пополам живущий на шесть фунтов в неделю от «Субботнего обозрения». А у нее – раз в десять превышающий эту цифру солидный, обеспеченный доход. Разве честно навязываться ей в мужья?
Успех «Ученика дьявола» устранит это препятствие, и устранит, как выяснится, навсегда, но сомнения и колебания останутся – теперь в основном по поводу самой дамы: «Она свободная женщина, – доносил Шоу, – и это не стоило ей ни гроша. Ей кажется, что она полюбила, а в таком положении, считает она, люди всегда женятся. Тут и плакали ее денежки. А любимый уже подсмеивается над ней, видит насквозь все ее мысли, сообщает, что – да, с нервами у него дело дрянь, и весело укатывает на велосипеде».
Так чем же все-таки кончилось дело?
Вот письмо от Эллен Терри, написанное в конце ноября: «Вижу, вижу, как вы оба бредете в прекрасном, сыром тумане, оставляя за собой светящийся след. Не знаю, может быть, мне завидно, но глаза у меня на мокром месте и хочется быть кем-нибудь из вас – все равно, кем. В вашем рассказе самые обычные вещи кажутся прекрасными. Мне это знакомо. Давно это было, но – благодарение небу – такое не забывается». Эллен предлагала Шоу привести мисс Пейн-Таунзенд к ней за кулисы после «Цимбелина» [100]100
«Цимбелин» в постановке Генри Ирвинга (театр «Лицеум») Шоу видел 22 сентября 1396 г.; 26 сентября в «Субботнем обозрении» появилась его рецензия, о которой упоминалось выше.
[Закрыть]. Шоу не мог поручиться, что это возможно: «Тут вот в чем загвоздка: по-настоящему Вы ее увидите, только если она сама захочет Вам показаться. Взглянув на нее, решаешь: типичная леди, и посему никакого интереса не заслуживает… Держится ровно, с достоинством и просто. Собою вполне довольна. И совершенно преображается, взяв Вас в свои друзья! О, совсем непросто привести ее к Вам, показать Вам ее. Эта зеленоглазая на поводу не ходит: она – личность» [101]101
Поскольку письмо это адресовано Э. Терри, не исключено, что Шоу отмечает не только цвет глаз Шарлотты, но и определенную черту ее характера: «green-eyed» значит также «ревнивая».
[Закрыть]. И опять: «Она не потерпит, чтобы я прихватил ее к Вам и отрекомендовал как последнее свое увлечение. Поймите меня правильно: в человеке мне одинаково дороги и его открытая душа и чувство собственного достоинства».
Весной 1897 года Уэббы жили в «Лотосе» (Тауэр Хилл, Доркинг). С ними же обреталась мисс Пейн-Таунзенд. Постоянно пребывал здесь и Шоу, если не считать его частых отлучек в Лондон. Под стук колес поезда, спотыкавшегося в темноте, Шоу принимался за письма к Эллен Терри: «Мисс Пейн-Таунзенд раскусила меня, – сокрушенно признавался Шоу. – Она считает, что из всех, кого она знала, я «самый эгоцентричный человек». И далее он описывает житье-бытье в доме с таким неподходящим для его обитателей названием: «Как бы я хотел затащить Вас сюда! Здесь нет никого, кроме миссис Уэбб, мисс П.-Т., Беатрисы Крейтон (дочь лондонского епископа), Уэбба и меня. Увы! Четверо лишних. Любопытно, как бы Вам показалась наша жизнь? Бесконечные политические пересуды. По утрам яростно скрипим перьями, каждый в своем углу. Жадно и просто питаемся. Носимся ка велосипедах. Уэббы воркуют, подвигая вперед свою индустриальную и политическую науку. «Очень интересно», – отзывается обо всем вокруг мисс П.-Т., умная зеленоглазая ирландка, И я, всегда усталый, всегда в заботах, и, по общему мнению, опять «пишу письмо Эллен». Вы не вынесли бы здесь и трех часов. Надо бы, надо Вам заглянуть…»
Осень 1897 года сведет Шоу и мисс Пейн-Таунзенд у Уэббов в «Арго» (Пенолт, Монмаут). Днем Шоу забирался на 800 футов над Уайтом и вдоволь вылеживался в гамаке, готовя к печати «Пьесы приятные и неприятные».
Они привыкли друг к другу, и мисс Пейн-Таунзенд часто обращалась к Шоу: «Вы очень любопытная личность» или: «Какое вы чудовище» – это уж с какой ноги ока встанет. В конце 1897 года он снова дает ее портрет, посвящая его Эллен: «Возле мисс П.-Т. отдыхаешь душою: простодушная, зеленоглазая, отлично себя держит, идеи мои усваивает превосходно, ничем не связана, свободна. А если отметит своим доверием – от простодушия нет и следа. Вдруг Вам захочется куда-нибудь сбежать, спрятаться? Всего вернее, что Вас не будут искать в лондонской Экономической школе. Держите нас про запас. Вы будете для нее положительно интересны, и не по причине только Вашей заслуженной известности: она обнаружила, что у меня «работа» и «важное дело» иногда оборачиваются длинными письмами к Вам».
К началу 1898 года мисс Пейн-Таунзенд сделалась его секретарем. Он диктовал ей статьи, она нянчилась с ним, когда он умирал от усталости. В свободное время он все чаще и подолгу бывает у нее дома, на Адельфи-Террас, 10, где в нижнем помещении располагалась лондонская Экономическая школа. Они много гуляли вместе: «Мисс П.-Т. мучилась приступами невралгии, но теперь забросила это дело. Раньше бывало, не пройдем и пяти минут, как у нее уже сердцебиение: останавливается, просит меня не бежать как паровоз. А теперь берет со мной все препятствия, не отставая и не уставая».
В марте она отправилась с Уэббами в кругосветное путешествие, но не суждено ей было уехать дальше Рима, где она изучала городское самоуправление: от Грэама Уоллеса пришла телеграмма, где было сказано, что Шоу серьезно заболел и брошен без внимания в ужасных условиях на Фицрой-Скуэр, 29. Миссис Уэбб настоятельно советовала своей компаньонке вернуться домой. Но советов и не требовалось: с первым же поездом мисс Пейн-Таунзенд отбыла обратно.
Хотите последовать за ней на третий этаж этого «самого омерзительного логова», по определению Шоу?
Он работал в тесной каморке, в вечной грязи и беспорядке. Зимой и летом, днем и ночью окно было распахнуто, пыль и сажа оседали на мебели, книгах и рукописях. В результате каждой попытки прибрать в комнате разводилась новая грязь. На столе громоздилось невесть что: пачки писем, страницы рукописей, книги, конверты, почтовая бумага, ручки, чернильницы, журналы, масло, сахар, яблоки, ножи, вилки, ложки, порою – забытая чашка какао или недоеденная тарелка каши, кастрюля и еще куча вещей, перемешанных без всякого разбора и скрытых пылью, ибо к его бумагам кому бы то ни было запрещалось и близко подходить. Стол, машинка и деревянное кресло-качалка, в котором он работал, почти не оставляли свободного места в комнате, и посетителю приходилось двигаться боком, как крабу.
Иногда вдруг хозяину загорится устроить генеральную уборку – это полных два дня тяжелой работы. Работа его радует – кому-то, наверно, так же приятно два денечка покопаться в саду: отдыхает голова, ноет спина, лицо и руки в грязи. И глядишь, отыщется ка-кой-нибудь забытый чек – не задаром, значит, гнул спину! В этой пугающей свалке был уголок, хранивший следы своеобразного отношения Шоу к литературе: «Когда мне читать? Только раздеваясь на ночь и одеваясь поутру. Книга лежит на столе раскрытой, и я кладу на нее другую, так и не дочитав первую. Через несколько месяцев на столе высится гора брошенных книг, распластанных на обе корки. Тем и отличаются мои книги, что в них всегда есть страница, зачерненная сажей и грязью, которые она собрала за несколько месяцев».
За много лет он свыкся с условиями, в которые только заряд динамита мог внести какой-то новый порядок: «Я давно махнул рукой на пыль, грязь и убожество вокруг себя. Пусть хоть полстолетия пылят в моей каморке семь уборщиц с семью швабрами – ничего путного из этого не выйдет». Время от времени в комнату входила горничная: опустит на ближайшую кипу бумаг тарелку со стынущими яйцами – и уходит вон, давно перестав учить хозяина «порядку».
Мать Шоу никогда не заглядывала в его неряшливый кабинет. Они были в прекрасных отношениях, но жили каждый своей жизнью: питались отдельно, и если один из них по непонятной причине долго отсутствовал, – другого это мало тревожило. Сестра Люси привязалась к свекрови, жила где-то на стороне и в родной дом не показывалась. Иногда придет одолжить денег дядя-врач: надо платить ростовщику проценты. Дядя разорился: после недурной практики в графстве пришлось работать в бедных предместьях, где ютились клерки, содержавшие семью на пятнадцать шиллингов в неделю. Он страшно поизносился; его медленно сводил в могилу диабет. Дядиным шуткам смеялся только Джи-Би-Эс. Все комнаты в доме давно нужно было заново перекрасить, переменить обои…
Вот в каких условиях довелось Шоу бороться с общим расстройством здоровья. С чего все это началось, мы уже знаем: туго зашнуровал ботинок и получил нарыв на ноге. Но могло этого и не случиться, если бы он не подорвал здоровья систематическим перенапряжением и поменьше бы киснул в помещении – на митингах, в концертных залах, в театрах и комитетах. Как раз перед самой болезнью он за две недели ухитрился трижды побывать на театральных премьерах, дважды выступить на предвыборных собраниях, посетить четыре приходских комитета и один фабианский, написать свою еженедельную газетную норму и выправить корректуру фабианской брошюры по какому-то социальному вопросу; еще он вел каждодневную переписку. Примерно к этому времени относится его письмо к Эллен Терри, начинающееся словами: «Если я перестану Вам писать, я умру. Но я сойду с ума, если сейчас же не брошу перо.
О, Эллен! Весь мир выезжает на мне и нещадно сечет мои впалые бока».
Вскрыли нарыв на подъеме ноги и нашли развившийся некроз кости. В то время в большой моде было антисептическое лечение Листера – медицина вооружилась им всерьез, – и после перевязки в ране оставили марлю, пропитанную йодом. Естественно, рана не заживала. Инвалид передвигался мало и только на костылях. В таком положении его и нашла прибывшая на Фицрой-Скуэр, 29 мисс Пейн-Таунзенд.
Вокруг его имени тогда бурлило некоторое оживление: он «только что решительно отвлек внимание публики от американской войны» [102]102
25 апреля 1898 г. США объявили войну Испании.
[Закрыть], выпустив «Пьесы приятные и неприятные». Общее мнение об этом событии было весьма объективно выражено драматургом, чьи пьесы Шоу-критик старательно перехваливал. «В них нет почти ничего драматического. Немыслимо чтобы они когда-нибудь заинтересовали какую-нибудь аудиторию», – писал Генри Артур Джонс по поводу первого издания драматических произведений Шоу. История критики богата глупостями, но пророчество Джонса перекрывает их все. Шоу не спешил махнуть рукой на Джонса и зашел к нему с другой стороны: «Кстати, как Вы посмотрите на то, чтобы мне жениться?» Джонс одобрял этот шаг, но советовал обратиться к Рабле и перечитать, что говорят в этом случае Панургу.
Брак казался уже неизбежным. Мисс Пейн-Таунзенд только и делала, что ужасалась, как ведется хозяйство в квартире на Фицрой-Скуэр. Шоу нельзя здесь оставить – он умрет без ухода. Она живо сняла дом неподалеку от Хэзлмира, решив водворить больного туда и поднять его на ноги. Со стороны матери возражений не поступило… Если кто-то имеет возможность присмотреть за сыном получше, что ж – тем лучше для сына.
Но этим, считал Шоу, еще не снимались все трудности. На троне была королева Виктория, и сильно рисковала скомпрометировать себя старая дева, живущая в одной квартире с холостяком. Возьмись далее сиделки доказывать, что он полный инвалид, – и это бы не помогло. Хоть у него самого и было рыльце в пушку, он никогда не советовал женщинам заводить незаконных связей. Не мог он поэтому потерпеть, чтобы по его милости его ближайшая подруга уронила себя в глазах общества. Для человека с таким образом мыслей все свелось к дилемме: либо жениться и жить возле Хэзлмира, либо без Шарлотты угасать на Фицрой-Скуэр. Он вынес решение в пользу брака «по причине совсем уж для меня неожиданной, а именно: оказывается, я прежде думаю о другом человеке, а потом уже – о самом себе». Ясное дело: они «стали необходимы друг другу». Он пояснил это следующим образом: «Вступая в брак, я не гнался заиметь постоянную любовницу – я был достаточно искушен, чтобы не сделать этой ужасной ошибки. Убереглась от того же заблуждения и моя жена. Наши половые проблемы мы вполне могли решить не столь дорогой ценой. Мы стали мужем и женой совсем по другим соображениям… Запомните, что бывают разные браки. Не смешивайте в одно молодоженов, которые скоро станут родителями, и бездетный союз людей пожилых, для которых поздно и опасно заводить детей».
Относительно брачной церемонии колебаний не предвиделось. «Если бы мне довелось жениться, – писал Шоу за несколько недель до приезда мисс Пейн-Таунзенд, – я бы сбежал куда-нибудь в глушь, где брачный обряд застыл на месте веков пять назад». Главное возражение против церковного обряда он высказал в 1896 году: «Следовать доброму старому обычаю и в церкви своего прихода поручиться в любви к своей жене – это можно. А почему нельзя те же слова доверить официальным документам, если жене невмоготу, когда высмеивают глубокое чувство, громогласно зачитывая наивные несуразности Святого Петра? Ведь не католик и не христианин судит здесь о Женщине, а неотесанный сирийский рыбак» [103]103
По евангельскому мифу, апостол Петр прежде был рыбаком.
[Закрыть].
Поэтому мисс Пейн-Таунзенд купила кольцо и разрешение на брак, и 1 июня 1898 года они оформили брак в регистратуре Вест-Стрэнда, по дороге в Хэзлмир. Шоу был в старой куртке, растянутой костылями, на которых он ковылял. Присутствовали его друзья Грэам Уоллес и Генри Солт, одетые безукоризненно.
«Чиновник никак не ожидал, что я окажусь женихом, – рассказывал Шоу. – Он принял меня за обязательного нищего, без которого не обошлась еще ни одна свадебная процессия. Рослый Уоллес совершенно сходил за героя события, и чиновник едва не женил его на моей невесте. Но Уоллес счел предъявленные условия несколько тяжеловатыми, в последний момент растерялся и уступил мне победу».
Они отправились в Питфорд (Хэзлмир), где Шарлотта начала нелегкую работу по восстановлению его здоровья. Ей толково помогали сиделки, все до одной влюбившиеся в Шоу, а сам больной искусно совал им палки в колеса и своей непоседливостью вынуждал Шарлотту всегда быть начеку. «У моей жены восхитительный медовый месяц, – писал Шоу 19 июня. – Сначала она возилась с моей ногой и уже почти выходила меня, но позавчера я загремел с лестницы и сломал руку у запястья».
Происшествие вывело его из строя и на время задержало работу над книгой о Вагнере, которую он обязал себя написать в медовый месяц. Но уже через три недели он опять засаживается за работу и 20 августа кончает книгу, присовокупляя следующее письменное наставление своему издателю Гранту Ричардсу: «Оформите ее под карманный молитвенник, не нужно трактата». Он очень хотел показать товар лицом и сделал пометки на полях, где какой шрифт, какая бумага. Пусть будет золотой обрез, застежки, кожаный переплет и матерчатая закладка с вытканным на ней заглавием. Он даже побаловал себя мыслью об edition de luxe [104]104
Роскошное, дорогое издание (франц.).
[Закрыть]в перламутровом переплете с юфтяными крышками – ценою в две гинеи.
Состояние ноги казалось обнадеживающим, и врач предложил больному развеяться, съездить к морю. 10 сентября супруги отправились на остров Уайт. Здесь Шоу стал не спеша примеряться к своей новой работе – «Цезарю и Клеопатре».
Недели через две они вернулись в Хэзлмир, и Шоу отпраздновал улучшение своего здоровья – поехал на велосипеде, работая одной педалью. Он упал и растянул сухожилие ноги – это побольнее, чем «десять операций или перелом обеих рук». Час от часу не легче!
Врачи умывали руки и во всем винили диету. «Я переживаю высокие минуты, – писал Шоу. – Мне подарят жизнь, если я стану есть бифштексы. Рыдающее семейство подступает ко мне с боврилом и экстрактом Бранда [105]105
Мясные бульонные кубики.
[Закрыть]. Но лучше смерть, чем каннибализм. В завещании у меня оговорено, чтобы за гробом тянулись не похоронные дроги, а стада быков, овец, свиней, толпы домашней птицы и передвижной бассейн с живой рыбой, и чтобы всем тварям были подвязаны белые банты в память о человеке, который даже при смерти отказывался есть своих собратьев. Это будет самое великолепное зрелище на свете после процессии, вошедшей в Ноев ковчег».
В ноябре супруги Шоу сняли в Хайндхеде дом, называвшийся «Блен-Катра» (теперь в этом доме колледж). Переезд принес большую радость: «Какое может быть сравнение с Питфордом? – пишет наш калека. – Здесь я переродился. В таком воздухе любой станет драматургом». Калитка смотрела на магистраль Лондон – Портсмут, и ярдах в ста виднелся путевой столб: до Лондона 40 миль.
В самом начале 1899 года он опять растянул сухожилие на больной ноге, а в апреле, «дурачась на велосипеде», заработал новое растяжение. Боль была страшная, нога являла ужасный вид. Две операции на ноге, падение с лестницы, переломанная рука, вывихнутая и растянутая лодыжка и бесчисленные ушибы – где уж тут, казалось бы, работать? А он между тем создавал шедевр, о котором писал мне в 1918 году: «Почему понадобилась колоссальная война, чтобы приохотить людей к моим произведениям? Их читает вся армия поголовно. В перерывах между чтением постреливают в немцев или пишут мне письма, спрашивая, что же все-таки я доказываю своей книгой…
«Цезаря и Клеопатру» я написал для Форбс-Робертсона и миссис Патрик Кэмбл, которые тогда играли вместе. Но пьеса была сыграна, когда их творческие пути уже разошлись. Клеопатру «донесла» Гертруда Эллиот, которая прежде сыграла с Робертсоном в «Ученике дьявола». Теперь она леди Форбс-Робертсон.
Этот жанр Шекспир называл «историей» или драматической хроникой. Историческую канву событий я без изменений заимствовал у Моммзена. Я перечитал пропасть материалов – от ненавидевшего Цезаря Плутарха до Уорда-Фаулера, и только Моммзен давал удовлетворительный для меня характер Цезаря, только Моммзен рассказал о путешествии в Египет с убедительностью человека, верившего в происходящее, чего о других историках не скажешь. Я держался Моммзена, как Шекспир – Плутарха или Холинщеда. Взгляд Моммзена – Шоу на Цезаря разделяет, между прочим, Гёте: он высказался где-то, что убийство Цезаря было самым черным преступлением в истории. Мне было уже за сорок, когда я работал над пьесой, но теперь думаю, что взялся за нее рановато. Впрочем, для новичка она сделана неплохо.
Сейчас Вы в армии, Вас терзают лишения и ужасы и, может быть, Вам будет интересно узнать, что в пору работы над пьесой я ковылял на костылях: на ноге у меня был некроз кости, все боялись, что он разовьется в рак и сковырнет меня окончательно. Началось все с несчастного случая, совпавшего с общим расстройством здоровья к старости, что в свое время свело в могилу Шиллера и едва не прикончило Гёте. Потому и говорят: в сорок лет рабочий человек должен на год укладывать себя в постель. Еще не привыкнув к костылям, я стал спускаться по лестнице, взмыл вверх и полетел вниз считать ступени, прибавив к бесполезной ноге еще сломанную руку. В таком положении я писал «Цезаря и Клеопатру», хотя по пьесе этого, кажется, не видно. Помню, на острове Уайт я лежал на краю обрыва, бросив на траву костыли, и записывал строки: «Облака блестят в синеве… И пурпур в зеленой волне…» [106]106
Песня «на мотив баркароллы» из третьего действия «Цезаря и Клеопатры». Первую строчку запевает Цезарь, вторую подхватывает Аполлодор.
[Закрыть]– это буквально заметка на память о том, что я в действительности наблюдал с обрыва.
Сценой со Сфинксом я обязан одной французской картине, изображавшей бегство в Египет. Хоть убейте, не вспомню художника. Гравюру я мальчишкой видел в витрине магазина, и целых тридцать лет она хранилась в запасниках моей памяти, пока не ожила на сцене: на пустыню взирает колоссальный Сфинкс, покоя в своих лапах сон Девы и Младенца, и вокруг все так спокойно, что дым над костром Иосифа стоит прямой, как палка».
Стоит ли говорить, что Форбс-Робертсон поначалу не был в восторге от пьесы, оправдываясь тем, что это громоздкая постановка и рисковать ему не хочется. Но со временем он полюбит пьесу – и поставит ее. А вот отзыв Уильяма Арчера: «Мне кажется, Шоу этим историческим бредом открывает новый жанр, но кроме него самого, к счастью, никто за этот жанр не возьмется».
Совсем некстати называть эту работу бредом, абсурдно пророчество, что у пьесы не будет подражателей, а объявлять Шоу основателем нового жанра достаточно глупо: просто Шоу написал пьесу, которой, кроме него, никто другой не написал бы. Впрочем, каждая новая пьеса Шоу уже потому не могла угодить Уильяму Арчеру, что не была еще одной «Профессией миссис Уоррен».
«Цезарь и Клеопатра» – единственная пьеса Шоу, оказавшая громадное влияние на современную ему литературу: отсюда начинается здравый и юмористический подход к исторической теме. В этом смысле значение его работы трудно переоценить. Однако биографа пьеса интересует совсем не с точки зрения ее литературного значения. Цезаря Шоу увидел глазами Моммзена, и значит, – в идеализированном свете. Еще Феррари сурово порицал за это Моммзена: итальянец писал об итальянце.
Цезарь Шоу очаровывает нас, вызывает к себе любовь. О, если бы наши цезари хотя бы отдаленно походили на этого комедианта из пьесы Шоу, судьбы человечества устроились бы куда более счастливо! Но Шоу не мог найти в себе настоящего Цезаря и дать его истинный портрет. А Шекспир знал этот тип людей – и дал его точное описание. Шоу, конечно, со мной не сойдется: «В Шекспире не было Цезаря, как не было его и в самую ту эпоху, которую открыл Шекспир, а мы – благополучно провожаем в небытие»; «Шекспир отлично знал слабости человека, но не увидел его силы, его способности быть Цезарем»; «Шекспировский Юлий Цезарь не высказывает ни одной мысли, которая бы украсила заурядного американского политикана из Таммани Холла, – не говоря уже о реальном Юлии Цезаре».
Выскажем наше отношение по всем этим пунктам: 1) Шекспир изучил Цезаря по первоисточнику, который в его время носил имя – королева Елизавета; 2) Шекспир описал Цезаря, который живет за счет своей славы, никак ее не поддерживая; поэтому в нем виднее проступают слабости, нежели сила. Шекспир очень даже умел показать «силу человека, его способность быть Цезарем», – возьмите Октавия в «Антонии и Клеопатре»; 3) на нашем веку мы перевидали несколько цезарей, помыкавших Европой, и ни за одно из их высказываний – письменное или устное – никакой «заурядный американский политикан», конечно же, не ухватится. Словом, Шекспир досконально знал тип диктатора и вовсе не должен был походить на него, чтобы дать его достоверный портрет. Шекспировский Цезарь объявился в наши дни под именами Гитлера и Муссолини, он и впредь не заставит себя ждать, если человечество клюнет на удочку «Пришел, увидел, победил» и будет истерически ловить пламенные речи. Еще Шекспир знал характеры, выдвинутые революцией. «Какой же это Брут?! – восклицал Шоу. – Зеркало Шекспира показывает нам вылитого жирондиста за двести лет до его рождения…». Но от века к веку человеческая природа меняется мало. Желающие добра жирондисты, вроде Брута, непреклонные якобинцы, вроде Кассия, и бездушные политические оппортунисты, вроде Антония, – все они были и в елизаветинской Англии, и во Франции: Бриссо, Марат и Бонапарт, да где их, собственно, не было?! Они будут всегда и везде, только под разными именами. Шекспир знал многих из них: они вышли на божий свет во время мятежа Эссекса. И Шекспир на вечные времена сдал их в типографию.








