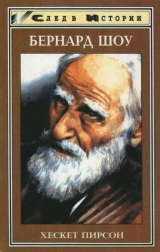
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
ШОУ И ЕГО БИОГРАФ
Читая корректуру моей книги [190]190
Эта глава и все последующие были впервые опубликованы в 1951 г. Предшествующая часть биографии вышла в свет в 1942 г., при жизни Шоу.
[Закрыть], Шоу держался стойко. Но кое с чем он был все же не согласен: «Вы все еще одной ногой в XIX веке. Религию, политику, науку, искусство вы растасовали по гнездышкам, представив дело так, будто это все несовместимые, взаимоисключающие вещи. Но в жизни так не бывает. Не бывает только верующего человека, только политика, только ученого, только художника. Природа перемешивает все это в одном человеке в разных пропорциях. Я перемешиваю все это в своих пьесах. Епископ, Инквизитор, барон-феодал из «Святой Иоанны» – люди ничуть не менее набожные, чем Жанна, только без ее странностей. Мне пришлось остановиться и на том, что она была не только святая, но и опасная женщина. «Цезарь», «Иоанна», «Король Карл» вам нравятся не потому, что эти пьесы удались мне лучше, а потому, что их политическая и религиозная основа хорошо вам знакома и вы с ней не знаете хлопот. А вот пьесы, написанные мною благодаря знакомству с Марксом и Бергсоном, мои ультрашовианские пьесы, вам не по душе – с ними хлопот полон рот. И вы их отвергаете как худшие мои сочинения. Между тем их просто трудновато сразу проглотить».
Я стал защищаться: «Боюсь, вы ошибаетесь, утверждая, что природе неизвестны в чистом виде верующий человек, политик, ученый, художник и так далее. Мне приходилось с такими встречаться. Мир переполнен врачами, которые, кроме медицины, знать ничего не знают; юристами, которые говорят только о своих процессах; политиками, которые только и делают, что сговариваются друг с другом или друг против друга интригуют; бизнесменами, которые думают только о деньгах; спортсменами, которые мечтают только о призах; священниками, которые по уши зарылись в своей теологии; инженерами, которые не знают, что с собой делать, если у них не заняты руки. В свою очередь, у меня самого натура художника и только художника. А это значит, что меня интересуют люди, а не доктрины и теории, сущность, а не мишурная оболочка. Шекспира тоже интересовали только люди – это был материал его искусства, а на религию, политику, науку и прочую ересь, одурманивающую человечество, он чихать хотел. Вот почему я понимаю Шекспира, а вы – нет. Герои ваших религиозных пьес мне дороги прежде всего как люди живых страстей, а не как рупоры веры. В «Андрокле» вы воистину ушли от полемики и пришли к поэзии. Великое искусство всегда занималось и занимается природой человека – не его догмами, хотя, спору нет, природа человеческая тешит себя и обманом (догмы наши можно ведь назвать и так)».
Пропустив мои слова мимо ушей, он спросил: «Кстати, зачем ворошить мои поездки, кому нужен весь этот путеводитель? У меня жена – бродяга, вот я и скитался по свету. Но в моих произведениях едва ли отыщется след этих скитаний – разве что в «Простачке с Нежданных островов», но вам эта пьеса не по вкусу. Она была бы другой, если бы я не побывал в Индии и на Дальнем Востоке (притом что чуть ли не через всю свою жизнь в драме я пронес желание написать о Страшном суде)».
Я намекнул на то, что путеводитель бывает интересно читать. Он уже углубился в другую проблему: «Идти за мыслию, куда б ни привела». Я бы на вашем месте признался, что, не будучи ни биологом, ни философом, вы не идете за мыслью так далеко. Или что вы уже не щенок – учить новые команды. Или лучше всего скажите, что не можете потратить два года на чтение и усвоение моих предисловий. Разумеется, я не стану вам советовать делать такие признания. Ведь, между нами говоря, то, что вы практически вовсе пренебрегли моими предисловиями, сделало вашу книгу значительно привлекательнее. Без них ее легче читать, с ними она стала бы невыносимо длинной. Мне будет гораздо приятнее, если люди будут читать сами предисловия, а не разговоры о них. Более или менее интеллигентные читатели скажут о вашей книге: «Это не настоящая биография. Это сплетни». А вы отвечайте: «Это и есть настоящая биография. Вам нужна шовианская философия? Читайте самого Шоу!» И аплодисменты сорвете и не соврете! Вы должны быть готовы к такому обмену репликами, иначе я бы не стал вам морочить голову.
Ваши враги в печати (если вы нажили себе таковых), конечно, подловят вас на том, что вам неизвестно мое предисловие к «Миллионерше» под названием «О боссах». В противном случае вы не стали бы повторять за другими дурацкого утверждения, будто я на старости лет впал в диктатороманию: я, видите ли, обратил внимание на то, что Петр Великий, Наполеон III и Муссолини захотели и смогли построить Петроград и перестроить Париж и Рим, а наш двухпартийный Парламент не в силах даже перебросить мост через Северн, не то что укротить приливы в Пентлендском заливе, и не гнать нас больше в землю за новым запасом лошадиных сил».
«У меня не сказано, что вы впали в диктатороманию, – ответил я. – Я просто отмечаю, что диктаторы производят на вас большое впечатление, ибо вы предпочитаете деловитых гангстеров придуркам и тряпкам. Я же всегда был убежден, что диктаторы плодят войны и рабство и всей душой ненавидел зтих преступных лунатиков, которых вы и многие, многие другие одобряли – по крайней мере наполовину».
В конце книги у меня шел разговор о коммунизме и фашизме. Этого Шоу не стерпел: «Тот, кто допускает мысль о том, что коммунизм и фашизм – понятия взаимозаменяемые, ничего не смыслит ни в коммунизме, ни в фашизме. Сначала всем капиталистам был удобен принцип laisser-faire: государство с предпринимательством не соприкасается; оно лишь исполняет функции полицейского посредника между трудом и капиталом. Фабианцы открыли всем глаза на то, какие сверх доходные начинания можно реализовать, какой экономии достичь, если препятствующее этому частное предпринимательство подменить государственной помощью. Фабианцы пришли к убеждению, что промышленность должна перейти в собственность государства. Капиталисты ухватились за эту идею, сообразив, что они могут, не расставаясь с собственностью, использовать власть и средства, имеющиеся в распоряжении государства, и неслыханно разбогатеть. Свой план они стали приводить в исполнение. Эта новая, государственно-капиталистическая политика и есть фашизм: социальная упорядоченность – без социализма, общественная инициатива – без коммунизма, «Гамлет» – без самого Гамлета. Крупный англо-американский капитал – это фашистский и, само собой разумеется, антикоммунистический капитал. Поражение Германии и ее переход к фашизму англо-американского типа приведет к тому, что победоносные союзники втравят ее в новую мировую войну – против русского коммунизма. Это можно предотвратить только в одном случае: если лейбористы предпочтут войне с Россией гражданскую войну. Вот тогда-то и обнаружится, что фашизм и коммунизм ведут ни много ни мало смертный бой».
Что на это возразить?.. Я говорил как человек, которому все равно, кто выступает в роли капиталиста: само государство или отдельная личность, пользующаяся поддержкой государства; как человек, который чувствует себя всецело подчиненным некоей организации, как бы она ни называлась – церковь или государство; и за право жить своей жизнью, говорить от своего имени и по-своему служить богу мне нужно бороться. Враждующими верованиями для меня были не коммунизм и фашизм, но индивидуализм и коллективизм, независимость и раболепство, свобода и рабство. Государство было создано ради человека, а не наоборот. И если не превратить государство в слугу человека, оно станет его хозяином; нас учит этому недавняя история. Впрочем, и в самом деле, иные читатели не разберут, что я говорю не о политическом, не об идеологическом содержании терминов, а об их житейском восприятии. «Послушаюсь-ка я вас, – писал я Шоу, – надо все еще пересмотреть» [191]191
В этих рассуждениях автора, датируемых временами фашистского нашествия, нетрудно распознать ужас перед реальной угрозой фашизма, презрение и ненависть к нему и в то же время – смутное теоретическое представление о коммунистическом обществе, существе социалистического гуманизма и путях исторического прогресса.
[Закрыть]. Биография Шоу принесла мне успех и множество положительных рецензий. Как сказал Шоу, «с такой прессой не прогоришь». Он писал мне: «Ваша книга произвела какой-то шовианский фурор. Я получил массу писем от стариков, которым Вы напомнили о былых встречах со мной».
Успех биографии вызвал у многих желание приобрести у меня авторские права на ее экранизацию. Одна фирма обратилась с этой просьбой одновременно ко мне и к Шоу. Шоу решительно дал понять, что сделает все, лишь бы помешать экранизации своей биографии. Я отправился в Эйот-Сент-Лоренс с надеждой его уломать. Но ничто не могло изменить его убеждения в том, что только он один способен воплощать образ Джи-Би-Эс; что те из его современников, кто остался в живых, не переживут зрелища своих кинодвойников; что в этом фильме, по существу, не о чем рассказывать; и, наконец, что его жизнь хотят вышутить, а его учение – обратить в посмешище.
Американские издатели Шоу – Додд Мид и Компания – предложили мне отредактировать несколько томов его переписки. Я спросил совета у Шоу и выслушал следующее: «Успех вашей книги, видно, всех сбил с панталыку. Подавай всем книгу обо мне, картину обо мне, все что угодно обо мне. Скоро эта потребность иссякнет. А с письмами – дело сложное. За свою долгую жизнь я написал невероятно много писем и среди них – ни одного зряшного (и на досуге приходилось работать), так что в каждом есть хотя бы капля смеха и хотя бы капля хорошего чтения. Потому-то, надо думать, их и сохранилось великое множество, хотя они не сразу стали ценными манускриптами. Я никогда не оставлял себе копий, и мои письма разбросаны по всему свету, как оберточная бумага у малвернского маяка после воскресных пикников. Должен сказать, что однажды их уже пытались собрать – нашлись такие умники. Американец Уэллс, знаменитый букинист, который, не задумываясь, швырял тысячами, стал вдруг предлагать бешеные деньги за письма Шоу и, пока они к нему несметными стаями слетались, без устали убеждал меня отредактировать это собрание. В конце концов он устал и пригласил в качестве составителя Эшли Дьюкса. Но Эшли отобрал только театральные письма, сгруппировав их вокруг имени Дженет Эчерч. А мне уже не хотелось ворошить былое и фигурировать в качестве театральной знаменитости, а не художника-философа, да еще без такого напарника, как Эллен Терри. Габриель Уэллс, видно, еще держит при себе эти горы корреспонденции. В случае его кончины, – а он от меня не очень отстанет, я думаю, – письма скова развеются по ветру. Авторское право на них остается за мной и когда-нибудь войдет в настоящую цену.
Все же я настоятельно рекомендую вам сколько можно отлынивать от этой работы, даже понимая, что рано или поздно с ней свяжется кто-нибудь другой. Ведь на это понадобится столько же времени, сколько хватило бы на полдюжины биографий. И потом, имейте в виду прибыли Уэллса и мой куш – что вам-то останется? Я вам не стану помогать, даже если буду жив. На это ушло бы все мое время, а у меня его не осталось на возню с тем, что я разбросал по дороге.
Напишите-ка Додду Миду, что не видите реальной возможности взяться за это дело на тех условиях, которые мог бы вам предложить любой из известных вам издателей. Поэтому вы вынуждены отказаться в пользу какого-нибудь энтузиаста, у которого хватит личных сбережений, чтобы заняться этим бескорыстно».
Я внял его совету. Но совет этот был не последним: «Раз Шекспир и Шоу у вас уже позади, не пора ли взяться за Диккенса? Пока что о нем у нас пишут одни адвокаты дьявола [192]192
Люди, которые в других замечают одни дурные стороны. В средние века «адвокатом дьявола» называли духовное лицо, которое обязывали выступить с возражениями на церемонии канонизации святого в Ватикане.
[Закрыть]: от них жди только козней. Все его знаменитые современники давно уже вымерли. Иные из них – Виктория, Дизраэли – даже попали на экран. Любой выбор, кроме Диккенса, ознаменует ваше падение с высот Шекспира и Джи-Би-Эс!»
Я уже не раз задумывался о биографии Диккенса. Шоу, в свою очередь, уже несколько раз пытался поочередно отговорить меня от биографий: Гилберта и Салливена, самого Шоу, Конан-Дойля и Оскара Уайльда. Теперь он диктовал свой план действий: «А покончите с Диккенсом, можете поразмыслить на свободе об Уолтере Сэвидже Лэндоре. Из его «Воображаемых разговоров» вы поймете, до чего несносны личности, лишенные силы характера, которая отличает Шекспира, Шоу, Скотта и Дюма. И о Ли Ханте не забудьте! С обоими встретитесь в «Холодном доме». Там они Бойторн и Скимпол» [193]193
В этих юмористических персонажах «Холодного дома» Диккенс вывел двух литераторов-современников: Лэндора и Ли Ханта. Замечание Шоу не останется втуне: X. Пирсон достаточно подробно остановится на этом моменте в главе «Дела редакционные и пр.» своей книги о Диккенсе.
[Закрыть].
Я почувствовал, что, если соглашусь на все предложения Шоу, он не остановится перед тем, чтобы присоветовать мне наново переписать «Биографии великих англичан». Пришлось сидеть и помалкивать.
СМЕРТЬ ШАРЛОТТЫ
В последние годы жизни Шоу проводил большую часть времени в Эйоте-Сент-Лоренсе. Лишь изредка он выбирался в Лондон. В эти дни эйотская прислуга отдыхала, а он отдавал себя в руки тех, кто хотел с ним увидеться. Все утро непрерывным потоком к нему шли друзья и знакомые, так что на дела едва хватало времени.
Проблема прислуги мучила его жену в течение всех военных лет. Но еще больше ее тяготила ужасная болезнь. В конце 1942 года Шоу сообщал Рафаэлю Рошу: «Мою беднягу-жену скрутила в бараний рог osteitis deformans [194]194
Костная деформация (латин.)
[Закрыть]. Она ужасно страдает уже три года. Теперь ее болезнь признали неизлечимой. Мы оба глохнем и понемногу дуреем».
На свое собственное здоровье он, к счастью, не мог пожаловаться. Годы были не властны над его деятельной натурой. После большого снегопада в январе все того же 1942 года секретарь Шоу Бланш Пэтч застала его в пять часов вечера в саду без шапки и без пальто. Он счищал с крыльца снег. А весной 45-го, вернувшись из Лондона, она увидела его на садовой лестнице – подстригал дерево. Садовник разъяснил ему, что это дерево на будущий год плодоносить не будет. Тем не менее Шоу хвастался: «Я подрезаю деревья с эстетической целью. Оказывается, подрезать их похвально и с точки зрения садовода».
В конце 1942 года над домом Шоу нависла угроза: чуть было не мобилизовали прислугу. Шоу «построил целую батарею из цифр», чтобы доказать властям государственное значение своей деятельности: «Моя подпись на контрактах принесла Лондону более полутора миллионов долларов». Он терпел убытки и был занят сверхурочным трудом, лишь бы добыть деньги на покрытие национального долга Америке!
Все же главной его заботой оставалось здоровье жены: «Как заставить Шарлотту успокоиться? Беда, что я несведущ в христианской науке врачевания. Жестоко говорить ей, что нам осталось жить, может быть, несколько месяцев и не все ли равно, как мы их протянем? Ну, замерзнем мы, ну, умрем с голоду… Мы свое отжили, пора и честь знать! Разве думать так не жизнерадостно? Только ведь она решит, что меня не трогают ее страдания».
К концу жизни у Шоу вошло в привычку повторять в беседе с одним знакомым то, что он уже написал в письме другому. Например, приведенные выше слова я обнаружил почти без изменений в письме Шоу к леди Астор, которое она мне показала.
Шарлотта становилась все требовательнее. Его день теперь почти целиком зависел от ее самочувствия. В восемь он был уже на ногах и, одевшись, садился к ее постели поговорить. После завтрака работал, а потом обедал с нею вместе. После обеда ложился вздремнуть. «Она всегда взбивает мне подушки – по крайней мере, ей так кажется», – кляузничал он мне. Чай снова пили вдвоем, и он отправлялся погулять, но «должен был пораньше вернуться к ужину, – тогда она видела, что я цел и невредим». За ужином, а потом в гостиной они разговаривали. Ее память и слух заметно сдавали. Многое он был вынужден громко трубить ей по нескольку раз и на следующий день возвращаться к тому, о чем рассказывал накануне. Она отправлялась в постель, а он слушал радио или читал на сон грядущий – до половины одиннадцатого или до одиннадцати.
В конце августа 1943 года у нее начались галлюцинации. Это лето они проводили в Лондоне. Ей казалось, что в ее спальню кто-то забрался и нужно передать домовладельцу, «чтобы он их выдворил». Последующие события я изложу со слов старой приятельницы семьи Шоу Элеоноры О’Коннел, которой довелось услышать от Шоу немало признаний. Она все запоминала до мелочей, а для меня специально записывала.
В тот день Джи-Би-Эс выглядел таким же жизнерадостным, как обычно. Тотчас по приезде к О'Коннел он занялся с Джоном Уордропом каким-то вопросом авторского права. Внезапно он спросил:
– Вы или вы, Элеонора, – не замечаете за мной сегодня ничего нового?
– Новые ботинки? – попытался угадать Уордроп.
– Нет, что вы, им уж, слава богу, лет десять. И на мне вообще нет ничего новее… Я спросил, не заметили ли вы во мне какой-нибудь перемены, потому что сегодня ночью, в половине третьего, я овдовел.
Взволнованные собеседники молчали. Он продолжал: «В пятницу я заметил в Шарлотте перемену. Казалось, тревоги оставили ее. Морщины на лбу разгладились. Боль утихла. После ужина, как обычно, я проводил ее в гостиную. И тут она меня огорошила: «Где ты пропадаешь? Я тебя уже два дня не вижу». Я ответил, что ходил рядом, как привязанный, и она улыбнулась – точь-в-точь, как улыбалась в молодости. Я взглянул на нее и увидел ее такой, какой я ее узнал впервые. И я сказал ей, что к ней вернулась красота, а болезнь уходит. Мы поговорили еще немного. Я очень плохо ее слышал: она говорила бессвязно и понять ее можно было только изредка. Потом она сказала, что ей пора наверх и попросила проводить ее. Я понял: ей кажется, будто мы в Эйоте. В нашей квартире некуда было идти наверх, но я промолчал, и мы направились в ее спальню.
Я ушел от нее чуть раньше обычного, но она как-то не обратила на это внимания. Вчера рано утром меня подняла горничная: Шарлотта лежит на полу у себя в спальне, лоб у нее в крови. Мы подняли ее и уложили в постель. На полу она, по-моему, пролежала недолго, да и царапина была – пустяк. Я тут же распорядился, чтобы к ночи была сиделка. Весь вчерашний день Шарлотта была покойна и ни на что не жаловалась, но болезнь свернула ее в клюку, и сдавленным легким было трудно дышать. Впрочем, она мучилась этим уже много месяцев. Меня снова поразила ее возвратившаяся красота. Такой я ее еще не видел. Радостная, непринужденная улыбка освещала лицо – я сказал ей, что она помолодела. Потом я еще долго говорил что-то, и она как будто совсем успокоилась. Мне кажется, она не знала о приближении конца. Нет, ей думалось, что она выздоравливает – оттого ей было так хорошо. Сегодня в восемь сиделка разбудила меня со словами: «Ваша жена скончалась в половине третьего». Я пошел к ней. У нее было очень молодое лицо. У нас есть ее портрет, он написан, когда ей было года двадцать два, задолго до нашего знакомства. Нас всегда спрашивают, чей это портрет. Никто не верит, что это Шарлотта. А сейчас она опять такая, совсем такая. Меня передернуло. Подобной красоты я просто никогда не видел. Я еще раз зашел к ней, потом еще раз, и еще. Я говорил с ней. Мне даже показалось, будто ее веки дрогнули, когда я что-то ей сказал. Она была до того живая, что я сходил за лупой от микроскопа и поднес лупу к ее губам. Поверить в ее смерть я не мог».
Он был удивлен и взволнован и переменой в ее облике и тем, что все утро неудержимо стремился в ее спальню, чтобы видеть ее и говорить с ней. Немного погодя он вдруг прервал свой рассказ и улыбнулся: «Поверит ли мир, чтобы Шоу, каким его знает театр, так думал, так чувствовал и так поступал?!»
Он еще немного посидел и собрался уезжать. Напоследок Элеонора О’Коннел спросила, не жалеет ли он, что у них не было детей. Он ответил: «Шарлотте это было не по душе. Она была предубеждена против детей. Бывало, я жалел, что не занял в этом вопросе более твердой позиции… По-моему, мне вообще не следовало жениться. Я из другой породы. Но Шарлотта любила духовную жизнь, и хотя сама мало что сделала, была хорошей мне помощницей. На другой женщине я бы не женился… Недавно она попросила меня: если ей придется умереть раньше – пусть ее прах отвезут в Ирландию и развеют над Тремя скалами. Но потом пришла война, Ирландия сразу оказалась далеко, и я обещал хранить ее прах до своей собственной смерти. Я завещаю смешать наш прах. Ее пепел поместят в бронзовую урну, и он будет ждать того дня, когда к нему прибавится мой».
Шоу и Элеонора О’Коннел проходили по Риджентс-парку. Шоу вспоминал: когда он женился, приятель назвал лицо его жены «не лицом, а плюшкой. Представьте себе, так оно и было. Она никогда не фотографировалась. У меня была такая присказка: беги от фотографов во весь дух, но, коли догнали, – улыбайся!» Лицо Шарлотты, так потрясшее Шоу перед ее смертью и тотчас после смерти, оставалось красивым еще сутки. Потом это опять было лицо, знакомое ему по последним годам их жизни.
Он с интересом ожидал кремации. «Но от кремации ничего уж не осталось, – отчитывался он. – Больше не показывают, как сгорает тело, и вся церемония потеряла в наше время всю свою привлекательность». Проститься с Шарлоттой пришли Бланш Пэтч и леди Астор. Орган сыграл Largo из «Ксеркса» Генделя, а потом гимн «Я знаю, жив мой Искупитель!» Под конец Шоу простер руки и стал вполголоса подпевать.
Когда они возвращались на машине в Уайтхолл-Корт, леди Астор предложила ему поехать с нею в Кливден. Он возразил: «Вы хотите, чтобы я пожил в покое? А у вас там будет по крайней мере человек тридцать, по большей части – женщины. Что ни говорите, а сейчас в Англии вряд ли найдешь лучшего жениха, чем я. Нет, посижу дома!»
Назавтра после кремации Джон Уордроп позвонил ему по делу и начал с извинений за неуместное беспокойство. «Да ну вас! – откликнулся Шоу. – Надо жить дальше. Пушки отгрохотали, пора вступать музыке».
20 сентября среди частных объявлений в «Таймс» было опубликовано и такое: «Мистер Бернард Шоу получил несметное множество писем в связи с кончиной его супруги. Он прочел все письма, оказанное внимание для него очень дорого, но ответить каждому свыше его сил. Поэтому он просит своих друзей и друзей жены принять этот общий ответ и заверения в том, что столь легкий конец столь долгой жизни дает ему силы ожидать своей очереди с самым светлым чувством».
Около года после смерти жены он от случая к случаю заговаривал о ней. Элеонора О’Коннел записала эти случайные воспоминания:
«26 сентября 1943 года. Когда мы поженились, я советовал Шарлотте оставить за собой своего поверенного и держать деньги в банке по-прежнему на свое имя. Только я просил специально оговорить в брачном контракте мою супружескую долю – мое приданое. Дело в том, что я тогда зарабатывал всего шесть фунтов в неделю. Я объяснил ей, что, если со мной что-нибудь случится, мне будет неприятно, если моей матери придется клянчить у нее деньги… Она, понятно, согласилась, но очень скоро я обогнал ее, и этот договор потерял смысл, а соответствующая бумага – силу.
16 октября 1943 года. Мне все говорят, что я прекрасно выгляжу. Не очень приятно думать, что причиной тому – чувство облегчения после смерти жены, но, что поделаешь, если это так?!
20 апреля 1944 года (в Эйоте). Если бы вам довелось на себе испытать сорок с лишним годков любви и преданности – ну, вроде как у меня, – вы бы поняли, что такое свобода. Я вкушаю ее первый раз в жизни.
– Вам не надо было жениться, – обронила Элеонора О’Коннел.
– Не надо было. Вы совершенно правы, – отвечал Шоу с чувством, хлопнув себя по коленке.
18 мая 1944 года (в Эйоте). После сорокалетнего брака людей связывает что-то абсолютно нерушимое, что с чувством никак, никак не связано…»
Его спросили, была ли Шарлотта счастлива. Вот что он сказал: «Нет, ей вечно чего-то не хватало, хотя у нее было все, что нужно для счастья. Надо сказать, ей всегда казалось, будто счастье где-то еще – или только что было рядом. Мы снимали прелестный домик в Уокинге. Мне он представлялся во всех отношениях превосходным, но я видел, что ей там не нравится. Потом я узнал, что ей неймется из-за того, что парадное выходит чуть ли не прямо на улицу и к нему ведет не аллея, а узенькая тропинка. Перед самой нашей свадьбой у нее был бурный роман в Италии с Акселем Мунте. Она призналась мне, что сердце ее разбито. Я ответил: «Чепуха! Вовсе твое сердце не разбито!» С этой минуты она, кажется, и прилепилась ко мне. Вначале она была склонна пускать на ветер мои слова, доверяя себе и своему уму, но под конец почти всегда со мной соглашалась…
Люди долго приживаются друг к другу. Ее дневник и несколько ее писем к Томасу Эдуарду Лоренсу открыли мне недавно, сколь многого не знал о ней даже я. Лоренсу она изливала душу. Если бы у нас завелись дети, Шарлотта непременно скандалила бы со мной из-за них, ревновала. Впрочем, она совсем не хотела заводить детей».
Ноябрь 1944 года. На вопрос о том, как выглядела его жена, когда они познакомились, последовал ответ: «Я помню, когда мы попали на первые фабианские летние курсы, на ней был костюм мужского покроя, очень мужеподобный костюм, с белым стоячим воротничком. Я сказал – не прямо ей, но обращаясь к собравшимся, – до чего мне не по душе эта женская мода одеваться по-мужски. Это убивает женское обаяние и делает из женщины посмешище. В тот же вечер она появилась в красивом платье с глубоким вырезом. Сквозь шифон прелестно светилась кожа. В мужских нарядах я ее больше не видал».








