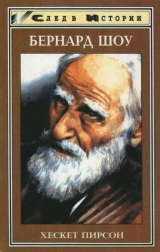
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
Сегодня нам покажется в диковину весь этот переполох, ко своим недоумением мы обязаны прежде всего Шоу, он первым качал борьбу за свободное обсуждение серьезных социальных проблем на подмостках английского театра. Пьесы его были первыми ласточками.
В январе 1902 года «Профессия миссис Уоррен» была поставлена Сценическим обществом. Цензор не располагал правом запрещать частные представления, которые Сценическое общество устраивало для своих членов, но запрет, лежавший ка пьесе, очень беспокоил театральных администраторов, и один за другим они брали назад свое обещание приютить у себя пьесу в воскресный вечер. «Раз за разом переносилось число, менялось место, отпечатанные билеты пропадали, и впавшего в отчаяние и замотавшегося распорядителя Сценического общества стали мучить приступы хохота. С таким же смехом, верно, в старику умирали на дыбе преступники». Трудно было достать сцену для репетиций – денно и нощно репетировали в коридорах и пивнушках. Наконец, в одно из воскресений, пьесу сыграли в Новом лирическом клубе. Театральные критики взбесились, а Шоу радовался: значит – дошло.
«Шаблонные комплименты, расточаемые в газетах удачному фарсу или мелодраме, никогда не вызовут зависти у драматурга, который хоть однажды познал радость раздразнить прессу, посеять в ней моральную панику, вызвать истерическое покаяние в грехах, перетрясти сознание, подавить самую способность отличать произведения искусства от реальной жизни».
Решение цензора заклеймило Шоу «бесцеремонным и богомерзким писателем». Сам же он признавался: за время своей бунтарской деятельности критика «я принял на себя столько ушатов грязи, что лишний мазок лорда-камергера меня не очень печалит. К тому же среди серьезных читателей пьеса весьма укрепила мою репутацию».
Осенью 1905 года, вопреки воле автора, Арнольд Дэйли поставил пьесу в Нью-Йорке. О последствиях этого шага Шоу рассказал в 1909 году на заседании парламентской комиссии, занявшейся вопросом о цензуре: «В Нью-Йор-ке «Профессия миссис Уоррен» подверглась судебному преследованию: управу ка нее кашли очень скоро. Поскольку у нас лорд-камергер запретил ее ставить, в Америке, натурально, создалось впечатление, что это кошмарно неприличная и гнусная пьеса. Американская публика знает, что большинство пьес, допускаемых в наши театры, неприличны до крайности, и когда цензор что-нибудь запрещает, – это должна быть вопиюще непристойная вещь a fortiori [91]91
Тем более, особенно (латин.).
[Закрыть]. Нужды нет, на спектакль огромными толпами повалили нью-йоркские подонки. У входа разыгралось чуть не побоище, билеты перекупались за бешеные деньги. Конечно, явилась полиция, арестовала весь драматический коллектив и препроводила в полицейский участок актеров, актрис, директора и всех, кто подвернулся под руку. Судья заявил, что придется несколько задержать разбирательство дела, ибо сначала он должен прочесть пьесу, причем ясно дал понять, какое отвращение вызывает в нем эта неприятная обязанность. Вот как все было, Разбирательство приостановили, чтобы судья мог ознакомиться с текстом пьесы.
На втором заседании он выказал совершенно явное раздражение, так что невольно думалось, что в пьесе он очень разочаровался. Судья сказал: пьесу он прочел и не нашел в ней решительно ничего такого, что, согласно отзывам, в ней следовало искать.
Защитники пьесы воспрянули духом и подали прошение в Верховный суд по особым делам. Пьесу похвалили: порок выставлен в ней в гораздо менее привлекательном свете, чем во многих пьесах, счастливо избежавших внимания полиции».
А парламентской комиссии Шоу заявил, что аморальные пьесы только и стоит писать. Сам он, например, изо всех сил старается быть аморальным писателем. Слово «аморальный» он употреблял в значении, которого не знала Библия: «Решусь напомнить комиссии, что во всей Библии слов «моральный» и «аморальный» нет и в помине. В пьесах Шекспира их нет тоже, и во времена закона 1843 года, мне кажется, серьезно подозревался в рационализме, а то и в атеизме всякий, кто считал «моральное» и «аморальное» синонимами «праведного» и «греховного»». «Аморальным» Шоу считал все, что спорило с традиционной моралью.
Когда Шоу поведал о мытарствах своей пьесы в Нью-Йорке и привел все доводы в пользу отмены цензуры и передачи муниципалитетам права следить за театральным репертуаром, председатель спросил, а не думает ли Шоу, что и английский суд запретил бы «Профессию миссис Уоррен» к постановке.
– Очень возможно, – ответил драматург. – Пьеса аморальна в корне. Писавшие о ней догадываются об этом только отчасти.
– Вы сейчас употребляете это слово в вашем собственном значении?
– И в вашем, если угодно, ибо в английском языке это единственно верное и классическое употребление.
– Вы хотите сказать…
– Как я уже объяснял, это намеренно аморальная пьеса.
Сегодня мы бы назвали эту пьесу высокоморальной, и Шоу именно это имел в виду, считая ее «аморальной». Критики же под аморальностью понимали что-то совсем другое. Впрочем, какой с них спрос? Они и сами толком не отдавали отчета в своих словах.
До сего времени Шоу творил пьесы, откликаясь на внешние толчки, исходившие от Арчера и Грейна, от Независимого театра и Сценического общества, от Дженет Эчерч и Беатрисы Уэбб. Эти пьесы не метили на коммерческий успех, они не принесли автору ни гроша, лишь прибавив к его скандальной известности рецензента скандальную славу драматурга. Публика и критики единодушно решили: непристойные пьесы, и поскольку Шсу вполне резонно ожидал именно такого отношения, то и назвал свои детища: «Пьесы неприятные».
Но теперь поступил с другой стороны толчок: надо было написать пьесы для коммерческих театров, и такие, чтобы они продержались положенный срок, а еще лучше – сверх положенного срока. Нужны, значит, хорошие роли для популярных актеров и актрис; нужно понравиться театральным директорам, которых больше занимала мысль, как расположить к себе общество, а не стремление его перестроить. И Шоу стал подвизаться в комедии – в комедии антиромантической, разумеется; но в ней был смех, а это главное, ибо «только смех беззлобно казнит дурное и укрепляет добрые отношения, не распуская слюней».
Первой из этих «приятных пьес» была «Оружие и человек» (1894) [92]92
В России пьеса идет обычно под названием «Шоколадный солдатик».
[Закрыть]. Шоу дописывал ее в спешке. Мисс Анни Элизабет Фредерика Хорнимен, впоследствии снискавшая известность работой в манчестерском «Театре Веселья», арендовала на весь сезон лондонский театр «Авеню». Официально директрисой здесь была приятельница Шоу Флоренс Фарр. Первый спектакль мисс Хорнимен провалился, других пьес у Флоренс не было, и она предложила воскресить постановку «Дома вдовца». Но Шоу уже начал писать для нее совсем новую пьесу, которую и закончил с величайшей поспешностью.
Скоренько прогнали несколько репетиций. В пьесе актеры совершенно не разобрались и на премьере, состоявшейся 21 апреля 1894 года, играли с озабоченной серьезностью. Наградой им был безумный успех. Публика помирала со смеху решительно над всем. К несчастью, хохот в зале убедил актеров, что странная эта пьеса – не что иное, как фарс, и в угоду публике они впредь играли ее, как клоуны.
Успех на премьере был первым и последним. Шоу внимательнейшим образом подготовил все смешные положения, но для реализации их требовалось одно условие: актеры должны играть просто и серьезно. Стоило превратить пьесу в комический спектакль, как она теряла всякий смысл.
Была на первом представлении и накладка. У Бернарда Гаулда, прославившегося впоследствии в «Панче» под именем Бернарда Партриджа, шла реплика о болгарской армии; он оговорился и сказанное отнес к британской армии. Здесь лопнуло терпение у сидевшего на галерке Голдинга Брайта – тогда еще никому не известного юноши; Голдинг засвистел. Когда под гром аплодисментов Шоу выходил раскланиваться, молодой Брайт показал себя героем, в полном одиночестве посылая протестующие вопли. В совершенстве постигнув искусство уличного говоруна, Шоу выждал паузу и ввернул: «Я с вами полностью согласен, мой друг, только что же мы сделаем вдвоем с полным залом наших противников?»
Это был типичный образец митингового остроумия, то есть до крайности бессовестная передержка. Слова эти, однако, оказались пророческими. Вопреки сумасшедшему успеху премьеры, пьеса не удержалась. Она со скрипом протянула месяца три, и одному немцу, искавшему пьесы для своего берлинского театра, Шоу признавался, что «были только два удачных спектакля, когда общая выручка еще могла окупить стоимость занавеса; зато в двух других случаях доходы составили лишь четырнадцать фунтов – это на троицу и в день забастовки извозчиков». В общем при среднем раскладе получалось по 17 фунтов на спектакль.
Уильям Арчер считал, что пьеса так же смешна, как «Тетка Чарлея» [93]93
Пьеса Брендана Томаса (1892).
[Закрыть]. И напротив, Эдуард VII, тогда еще принц Уэльский, поинтересовавшись, кто автор, и услышав ничего ему не говорившее имя, совершенно серьезно заключил: «Он наверняка сумасшедший».
Сам Шоу к пьесе относился по-разному. Перечитывая ее в конце 1904 года, он «был поражен: какие неувязки, натяжки, сколько мусора!.. Никакого сравнения с моими позднейшими пьесами; разве что очень хорошая труппа может ее выручить». Однако в 1927 году по поводу «Оружия и человека» он высказал Альфреду Сетро следующее: «Только после войны ей было суждено иметь настоящий успех. Лондонские театралы понюхали пороха и разобрались, что пьеса моя – классическая комедия, а не опера-буфф без музыки».
Ни финансовый провал, ни косность публики и критиков не обескуражили Шоу: он сел за новую пьесу. Закончив «Кандиду», он в начале декабря 1894 года уезжает в Фолкстоун и из отеля «Вест Клифф» изливает душу собрату по ремеслу Генри Артуру Джонсу:
«За массовую публику предстоит нелегкая борьба, но пьесы мои все же будут ставиться наперекор экономическим соображениям: может, решат, что роли у меня хороши, жалко отказываться; может, Пинеро не поспеет в срок с заказанной пьесой, или я откажусь от аванса, или кассовый интерес вдруг наскучит дирекции.
Вы, конечно, уже догадались, что я считаю себя гением. А что остается делать? Кем прикажете быть, коли я и впредь собираюсь писать пьесы? Сейчас удивлю Вас еще больше: публика и через двадцать лет останется все такой же, но в моих пьесах увидит чувство и правду там, где сейчас видит сатиру и состязание в остроумии… Поэтому я совершенно уверен, что рано или поздно чудо сбудется, если моя работа действительно хороша (а я бы давно на нее плюнул, если бы не был в этом уверен); разбогатею я после этого или останусь без гроша в кармане – это уже несущественно…
…Мною движет страсть к полной самоотдаче – таковы все художники. Надо жить во всю мочь, широко зачерпывая разнообразного бытия. Как драматург я уже замечаю за собой способность одним разом проникать в суть там, где литературные мужи только умеют разводить пошлости…
Вот какие дела, Генри Артур Джонс! Теперь Вы понимаете, что Вам придется иметь дело с человеком, которому в привычку считать себя одним из гениев всех времен? Впрочем, и Вы думаете о себе то же самое, не правда ли? Если мы ошибаемся, то нам придется плохо. Но не будем делать очевидную ошибку и считать себя заурядными людьми – с искрой таланта, разумеется».
Находились заботливые доброжелатели, бравшиеся указать ему, как лучше применить к делу эту самую искру. Одному из них Шоу писал: «Как понять Ваш совет – писать с оглядкой на театральную кассу? Как пишу – так и буду писать еще десять лет, а там приглашаю поваляться в золоте, которое свалит к нашим ногам преображенная публика».
Но трудно было даже просто пробиться к публике: «не преображенный» зритель нес свои деньги на пьесы Джонса и Пинеро, и это вполне устраивало знаменитых актеров. Прослушав «Кандиду», Чарлз Уиндхем пролил слезу над последней сценой, а осушив глаза, заявил автору, что пьеса поспешила родиться на двадцать пять лет раньше своего срока. Джордж Александер признался, что ему по душе роль поэта, только надо сделать героя слепым, чтобы сразу пробудить к нему сочувствие.
Может статься, актеров немного озадачивало, как работал наш драматург и насколько странным образом он выносил свои пьесы на обсуждение. Одетый весьма своеобразно, внешностью – викинг, Шоу заявился однажды утром к Уиндхему читать «Кандиду». Усевшись за стол, он запустил руку в карман брюк и вытащил маленький блокнот; другой рукой выудил блокнот из кармана пиджака; из другого кармана вытянул третий блокнот; откуда-то полезли еще и еще блокноты, пока наконец Уиндхем не заинтересовался: это фокус такой, что ли? Шоу отвечал: «Похоже, мои записные книжечки вас удивили? Я, видите ли, пишу свои пьесы в основном на империале автобуса». (Мог бы, кстати, добавить, что кроме империала работает над пьесами в метро. Это объяснит нам, вероятно, почему в ранних пьесах Шоу все герои объясняются, как бы повысив голос.)
Огромная заслуга Шоу перед театром выявилась впервые как раз в «Кандиде». Он был и остается единственным драматургом, которому удалось выразить в драматической форме религиозный темперамент. Только такого рода темперамент и был близок Шоу, и Шоу его постиг в совершенстве.
Я не рассчитывал, что на этот предмет Шоу полностью согласится со мной. Мое заявление, как водится, было принято в штыки: «Драматизация религиозного персонажа была мне не в тягость: ведь я водил дружбу со всеми знаменитыми христианскими социалистами – от крайне правого Стопфорда Брука до лезых Стюарта Хедлэма и Сарсона. Модные драмоделы, конечно, и не ведали, что есть такие звери; а и знали бы – не поняли. Мне был с руки любой темперамент: религиозный, поэтический, художественный, ученый. Любой из них я мог показать на сцене с таким же успехом, как тещу или зеленщика. Словом, я обретался в мире, неведомом для актеров, драматургов и тогдашней ограниченной публики: публику мне предстояло создать, создавая пьесы».
Шекспиру – тому был открыт любой душевный строй, кроме религиозного. Вот тут и лежит основное различие этих двух драматургов. Автор «Кандиды» верно понял, что наконец-то он схватил самую суть своего гения. «Я не позволял другим читать ее – всегда сам. И ревели же они – за три улицы слышно», – сообщал он Эллен Терри. «Скажу по секрету, – доверялся Шоу, – Кандида – это Пречистая Дева. Богородица». Он хотел, чтобы ее сыграла Эллен – у нее было одно сердце с героиней, но Эллен все не могла развязаться с Ирвингом, и Шоу пообещал роль Дженет Эчерч.
После долгих уговоров он-таки решился на время расстаться с пьесой и послал ее Эллен. Та отвечала, что все глаза выплакала над этой божественной пьесой, и умоляла написать для нее пьесу «с богородицей». «Я уже написал ее, это «Кандида», – отвечал Шоу. – А повторить шедевр не сумею».
Друзья не все полюбили «Кандиду». Миссис Уэбб, например, считала героиню «сентиментальной проституткой»; однако большинство сходилось на том, что это лучшая его пьеса. Постоянные разговоры на эту тему стали его раздражать, «кандидомания» надоела – пьесу переоценили, решил он, и «особенно это ясно рядом с моей новой работой». (Речь идет уже об «Ученике дьявола», который на поверку оказался едва ли не обыкновенной мелодрамой. Вот ведь как бывает с писателями: свою последнюю работу они обязательно считают лучшей.)
Весной 1897 года «Кандида» была впервые показана Независимым театром во время гастролей по провинции; на будущий год театр опять повез ее в гастрольную поездку. В Лондоне пьеса была поставлена силами Сценического общества в театре «Стрэнд», в воскресный день 1 июля 1900 года. Дженет Эчерч была бессменной исполнительницей главной роли. В двух лондонских спектаклях открыл свой шовианский репертуар
Грэнвилл-Баркер. «Я не представлял себе, где отыскать актера, который понял бы моего Марчбэнка, – рассказывал мне Шоу. – Забегаю как-то на утреннее представление «Праздника примирения» Гауптмана – и сразу вижу: вон тот парень мне подойдет. Спешу поделиться своим радостным открытием с Дженет Эчерч и ее супругом. Они пишут, что уже несколько раз мне подсказывали взять Баркера на роль поэта».
Лондонцы приняли «Кандиду» восторженно. Шоу сказал речь. Он поздравил публику: она на девятнадцать лет опережает свое время, ибо шесть лет назад Чарльз Уиндхем заверял его, что «Кандида» написана на двадцать пять лет раньше срока.
Осенью 1895 года Шоу написал «Избранника судьбы». Наполеон был списан с Ричарда Мэнсфилда – тогда это был ведущий актер в Нью-Йорке. Шоу видел его в «Ричарде III» и целый час с ним беседовал. Эллен Терри, как мы уже знаем, стала в этой пьесе Незнакомкой. Мэнсфилд не без удовольствия воображал себя Наполеоном, каким рисуют императора легенды, и в Наполеоне, сочиненном Шоу, себя не узнал. Он вернул пьесу автору с лаконичной отпиской. Шоу ответил: «Ваш презрительный отказ от «Избранника судьбы» меня глубоко огорчил, к не потому, что я отношу эту вещь к своим шедеврам, но потому, что Наполеон в пьесе – это сам Ричард Мэнсфилд. Благодаря Вам я понял этот характер, а занявшись потом уже самим Наполеоном, убедился, что понял его правильно». Мэнсфилд, однако, не думал, что Шоу «понял его правильно», и переговоры окончились ничем. Эллен Терри не уломала Ирвинга поставить пьесу, и свет рампы перед ней зажег Меррей Карсон – в театре «Гранд» в Кройдоне 1 июля 1897 года. Шоу был на премьере – «мучительное событие для автора, но для критика чрезвычайно интересное». Постановка была ужасающей, сам автор «улыбнулся только два раза. В первый раз – когда в виноградник забрел шальной котенок – пушистый, с разбойной внешностью – и трактирщик погнал его прочь. В другой раз котенок взял реванш, неожиданно объявился перед Наполеоном, расправляющимся с одной из своих «маренговых» [94]94
У деревни Маренго (Северная Италия) 14 июня 1800 г. Наполеон разбил австрийскую армию.
[Закрыть]ситуации, и во все глаза уставился на него: с кошачьей точки зрения человек вел себя очень странно».
Неудача постигла и следующую работу: «Поживем – увидим!». Шоу начал пьесу в 1895 году и в апреле следующего года, очевидно, еще работал над ней, ибо писал Эллен Терри из Олдбери в Тринге: «В моей новой пьесе жизнь и искусство сходятся, как нож с точилом, – только искры летят». А вскоре он, вероятно, ее закончил – в июне Джордж Александер ему напишет: «Пьесу я прочел и – хоть убейте – ничего в ней не понял».
Сирил Мод готовился принять руководство театром «Хэймаркет» и собирался поставить «Кандиду». Прослышав об этом, Шоу обещал приготовить для «Хэймаркета» что-нибудь более подходящее. Он не пожалел летнего времени и несколько недель просидел в Риджентс-парке и в Саффолке, перемарывая пьесу, – очень старался, чтобы смысл ее понял ведущий актер театра. Усилия, надо полагать, были затрачены не напрасно: 8 сентября Шоу отмечает, что новая дирекция «решилась-таки лезть в мою петлю». Миссис Сирил Мод (она же Уинифред Эмери) отказалась от главной роли (Глории), взяв себе роль Долли: «Красиво великодушничает, – решил Шоу, – а на самом деле не поняла и не хочет понять мою Глорию». Шоу был уверен, что Уинифред переменит свое решение, и на читке пьесы 9 апреля 1897 года так превосходно показал первый монолог Глории (Уинифред раздражало, какая Глория молчунья), что еще до окончания первого действия актриса написала на листочке «Буду играть Глорию» и передала записку мужу. Еще двух актеров проняла эта читка. «Превозмогая усталость и отвращение», встал и вышел вон в конце второго действия Джек Барнс, в тот же день отказавшийся от роли. А Фанни Колмен забраковала свою роль на том основании, что «она ничуть не смешна, хоть и все время торчишь на сцене». Роли взяли Сидней Валентайн и Кейт Бишон, но и их хватило ненадолго.
Читка продолжалась два часа сорок минут, и Шоу решил: «Придется подпортить пьесу, чтобы сделать ее съедобной». Он передал текст Моду: пусть кромсает, как хочет. Но Мод не нашел в себе мужества выбросить хотя бы букву. Тогда Шоу под протестующие возгласы Мода безжалостно отсек последний акт. После этого большинство исполнителей, конечно, вовсе перестали понимать пьесу и свои роли, и уже на первой репетиции Шоу поставил на них крест. «Сегодня репетировали первый акт, – писал он 12 апреля. – О если бы они совсем отказались Играть! Все хорошо, пока они молчат, а раскроют рот – боже мой, что делается! И не знают, бедняги, какие муки я им готовлю. Вот подожду еще, и помаленьку-полегоньку начну им трепать нервы». Начал он действительно помаленьку, и через четыре дня стали выявляться результаты: «В «Хэймаркете» не на что смотреть, злосчастная труппа разыгрывает пьесу где-то в тайных убежищах души. Сижу и пялю на них глаза. Потом срываюсь с места. Усаживаюсь опять – нужны адское терпение, ангельская выдержка! За день успеваю пройти по реплике на актера, ибо мое вмешательство, состоящее в том, что я просто показываю, как нужно сказать то-то и то-то (один бог ведает, что они при этом обо мне думают), минут на пять выводит их из строя и уже не только выбивает из роли, но лишает всякой способности осмысленно действовать. Мы все еще топчемся на суматошливо-смешных сценах, а где-то впереди и серьезные отрывки с Глорией и прочее. Покуда я понял одно: Мод и Брендан Томас сыграют хорошо, хотя, может статься, совсем не то, что надо».
Как-то на репетиции он предложил вынести на сцену большой стол. Мод поинтересовался, зачем. Затем, объяснил Шоу, что актеры будут на него натыкаться и научатся, как надо входить в настоящую комнату; а то ведь лезут все к рампе, словно им куплеты петь с оркестром. Мод выбрал себе роль Официанта, хотя Шоу советовал ему взять молодого героя: пожилые успеют надоесть в старости. Благодаря этому совету Мод будет иметь сказочный успех, сыграв первого любовника в «Маленьком священнике» Барри.
Если верить Шоу, окончательная деморализация труппы произошла в день, когда он пожаловал в театр в новом костюме. До этого Шоу являлся на репетиции «в костюме, который давно бы бросил даже очень мало уважающий себя плотник». А тут, «предвкушая солидный доход» от «Поживем – увидим!», вырядился так, что, завидев его, передернулся бы от зависти сам Тальма.
Прорепетировав две недели, Шоу забрал пьесу. Только такое самопожертвование автора, объяснил он дирекции, спасет театр от гибели и позора. На отношениях Шоу и Мода этот разрыв не сказался, и, когда последний открывал в 1907 году театр «Плейхауз», Шоу написал для Мода и его жены «Интерлюдию». Сынишка Мода сидел на авторском чтении, и слова мальчугана, обращенные к отцу, показывают, что дети разбирались во всем лучше «стариков»: «Слушай, пусть этот дядя пишет для тебя пьесы».
«Поживем – увидим!» очень скоро наскучила Шоу. Уже в сентябре 1897 года была очевидна его неудовлетворенность пьесой: «Прочтут ли ее? Просто не нахожу себе покоя. Надо будет отыграться в предисловии: вот, мол, что получается, когда берешься писать для theatre de nos jours» [95]95
Театр наших дней (франц).
[Закрыть]. Впервые пьесу показало Сценическое общество 24 ноября 1899 года в помещении театра «Роялти». В роли Официанта выступил Джеймс Уэлч. В мае 1900 года пьеса две недели игралась на утренних представлениях в театре «Стрэнд». Публика была в восторге, а Уильям Арчер обозвал пьесу «пустым и нескладным фарсом».
Шоу признавался: «Механика пьесы, ее комические положения, самая ее популярность вгоняют меня в краску. В «Лицеуме» пьеса имела бы потрясающий успех, сыграй Ирвинг Официанта».
Через пять лет это будет самая доходная пьеса у Ведренна и Баркера и у «Актеров Макдона».
Сразу же после окончания «Поживем – увидим!» Шоу начал работать над пьесой совсем иного рода. В начале 1896 года лучший наш мелодраматический актер Уильям Террис попросил Шоу побаловать чем-нибудь завсегдатаев театра «Адельфи», стекавшихся каждый Еечер похлопать душке-герою Террису, душке-героине Джесси Миллуорд и душке-комику Генри Никколсу. Террис, писал Шоу, «не пытался взять меня лестью, а просто показал банковскую книжку, где были записаны авторские гонорары от мелодрамы, которая шла тогда в «Адельфи». Ручаюсь, он и не подозревал, что как драматург я обрел в его лице великолепного подрядчика и, следовательно, в высшей степени творческий стимул писать для его театра. Напрасно только он так долго размышлял, можно ли втянуть в «Адельфи» за карман человека большой учености; ведь за карман держатся и существа высшего порядка».
Купив нашего социалиста щедрыми посулами, довольный Террис поспешил сколотить сюжет пьесы, как некогда это сделал Арчер: «Террису нужна была главная роль для гастрольной поездки вокруг света. Он предложил мне вдвоем написать пьесу на его сюжет. В этом сюжете сплелись в одно все мелодрамы, которые он переиграл за свою жизнь. В конце каждого акта героя предавал прекрасный дьявол (злодейка), и его уводили в каторжные работы. Но уже в следующем акте он был тут как тут, не потрудившись даже объяснить счастливую перемену в своей судьбе. Я объяснил ему, что такое пройдет в «Адельфи», но в заморских городах есть свои Террисы и с него спросят не мелодраму, а эдакого Гамлета. Он швырнул сюжет в огонь (у него в столе оставалось еще несколько отпечатанных экземпляров) и заявил: «Ваша правда, мистер Шоу!»
В конце марта Шоу уже всерьез раздумывал, что написать для Терриса. «Хорошую мелодраму, – размышляет он, – написать куда труднее, чем искуснейшую комедию. Тут нужно лезть в святая святых человеческого сердца, и, если материал хорош – получайте тогда Лира или Макбета».
За работу он сел в сентябре 1896 года. Надеясь выставить его портрет в Королевском обществе портретистов, молодая художница Нелли Хит упросила его позировать: ее «невероятно захватили красные уши Шоу и рыжие волосы, которые на лбу лежали двумя сатанинскими прядями». Пока с него писали портрет, он написал почти всего «Ученика дьявола».
«Пьеса продвигается, – записывал он 15 октября. – Прелесть, какая мелодрама! Я посиживаю на краешке стола в каморке недалеко от Юстон-роуд, передо мной водружен мольберт, – пишу и позирую одновременно. Уж раз усадили – сиди и работай. За портрет художница запросила самую высокую плату (как с миллионеров) – пять фунтов; если его выставят, она разбогатеет. Обычно я не допускаю, чтобы мною так вот помыкали, но эта девушка приручила меня почему-то очень легко. Наверно, я дурень, что поддался, но уж постараюсь извлечь пользу из этих посиделок – хоть поработаю над пьесой. А девушка славная; считает, что из всех стариков-натурщиков я самый интересный и самый знаменитый».
Поначалу он замыслил драму мрачную, угрюмую, страшную и жестокую, но потом побоялся, что, несмотря на искренние попытки создать драматический эффект, может выйти «чудовищная смесь фарсовых нелепостей, от которой помрет со смеху даже видавшая виды публика». 30 ноября он возвестил: «Сегодня кончил пьесу… Три действия, шесть картин – шедевр, и все за какие-то несколько недель, включая сюда и поездку в Париж [96]96
Шоу ездил посмотреть «Пер Гюнта» в постановке Люнье-По, о которой напишет рецензию. (Прим. автора).
[Закрыть]и статьи об Ибсене».
Конечно, с пьесой еще предстояло повозиться: сделать ее сценичной, перечитать историю американской войны за независимость, выверить исторические события, поставить некоторые даты. Но Террису он уже мог написать, что обещание свое сдержал – есть «сильная вещь» с очень выигрышной ролью для любимца «Адельфи». То, что произошло потом, Шоу изобразил в своем письме ко мне следующим образом: «Я читал ему «Ученика дьявола» на квартире у Джесси Миллуорд. Он в полной растерянности прослушал почти весь первый акт и остановил меня вопросом: «Простите, что перебиваю. Это все происходит в комнате?» (Обычно мелодрамы начинались на деревенской лужайке.) Я отвечал, что в комнате. «Ага, – сказал он. – Теперь понимаю. Продолжайте. Ничего, что я вас перебиваю?» Читаю дальше. Уже страницы две из второго акта прочел, как вдруг он спрашивает, а на лице – отчаяние: «Простите, я вас опять перебью. Это тоже происходит в комнате?» «Именно там», – говорю. Он заявил, что теперь я его совершенно успокоил, что лучше лишний раз спросить и что можно гнать дальше. Гоню дальше. Отбарабанил еще минуты две, и тут он впал в такую прострацию, что пришлось с помощью Джесси волочить его в соседнюю комнату и там отхаживать крепким чаем, пока он не пришел в чувство и не застыдился своей немощи перед высокой драмой.
В дальнейшем мы уже не заводили общих дел, но однажды он узнал, что Ричард Мэнсфилд покорил-таки Нью-Йорк, с невероятным успехом сыграв в мелодраме, и эта мелодрама называлась «Ученик дьявола». Он тотчас пригласил меня на деловой разговор. Но пока суд да дело, какой-то псих заколол его у служебного входа «Адельфи», и храм мелодрамы закончил свое существование вместе с ним…
«Ученик дьявола» сложился вокруг сцены ареста Дика, которую я уже давно приберегал для какой-нибудь пьесы. Миссис Даджен – вариация на тему диккенсовской миссис Кленнэм» [97]97
Персонаж романа «Крошка Доррит».
[Закрыть].
Королевское общество портретистов отвергло работу Нелли Хит, а познакомившиеся с пьесой Шоу актеры не поняли ее – обычная уже история. Первая ее постановка в Англии состоялась 26 сентября 1899 года в Театре Принцессы Уэльской (Кеннингтон). В главной роли выступил Меррей Карсон. Он наслушался советов одного критика – дайте больше действия! – и загубил весь смысл пьесы. «Куда я смотрел? – писал в свое оправдание автор. – Я в это время болтался по улицам Константинополя и о проказах Карсона ничего не знал. А вернулся – было уже поздно. Близкое знакомство с актером и с его советчиком не позволило мне проклясть их обоих. Дать им публичное отпущение грехов тоже как-то не представлялось случая. Вообще говоря, они желали мне добра. Только вот что: если они когда-нибудь напишут пьесу, зовите меня – уж я им ее растолкую как нужно».
Роль Дика Даджена понравилась Джонстону Форбс-Робертсону, но… «лучше бы Шоу сделал третий акт поделикатнее». Примерно через два года он выскажется за постановку этой пьесы… если в последнем акте Шоу покажет победу англичан. «Я отправил его не солоно хлебавши», – рассказывал Шоу. Форбс-Робертсону такое пришлось не по вкусу, и он сам насолил Шоу – пьесу он берет, но репетирует пусть автор. «Замучила работа – и все по милости коварного Форбс-Робертсона. Обычно из-за дурного моего характера на репетициях обходятся без меня, но Форбс вежливо упросил, чтобы я направил первые репетиции и закрепил за актерами их поведение на сцене; ну и, само собой, на мне была читка. Понятно, работа идет как по маслу: на каждой репетиции берем один акт и прокатываем его дважды. Идем без запинки, и уже через два часа можно расходиться на обед, обменявшись замечаниями ка тот предмет, что пьеса, между прочим, совсем простая. Они думают, что если за один присест я готовлю с ними всего один акт, – это для меня не работа: ведь я по шестнадцати часов выдерживаю в приходском управлении, в Фабианском обществе, вожусь с американскими и английскими издателями – да тысяча дел! Такова жизнь – моя жизнь. Вот ведь что худо: я понял, что из всей труппы умеют играть только двое. Разумеется, я передал им маленькие роли – комическую и характерную (сержант и слабоумный брат): о таких ролях следует позаботиться прежде всего, ибо роли серьезные и вызывающие сочувствие публики сыграются сами собой после недолгого натаскивания. Но что должен чувствовать опытный и старый мастер, если он хочет и может сыграть большую роль, а автор отдал эту роль тупице и размазне? Ему же (о мастере речь) предлагают паясничать! Меня совесть поедом ест, как встречу взгляд Гардена. Во искупление меня подмывает написать специально для него пролог». В сентябре 1900 года пьесу показали в театре «Коронет» (Ноттинг Хилл, Западный Лондон), а затем с умеренным успехом провезли по провинции.








