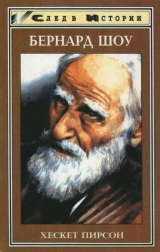
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
Я рассказал о том, что со мной стряслось, леди Коулфэкс, которая была на памятном заседании. «Ну чему же тут удивляться?!» – сказала она. Она, оказывается, наблюдала за миссис Баркер, которая сидела на сцене у меня за самой спиной и слушала мое выступление, чуть не выскочив из кресла. Ее лицо и тело напряглись от гнева. Не было никакого сомнения, что она околдовала меня. Узнав об этом, я уже не стал искать иного объяснения.
Мои отношения с Баркером были прерваны до той поры, когда Лилла выступила со своими мемуарами и попросила меня предпослать им несколько строк. Конечно же, я послал свое предисловие Баркеру, и тот вдруг объявился у меня, словно все это время отсиживался где-то неподалеку. У нас были Уэббы, и Баркер чувствовал себя неловко. Он попросил переговорить со мной полслова наедине. Оставшись со мной вдвоем, он сказал: «Я не думал, что окажусь здесь когда-нибудь еще…» и стал грозить судебным преследованием в случае публикации книги Лиллы. Я сказал, что ему не следует этого делать, поскольку я не обнаружил в книге ни единого предосудительного отзыва о нем. Мне пришлось предупредить его, что любая акция с его стороны только всколыхнет массу грязи, и я наотрез отказался советовать мужу Лиллы забрать книгу из печати.
Прощаясь, он удостоил меня улыбкой. Он понял, что исчерпал свои ресурсы и попытался закончить дело миром. Минут через двадцать (уже отъехав на машине на порядочное расстояние) он возвратился и шумно распрощался с моей женой. Узнав о баркеровских хлопотах, Кибл опустил в книге Лиллы все упоминания о ее бывшем супруге, что должно было немало раздражить Баркеров, когда книга попала к ним в руки.
После смерти Баркера я передал Британскому музею все бумаги и рукописи его пьес, оставшиеся у меня. Я бы не осмелился сказать, что разрыв отношений между нами, последовавший за его женитьбой, был вызван взаимным отчуждением. В 1943 году я известил его о смерти моей жены – их связывала нежная дружба. Его отклик на это известие был выдержан в тоне наших прежних отношений. Габриель Паскаль призывал его вернуться на подмостки и сыграть Инквизитора в задуманной экранизации «Святой Иоанны». Некоторое время он тешил себя этим планом, пока неодобрение жены не положило конец его отношениям с Паскалем. Я всегда уважал право миссис Грэнвилл-Баркер иа место в кругу его друзей и, как ни печалила меня ее антипатия ко мне, ни разу в жизни не сделал ей ничего дурного Насколько мне известно, ее полное над ним господство так ничто и не смогло поколебать».
Познакомившись с записью всего, что он мне рассказал, Шоу отложил листки в сторону со словами:
– Как Босуэлл, вы заслуживаете высшего балла. Кстати, вам, может быть, будет интересно узнать, что я только что получил известие от Арчибальда Гендерсона о том, что он собирается с силами для нового издания своего монументального труда обо мне. Я посоветовал ему не слишком с этим торопиться, поскольку спрос на вашу биографию еще далеко не прошел и практически она доведена до сегодняшнего дня. И еще я сказал ему, что он, может статься, превзойдет вас как критик, но как биограф – никогда!
– Благодарю, но чем же я плох как критик?
– О господи! – воскликнул Шоу. – Вы что же – хотите быть безгрешным? Выходит, ни Юлий, ни Бенито, ни Адольф вас ничемушеньки не научили?
– «Удар, отчетливый удар!» Да, я совсем было позабыл ваш пример.
– Какой еще пример?
– Когда вам того угодно, вы действуете по принципу: нет лучше саморекламы, чем самобичевание.
– «Задет, задет, я признаю» [212]212
«Гамлет». Перевод М. Лозинского.
[Закрыть], – засмеялся он. – Ну вот мы уже оба по колено в «Гамлете».
Я спросил Шоу, испытывает ли он когда-либо одиночество. Он отвечал: «Одиночество? Да где там! Мне бы немного побыть одному. У нас ведь как в редакции большой газеты накануне большой войны. Телефонный звонок верещит без умолку, дверной звонок зудит свое, дверной молоток грохочет не переставая, и толпы народа то осаждают входную дверь, то облепляют все деревья в саду, чтобы заснять меня и мою ковыляющую походку. По сравнению со всем этим жизнь посредине Пикадилли сошла бы за монастырь… Но пусть мне и не дано вкусить одиночества, после смерти жены я стал сам себе хозяин. Я нахожу в этом успокоение. Она так оберегала мой покой, что я едва-едва выкраивал минутку для самого себя. Я, конечно, хватил через край; однако вы сумеете оценить по достоинству ее заботу, если я скажу, что во время одной из моих болезней она, сама будучи больной, поднялась с постели и уселась возле моей спальни, поджидая доктора, чтобы получить самые последние известия из самого достоверного источника. Последние несколько лет я ежевечерне по ее просьбе распевал арии и романсы и не смел лечь в постель позже одиннадцати. С тех пор как она умерла, я не притрагивался к фортепиано и не ложился раньше полуночи. Мне пришлось возить ее по всей Англии, и по всей Европе, и объехать весь земной шар, хотя все мое естество жаждет укорениться на месте, как дерево. С тех пор как ее нет, моими самыми отдаленными путешествиями стали поездки из Эйота в Лондон и обратно.
А как она ненавидела карикатуры на меня! (Я, впрочем, тоже не большой их любитель.) У нас дома не осталось ни одного шаржа. Макс Вирбом как-то здорово изобразил меня в таком виде, словно я дернул стакан-другой. Она купила рисунок на выставке и на глазах автора разорвала его на мелкие кусочки. Она, в общем, была плаксой и нередко заливала меня слезами с ног до головы. Но я к этому привык, осознав, что мой святой супружеский долг – время от времени давать ей повод выплакаться».
Все это бесспорно было нелегким испытанием, но Шоу не раз брал свое, включая, например, радио, которое его супруга не переносила. Жена вставала из кресла и выходила; тогда он выключал приемник и принимался за книгу.
Бланш Пэтч рассказывала мне об одном уикэнде, проведенном ею в Эйоте в августе 1947 года. В продолжение всего обеда радио, помещавшееся как раз за нею, не замолкало. Сидевшие за столом не могли друг друга расслышать. Минут через двадцать Шоу спросил: «Кого-нибудь тут это интересует?» Передавали результаты состязаний в крикет. Но как раз в этот момент перешли к парламентским новостям, интересовавшим по крайней мере его, – и шум стоял до самого конца обеда.
В другой раз она узнала о том, что хотя от него этого меньше всего требовали, он вносил еженедельный взнос, введенный новой системой медицинского обслуживания, – ибо он был «принципиальным социалистом».
За день или два до того, как ему исполнилось девяносто два года, Шоу начал писать новую пьесу и уведомил меня в ответ на очередной залп моих вопросов, что переживает сейчас «вторую волну своего второго детства». На открытке значилась дата – 26 июля – и он пожелал почему-то мне еще сто раз праздновать его день рождения, так что я даже подумал, не отбила ли ему память эта «вторая волна».
Театр «Артс» подготовил к этому дню клубный спектакль «Горько, но правда». Эсме Перси, автор этой выдающейся постановки, попросил меня представить пьесу публике. Я написал в программе: «Главной темой пьесы «Горько, но правда» служит проклятье богатства. В этом смысле пьеса представляет собой вариацию на тему «Дома, где разбиваются сердца». Большая часть пьес Шоу опередила свое время приблизительно на полстолетия. Этой пьесе присуща та же шовианская особенность, и сегодня она представляется более современной, чем в день своей премьеры, более современной, чем любая пьеса, вышедшая из-под пера юнца, годного в правнуки автору «Горько, но правда». Рядовой Мик это портрет Лоренса Аравийского, но это и вечно живой человеческий тип. Основным достоинством этой пьесы, как всегда у Шоу, следует считать ту живость, с какой трактуется серьезный сюжет.
Автор посвятил меня в забавные обстоятельства, при которых был написан знаменитый заключительный монолог: «Горько, но правда» завершается монологом, которому тогдашний настоятель Уорчестера Мур Идэ посвятил страстную проповедь. Я нацарапал эти строчки во время репетиции, потому что нам никак не удавалось вовремя дать занавес, обрывающий суесловие Седрика Хардвика. И мне пришлось сочинять несколько строк про запас, на всякий случай, чтобы актер выговорился».
Судя по всему, эта программа попалась на глаза Шоу, потому что я неожиданно получил от него открытку с единственным словом: «Зачем?» Я не понял и ответил открыткой: «Что?» Он объяснил: «Программа». Я парировал: «А, это!» Он поддержал: «Вот-вот». Я сдался: «Бог его знает». Он не унимался: «Он не знает». У меня оставался последний патрон: «А я и подавно».
Ничто, кроме смерти, не могло заставить Шоу бросить перо и умолкнуть. Осенью 1948 года Шоу заявил корреспонденту, что в Англии он вечный иностранец, «потому что я принадлежу к немногим местным жителям, которым доступны объективные суждения». Шоу добавил, что был бы не прочь сочинить статью, рисующую в истинном свете англо-ирландские отношения, если за эту статью ему дадут тысячу фунтов. Он направил в «Таймс» длинное письмо, ратуя за издание политического словаря, поскольку смысл таких терминов, как коммунизм, был окутан для современников туманом, и это недоразумение грозило обернуться никому не нужной войной. В «Нью Стэйтсмен» появилось еще одно его длинное письмо – о Наполеоне. А в «Дейли Уоркер» была помещена жалоба этого самого разрекламированного в мире человека на то, что английская пресса вот уже много лет бойкотирует его публичные высказывания. Попутно Шоу восхвалял русский коммунизм и обрушивался на всех и вся за несогласие с советским пониманием демократии.
В октябре 1948 года исполненная почтения (не сказать чтобы понимания) цюрихская публика внимала хвалебному гимну, который завершал новую пьесу Шоу «Миллиарды Бойанта». Это был гимн во славу математики: «Удовольствие, которое мы в ней найдем, обещает нам новую жизнь, интеллектуальный экстаз, который оставит далеко позади экстаз великих святых».
Первым названием «Миллиардов Бойанта», «комедии без всяких нравов», было: «Ох, и ж-ж-ж-жадная пчела!» [213]213
В подлиннике обыгрывается созвучие слов «жужжание» и «бизнес».
[Закрыть]. Жалко, что Шоу забраковал его.
В начале марта 1949 года вышли из печати «Шестнадцать набросков о себе». Пожалуй, это единственный случай в истории, когда читателям доставило удовольствие сочинение девяностолетнего человека. Многие из набросков были просто перепечаткой прежних публикаций, много Шоу и повторялся. Но для биографа нашлось и кое-что новенькое.
Шоу раскопал где-то родительскую переписку. Письма датированы июлем 1857 года, когда миссис Шоу гостила у родственников, а Джи-Би-Эс оставался на попечении отца. Ребенку шел второй год. Из писем видно, что ребенок доставлял своим домашним не меньше хлопот, чем впоследствии будет доставлять театралам и политикам тот, кто из него вырастет. Непослушное и яростное дитя, если ему что-то не потрафило, переворачивало вверх дном весь дом; в клочья была разорвана детская шапочка, на мелкие кусочки – газета (первый знак презрения к журналистике). Нянька не знала с ним ни минуты покоя. Однажды он упал с кровати на голову, но оказался «резиновым», как почти все дети его возраста. В другой раз свалился на спину с кухонного стола, вывалился на подоконник и ударился с размаху головой о железный прут оконной решетки. Дом охватила паника, но ребенок остался хладнокровен. Если в продолжении следующих десяти лет он испытал что-либо близкое опыту своего первого года, его судьба драматурга была уже тогда решена.
Единственным важным откровением этой книги было то, что Шоу назвал позорным секретом всей своей жизни. Этим секретом он не делился гаже с женой. В XIX веке правящие классы Ирландии исповедовали протестантство и приучали своих отпрысков видеть в католиках касту неприкасаемых. Не выучившись ничему в методистской школе, Шоу был взят оттуда и переведен в школу, где учились дети мелких лавочников католиков, которых его приучили презирать. В одно мгновение мальчик утратил все прежние привилегии. Однокашники из протестантской школы стали обходить его как прокаженного. Через полгода он забастовал, и его поместили в новую протестантскую школу, где его опять ничему не учили, но возвратили чувство собственного достоинства. В течение восьмидесяти лет он не осмеливался упомянуть об этой истории, «но теперь, нарушив, наконец, постыдное молчание и очистив не только душу, но и сознание, я совершенно излечился».
Психоаналитики снимут пенки с этого саморазоблачения. Но мне почему-то кажется, что Шоу, едва припомнив что-то новое из своей жизни, пожелал подать товар лицом (можно назвать это и гримасой). Таким образом он смог добавить к своему портрету лишний драматический штрих, на который мало кто мог считать способным девяностодвухлетнего старца. Он теперь сравнялся с Диккенсом, который своим творчеством сполна рассчитался за фабрику ваксы, – свой позорный секрет».
Я вспоминаю, как задело Шоу сравнение Баркера с Шекспиром, которое я проводил, когда писал о первой постановке «Андрокла и льва». Я показал ему свои листки перед тем, как выступать с ними по радио в феврале 1949 года. Он остался недоволен тем, что, по-моему, выходило, будто процесс самопознания у Шекспира был подкреплен более трудным жизненным опытом, нежели у него: «Где у вас доказательства, что Шекспир голодал или ходил оборванцем? Мне пришлось потуже. У меня отец был неудачником. Шекспир не очень-то и боролся за себя, он легко и быстро встал на ноги. То же самое Уэллс, Киплинг и Диккенс. У меня же за спиной девять лет сплошного неуспеха».
Шоу нравилось видеть себя проповедником, пророком – лишь бы не обыкновенным человеком. В одном из набросков он объяснил, почему никогда не писал автобиографии. Причина первая: «На девяносто девять и девять десятых процента я такой же точно, как все другие люди, – утверждал Шоу. – Поэтому трудно поймать за хвост и разглядеть одну десятую процента, которая и отличает меня от всех». Вторая причина: Шоу заявлял, что с биографической точки зрения он не представляет ровно никакого интереса – никого не убил, приключений не изведал. На этот счет у нас был разговор, и Шоу остался глух к моим возражениям.
– Жизнь духа полна превратностей и волнует больше, чем житейские приключения, – сказал я.
– Возможно, – ответил Шоу, – и поскольку превратности моего духа видны по моим сочинениям, никакой биографии и не нужно.
– Но ведь многое вы не отразили в своей работе, а что-то и вообще можно объяснить, лишь зная вашу жизнь и ваш характер. Но главное, факт остается фактом: лучшие биографии написаны о мыслителях, а не о людях действия.
Шоу затребовал примеров, и я назвал платоновского Сократа.
– Платон придумал своего Сократа, – объявил Шоу.
– Ксенофонт тоже придумал своего Сократа? – съехидничал я. – У него портрет вышел живее, чем у Платона.
– А все-таки знают Сократа по Платону.
– Хорошо, а как быть с доктором Джонсоном?
– Его придумал Босуэлл.
– Значит, у Джонсона был целый штат великих фантазеров, – защищался я, – ибо множество людей воспроизвели разговоры с ним блестяще, почти как Босуэлл.
– Но удержался до нас один Босуэлл.
Прежде чем покончить с «Набросками», хочу отметить следующее: в книге Харриса о Шоу приводилось письмо, где Шоу рассказывал автору о своих любовных увлечениях; в письме была опущена одна немаловажная фраза, и восстановил ее сам Шоу, включив письмо целиком в свои «Шестнадцать набросков». Здесь окончательно проясняется основа его брака: «Как муж и жена мы построили союз без пола». Это очень характерно для Шоу: вставить старую фразу в новый текст чуть измененной и дать основание думать, что эта фраза была на своем месте только в оригинале письма. Если кто-нибудь просил разрешения процитировать в своей работе письмо или даже эссе Шоу, он обязательно что-то переменит, что-то добавит. «Факты нужно освещать с сегодняшней точки зрения», – говорил Шоу. Тут как в капле воды отразились приемы сильных личностей всех времен.
В мае 1949 года Шоу надумал разделаться с обстановкой своей квартиры на Уайтхолл-Корт. В Лондон он приезжать не собирался – «разве что на катафалке» – и уже несколько месяцев назад решил отказаться от лондонской квартиры, сняв в том же доме маленькую квартирку для своего секретаря. И в самом конце мая Бланш Пэтч получила директиву: в два дня сплавить куда-нибудь все – обстановку, книги, картины и даже ковры. В такой срочности не было необходимости, не было и возможности исполнить все так скоро, и Бланш Пэтч запротестовала. Но Шоу уперся на своем. Не в два дня, конечно, но за неделю эта работа была проделана. Кроме обстановки его кабинета, все отправилось на аукцион. Он ничего не захотел оставить у себя – даже книг, подаренных знаменитыми современниками, даже бюста леди Астор, который в каталоге фигурировал как «бюст миссис Уэбб». Пару ковров отправили было в Эйот – там они могли еще пригодиться, – но Шоу приказал их вернуть: ему нужны деньги, а не ковры. Все бумаги сжечь, все обратить в деньги – так повелел человек, который давно уже не знал, что делать с огромными гонорарами за фильмы, пьесы и книги. Это была своего рода навязчивая идея, результат его постоянного и пристального внимания к экономической стороне жизни. Решение моментально развязаться со всем имуществом – это только безумный каприз человека, всегда питавшего восхищение перед диктаторами.
В молодости он огрызался притворно, теперь это стало его второй натурой. Радиопостановкам своих пьес он давал такие отзывы, что администрации Би-Би-Си совсем расхотелось просить его согласия на новые передачи. Его юмор бывал редко согрет душевной теплотой, а теперь остыл и вовсе. Он был по-прежнему приятен и забавен в разговоре, но с пером в руке или у телефона часто срывался. Годы его нрава не смягчили. Что-то в его натуре упорно мешало ему признаваться, что в чем бы то ни было он мог быть неправ. Любому человеку, делавшему попытку оспорить непогрешимость его суждения, грозил расстрел на месте: свое оружие Шоу всегда держал наготове.
Где-то в конце года я показал Шоу статью о Грэнвилл-Баркере, написанную для моей книги «Последние актеры-антрепренеры». Шоу кое-что поправил и заодно рассказал, что из всех его знакомых Баркер один страдал хронической способностью влюбляться и обручаться. Шоу считал трагедией тот час, когда Баркер пленился Эллой Хантингтон и попал под ее каблук.
Еще о чем-то поговорили. Потом я спросил, при каких обстоятельствах он познакомился с леди Астор. «Я не желал быть развлекателем общества и неизменно отклонял ее приглашения, – ответил Шоу. – Потом встретил ее в чьем-то доме, она мне как-то сразу понравилась и я стал принимать ее приглашения».
Леди Астор оказалась ему очень полезной: пустив в ход свои связи, она заставила «Таймс» публиковать письма Шоу. Это было единственное официальное признание, которое чего-то стоило в его глазах и было ему дороже герцогства или ордена «За заслуги».
Мне интересно было узнать, скучает ли он по старым друзьям – по Уэллсу, например.
– Я скучаю только по себе.
– Как это?
– По такому, каким я был.
– Представляю.
Он во второй уже раз рассказал мне то, чего я не мог напечатать при жизни Уэллса: как в Фабианском обществе заварился крупный скандал оттого, что Уэббы посоветовали Блэнду и Оливье держать дочерей подальше от Уэллса, не то Уэллс совратит их. Блэнд переговорил с дочерью, и та ему спокойно сообщила, что Уэллс отрекомендовался ей страшным волокитой и даже назвал по именам некоторые свои победы. Конечно, Блэнд устроил Уэллсу головомойку, а Уэллс в свой черед сорвал обиду на Уэббах. Частные распри были тактично замаскированы под политические разногласия, и в этом разгадка, почему Шоу яростно опровергал Уэллса.
Перед моим уходом Шоу заявил: «Для правительства я теперь уже не persona grata». На прощанье он пожаловался, что его грабит Департамент государственных сборов. Позже я разобрался, в чем было дело. Шоу попросил кинокомпании не переводить ему гонорары впредь до специального распоряжения с его стороны. Но люди, взимавшие с него подоходный налог, этот номер не пропустили: кино не банк – и посему Шоу должен был в течение 1950 года выплатить Департаменту сто сорок тысяч фунтов.
НОВЫЙ МАФУСАИЛ
В последний раз я говорил с Шоу в конце июня 1950 года. Это была приятная беседа, но о ней почти нечего рассказать.
Незадолго до этого я получил несколько писем с вопросами, которые переадресовал Шоу:
– В театре держится легенда, что в первой постановке «Андрокла» Лев и Андрокл уходили со сцены, вальсируя «Голубой Дунай». Я что-то не припомню этого, а вы?
– Нет, не «Голубой Дунай», а «Индюшиный шаг». Был таков популярный танец.
Он стал насвистывать мелодию…
– Уильям Моррис умер в 1896 году, когда Оскар Уайльд находился в Редингской тюрьме. Что давало вам, а вслед за вами и мне, основание утверждать, что Моррис, лежа на смертном одре, мог переносить присутствие только Уайльда?
– Моррис умирал трудно и очень долго, около двух лет. Уайльд был у него где-то в самом начале, когда Редингской тюрьмой и не пахло. Моррис говорил, что никогда в жизни так не смеялся.
Он спросил, чем я занимаюсь, и я ответил, что пишу о Дизраэли.
– Вот кого никогда не мог читать. Все его романы описывали великосветских леди и джентльменов, которых я не терплю. По той же причине для меня закрыт Мередит. Дизраэли занимает важное место в истории, поскольку он был пионером торийской демократии.
– Мне он кажется интересной личностью, иначе я бы не взялся за его биографию. Между прочим, один ваш большой поклонник хочет обменяться с вами рукопожатием. Вы позволите мне его сюда привезти?
– Я не хочу никого видеть и не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня. Вы же не понимаете, что такое глубокая старость. Неужели вы думаете, что мне будет приятно, если великий Джи-Би-Эс останется в памяти ковыляющим древним скелетом?!
В день, когда ему исполнилось девяносто четыре, театр «Артс» дал в его честь «Дом, где разбиваются сердца». По просьбе Алека Клюнса я снова написал несколько строк для специальной программы. На этот раз автор уже не выражал своего недоумения.
5 сентября театр «Уотергэйт» показал «Вымышленные басни» Шоу. Критики нашли их слишком уж вымышленными. Сам Шоу относился к ним как к стариковским бредням, которые могут примерещиться разве что без малого столетнему деду.
В воскресенье вечером 10 сентября Шоу работал в саду, подрубал сук на дереве. Сук был мертвый и отлетел сразу. Шоу потерял равновесие, упал и сломал бедро. Санитарная карета отвезла его в больницу Льютона и Даистэбла, и в понедельник ночью была операция. Больной быстро пошел на поправку. Его часто навещала экономка, миссис Алиса Лейден. Он даже съязвил, обращаясь к хирургу: «Какая вам польза, если я поправлюсь? Чем больше знатного народу умрет у врача на руках, тем больше славы перепадет». Радиопрограмма «Дублинское обозрение» запросила его по телеграфу, что бы он желал послушать. «Песенку, которая свела в могилу старую корову», – ответил Шоу.
Через несколько недель у него отказала простата, сделали легкую операцию: для сложной он был слишком стар.
2 октября (это был понедельник) к нему в больницу пришла Элеонора О’Коннел. За ним был отменный уход.
– Как живем? – спросила Элеонора.
– Все задают этот вопрос. Наконец это глупо – ведь я хочу умереть. Живучий какой!.. Помереть не могу.
– А вы ждете смерти?
– Очень, очень, – отвечал он трепетным голосом. —
Если бы я мог умереть!.. Один перевод времени, пищи, внимания. Только разве меня оставят в покое?! – И уже громким голосом: – Здесь я в аду. Меня все время моют, тискают. Только засну – начинают будить, проснусь – пристают: спи. Тоска, тоска. Надоело. Всякий раз обещают, что ничего со мной делать не будут, и, конечно, подсовывают новую гадость.
– Не расстраивайтесь. В среду поедете домой. Вашу комнату уже приготовили, в ней вам будет очень покойно. Дома вы воспрянете духом.
– Воспряну? Нет. Но хотя бы умру спокойно… Да, хочу домой, хочу вон из этого ада. Эх, если бы я мог ходить!.. Поднялся бы и сразу домой. Поверьте, здесь пекло. Хочу умереть – и не дают.
Он чуть не плакал. В голосе его звучала мольба. Пришла няня. Элеоноре было время уходить. Она поцеловала его, сказав:
– Мы не увидимся больше, но для меня вы не умрете.
Он возвратил поцелуй:
– Ступайте с богом…
Ей показалось, что его глаза увлажнились.
4 октября его привезли домой. Последний месяц своей жизни он провел, мало интересуясь окружающим. Правда, когда Бланш Пэтч прочла ему письмо от доктора Инджа, он с улыбкой сказал:
– Надо будет ему написать.
Перед тем как потерять сознание, во вторник 31 октября, он произнес свои последние слова с убежденностью человека, знающего, что его ждет: «Смерть пришла».
В последние дни он очень много спал, и утром 2 ноября 1950 года, за минуту перед тем, как пробило пять, уснул навеки.








