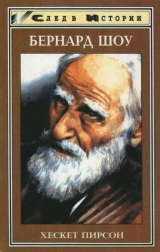
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
Московские впечатления Шоу и леди Астор, естественно, разнились между собой. Для леди Астор благосостояние страны определялось изысканно одетыми леди и джентльменами, проплывающими в роллс-ройсах по Бонд-стрит или Рю де ля Пэ – мимо сияющих витрин, забитых товарами ценою в несколько фунтов, а то и в несколько тысяч фунтов. В Москве же она увидела людей в недорогой одежде, и каждый спешил куда-то по своим делам. Улицы и магазины могли напомнить ей Лэмбет и Саутуорк: простор – куда там Вест-Энду, и товары по полпенса, чему бывают несказанно рады неимущие покупатели. В фешенебельных кварталах товары ведь только отпугивают. Многие московские магазины были закрыты. На произведениях искусства, выставленных для продажи, висели номерки, какие вешают на багаж в камере хранения. Их никак не рекламировали, очевидно не слишком хорошо представляя себе их ценность. «Обнаружив на витрине сокровище, вы входите в магазин и называете увиденный на ярлычке номер, – рассказывал Шоу. – Продавец, одетый просто, без затей, смотрит на ваш приход, как на дружеский визит. Он справляется по списку о цене товара и совершает сделку, не проявляя ни малейшего коммерческого интереса». Стоит ли говорить, что все лучшие вещи был» скуплены знатоками по баснословно дешевой цене задолго до появления в магазине Шоу?.
Что может быть ужаснее для западной миллионерши? И что могло быть лучше, интереснее, неожиданнее для Шоу? Без леди и джентльменов он чувствовал себя как никогда легко. На обратном пути из России, на польском вокзале Шоу увидел в зале ожидания первого класса двух молоденьких леди – так он чуть было не позвал полицию, чтобы выпроводить барышень и дать им в руки по лопате!.. Он с радостью отмечал, что лица прохожих в России не омрачены вечной заботой о деньгах и рабочие не ходят как в воду опущенные и не смотрят вокруг с тем крайним разочарованием, которое и язык-то не повернется назвать цинизмом. А таково, по Шоу, клеймо капиталистической цивилизации. Отсутствие роскошных товаров его не удручало. Не он ли любил повторять, что по Бонд-стрит и Риджент-стрит он хаживал и с пустым карманом и при деньгах, а результат был один и тот же – ничего не купил! Союз ювелиров пытался как-то соблазнить Шоу голубым бриллиантом за четыре тысячи фунтов. Не тут-то было! Ему показались более привлекательными ювелирные безделушки Вулворта по четыре пенса за штуку, – правда, их он тоже не купил.
Зато его возбуждал размах, с каким Советы расчищали страну от вековой завали. Народные фабрики и колхозы; дворцы и дома отдыха, где тысячи рабочих и представителей интеллигенции проводили свой отпуск и выходные дни; восхитительные коллекции картин, составляющие народную собственность; отделения милиции с рассудительными женщииами-милиционерами и без привычной полиции, без загона для подсудимых, без сцен отвратительного насилия.
По большому собору, где помещался антирелигиозный музей, изобличавший жестокость церковников и церковной власти, Шоу водила монашеского вида девушка со значком Союза безбожников. Шоу разглядел в музее две мумии и спросил, почему их там поместили. Его спутница объяснила: «Трупы этих крестьян подверглись естественному бальзамированию. Священники уверяют народ, будто это чудо, а крестьяне – святые, но этот случай показывает, что перед нами редкое явление природы». Шоу не остался в долгу: «А откуда вам знать, что эти двое – не святые?» Против такого шовианства ни у Союза безбожников, ни у юной послушницы не нашлось контраргументов. Шоу подытожил свое впечатление: музей прекрасно, хотя, быть может, несколько односторонне рисует опасности, которые таит в себе религиозное рвение; муниципалитеты Женевы и Белфаста много бы дали, чтобы кое-чему здесь поучиться. В музее почти не было русских посетителей, и его уже начали переоборудовать в выставку, посвященную первому пятилетнему плану, который в те годы успешно осуществлялся.
Его самого принимали там «так, словно явился Карл Маркс». Сразу же по прибытии в Москву Шоу и его спутники отправились на Красную площадь, в Мавзолей Ленина. Они пришли в изумление, увидев вместо величественного и сумрачного диктатора хрупкого блондина с тонкими, аристократическими руками, не знавшими физического труда. В течение последующих дней, вечерами, они наблюдали, как сотни и сотни трудящихся выстраивались после работы в длинную очередь, ведущую к дверям гробницы.
Чтобы доставить английским гостям особое удовольствие, их пригласили на скачки, pi Шоу предложили вручить приз жокею-победителю. Шоу заметил: раз Советы покончили с конкуренцией, им теперь не пристало выставлять на каждый забег больше одной лошади. Жокей-победитель что-то и не походил на русского. Потом оказалось, что он был ирландцем.
Шоу очень хотелось встретиться с Н. К. Крупской, вдовой Ленина. Остальные участники поездки поставили себе целью добиться беседы со Сталиным. Визиту к Крупской никто не препятствовал, только его со дня на день откладывали по той или иной причине, пока не стало ясно, что он так и не состоится. Шоу сказали, что Крупская лежит с простудой, что она человек пожилой и замкнутый, живет в лесу, на даче, и не стоит ее беспокоить. Шоу предложил навестить ее. Оказалось, что она уже в Москве. Тут Шоу дал понять, что не отстанет: ему было поручено передать ей книгу, он не собирается навязывать ей свою персону, но книгу и свою визитную карточку он хочет оставить у ее порога – только пусть ему укажут этот порог. Леди Астор заявила в сердцах: она не покинет пределов России, пока ей не покажут Крупскую.
И вдруг все препятствия сами собой отпали. Вся компания отправилась к Крупской. Крупская была здорова и устроила им такой теплый прием, что они только руками разводили: и это замкнутая женщина! На даче было полным-полно людей. Видно было, что хозяйка удивлена и обрадована тем, что ужасный Шоу оказался весьма симпатичным человеком. Оказывается, этой встречи не хотела сама Крупская, уверенная в том, что Шоу был отталкивающе неприятной личностью. Но еще больше удивился и обрадовался Шоу. Судя по фотографиям, Крупская делила с женой Уильяма Бута из Армии Спасения пальму первенства самой нефотогеничной женщины в Европе. Но генерал Бут всегда твердил о своей, «красавице женушке», и их дочь Эванджелина тоже говорила о своей матери, как о писаной красавице. Вот и Крупская показалась Шоу неотразимо привлекательной. Он заявил, что если она окажется в комнате и туда впустят толпу детей, они все ее облепят и уже не выпустят из своих объятий. Он просто забредил ее странно посаженными монгольскими глазами. Чай на даче удался на славу.
По вопросу о воспитании подрастающего поколения советских граждан Шоу высказался так: «Разве будет так уж плохо, если мы воспитаем из наших детей лучших граждан, чем мы сами? Сейчас мы этого не делаем. А русские делают». Вполне ли согласуется это высказывание с такой, например, репликой из «Человека и сверхчеловека»: «Самый преступный аборт делает тот, кто пытается втиснуть детский характер в готовую форму»? Или вспомним еще несколько слов Шоу: «Гражданское воспитание это отнюдь не воспитание слепого повиновения власти, это воспитание несогласия и свободомыслия, скептицизма, тревоги и страсти к совершенствованию… Без критики нельзя себе представить развития цивилизации, и, дабы уберечься от застоя и разложения, цивилизация обязана даровать всем критикам общее алиби». Впрочем, было бы чудом, если бы высказывания человека, произнесшего столько слов, сколько произнес их Шоу, иной раз не противоречили одно другому…
Несмотря на то, что Сталин не давал интервью иностранцам и с ним не встречались даже британский и американский послы, для лорда Астора и его друзей было сделано исключение. Их просьба была встречена с удивлением и настороженностью, но день беседы, однако, назначили, взяв с Асторов слово держать все услышанное в строжайшем секрете. Шоу не знал, что его компаньоны связаны словом, и я теперь могу с его слов рассказать о том, что же произошло. Шоу не искал встречи со Сталиным, не имея к нему дела и не стремясь тратить время на удовлетворение своего любопытства, но, так или иначе, эта встреча состоялась и вошла в анналы истории, заняв там место возле описания аудиенций, которые дали Вольтеру – Фридрих Великий и Гёте – Наполеон.
«Сталин не похож на диктаторов своим неудержимым чувством юмора. Он – не русский, а грузин, привлекательный, с красивыми карими глазами, по которым можно узнать представителя его народа. Он странным образом похож и на папу Римского и на фельдмаршала. Я бы назвал его побочным сыном кардинала, угодившим в солдаты. Его манеры я бы счел безукоризненными, если бы он хотя бы немного постарался скрыть от нас, как мы его забавляем. Вначале он дал нам выговориться. Потом спросил, нельзя ли и ему ввернуть словечко. Мы не поняли ни звука из того, что он произнес, кроме слова «Врангель» – так звали одного из офицеров, которых Англия поддерживала в войне с большевиками. Вскоре Сталин погрузился в безоглядное веселье. Но из-за того, что очень скверный переводчик стучал зубами от страха, мы так и не смогли разделить приятного настроения нашего хозяина. Если бы не Литвинов, приглашенный на эту встречу, так бы и ушли, не разобрав ни слова».
Леди Астор, в свою очередь, отчиталась передо мною так: «Сталин – уравновешенный кареглазый человек, хорошо воспитанный и донельзя мрачный. Пока мы были у него, он ни разу не улыбнулся». Что ж, такова судьба всякого биографа – доискиваться истины в противоречивых показаниях свидетелей одной и той же сцены. Зато такие противоречия немало способствуют уяснению характера самих свидетелей. Впрочем, дальше их показания сошлись.
Именно леди Астор, и только ей одной удалось кое-чего добиться от Сталина. Она сказала ему, что Советы не умеют обращаться с детьми. Сталин, убежденный в том, что Россия жертвует всем ради воспитания подрастающего поколения, неожиданно нахмурился и, не скрывая удивления и досады, показал рукой удар хлыста, воскликнув с чувством: «В Англии детей бьют!».
«Если бы там была вся Россия, вся Россия растерялась бы и прикусила язык, – продолжает рассказ Шоу. – Но попытка смутить леди Астор или заткнуть ей рот имела не больше шансов на успех, чем попытка мухи устоять против урагана. Пылкая и бесстрашная женщина заставила Кремль ходит ходуном. Он (Сталин) не знает, что говорит. Она (Нэнси Астор) за свои слова отвечает. Не зря же она в самом деле пестовала и финансировала экспериментальный лагерь сестер Макмиллан в Детфорде. А эти прелестно одетые девочки в колхозе – почему они торчат в своей прелестной детской, почему не идут со своими новенькими, с иголочки, куклами на свежий воздух? Няня сказала, что утром шел дождь. Какая чушь! Ребенку мало дела, идет дождь или светит солнце. Это не его забота! А зти платьица без пятнышка, эти белоснежные лица и ручки! Ребенок должен быть растрепанным, грязным, чумазым, – правда, не за столом. Почему у них платья, как в русском балете? Их нужно одевать в грубую полотняную одежду, которая просыхает за полчаса. «Пришлите ко мне в Лондон женщину с головой, – приказала она Сталину, – пусть поучится, как надо обращаться с… живыми пятилетками!»
Подавленный этим шквалом, Сталин, по-bpi дршому, решил, что в словах пылкой женщины есть что-то дельное. Он взял конверт и попросил леди Астор написать на нем свой адрес. Мы были польщены, но отнесли это за счет вежливости Сталина, не ожидая никаких последствий. Однако Россию не всякий поймет. Леди Астор выторговала себе одну толковую русскую женщину. Едва она успела вернуться домой, как за ней примчалась целая дюжина русских женщин, она нянчилась с ними, делилась опытом, возила в Детфорд. Утешительно думать, что ее красноречие не было истрачено понапрасну. Но ей, наверно, подумалось еще, что «дядя Джозеф» не остался у нее в долгу, рассчитался с нею за все ее буйство».
Потом пришла очередь лорда Лотиана. Он посвятил Сталина в то трудное положение, в каком оказалась тогда английская либеральная интеллигенция. Остатки партии разделились: правое крыло примкнуло к консерваторам, а левое осталось ни при чем. К лейбористской оппозиции левые не присоединялись, ибо в области государственного управления во многом принципиально расходились с лейбористами. Левые либералы, по мнению Лотиана, были единственной политической организацией на Западе, способной ка подлинно научное построение коммунизма. Такая программа определяет им место слева от лейбористской партии, что создаст новую ситуацию в британской политической жизни.
Ну, лиха беда начало! Доложив обстановку, лорд Лотиан возьми да предложи Политбюро пригласить Ллойд-Джорджа с официальным визитом. Он – лидер новой секции, и ему нужно убедиться своими глазами в достигнутых Россией успехах. Сталин только улыбнулся в ответ. С юмором, который едва ли дошел до его гостей, он пояснил, что роль господина Ллойд-Джорджа в гражданской войне, когда барон Врангель вел белых в поход против красных, – эта роль делает официальное приглашение этого господина невозможным. Однако если только господин Ллойд-Джордж пожелает прибыть в Россию как частное лицо, он не останется в обиде на своих экскурсоводов.
В разговор вступил Шоу, спросивший, распространяется ли это приглашение и на господина Уинстона Черчилля. Сталин ответил загадочной фразой: что был бы счастлив встретиться с господином Черчиллем в Москве, поскольку у него есть все основания испытывать к Черчиллю благодарное чувство. Шоу так расшифровал эту шутку: «Черчилль обеспечил Красную Армию обувью, одеждой и оружием. В бытность свою военным министром он пожертвовал более сотни миллионов, отпущенных Парламентом на войну с Германией, в пользу царской контрреволюции в России. Большевики выиграли войну, обмундировав и вооружив свою армию с легкой (и щедрой) руки Великобритании»
Лорд Астор, ради которого было затеяно это свидание, вмешался очень кстати, заметив, что, вопреки разнузданной антисоветчине, которой дышит британская пресса, в Англии набирают силу дружеские настроения по отношению к России и проводимому ею великому социальному эксперименту. В своем всегдашнем стремлении загладить все неприятное и создать атмосферу взаимной расположенности лорд Астор зашел так далеко, что Шоу пришлось в заключение беседы спросить Сталина, слышал ли тот о человеке по имени Оливер Кромвель.
– А в какой связи вы об этом спрашиваете? – поинтересовался Литвинов.
– В той только связи, – сказал Шоу, – что в Ирландии есть старинная баллада, и в этой балладе Кромвель советует своим ребятам:
«Бог вам в помощь, молодцы,
Но чтоб порох был сухим!»
Так вот, все, что рассказывал вам лорд Астор о ваших английских друзьях, – истинная правда. Но чтоб порох был сухим!
Сталин воздержался от комментариев по поводу бога, но порох обещал держать в лучшем виде.
Любезный комплимент в адрес ветерана-фабианца и сердечные слова прощания завершили интервью. Посетители считали, что с их стороны не было излишней дерзостью оторвать Сталина от дел на какие-нибудь полчаса. Взглянув на часы, они убедились, что уже за полночь и что на самом деле они провели со Сталиным два часа тридцать пять минут.
Коньком английских и американских газет были сплетни, так что для них, пожалуй, самым примечательным эпизодом в этом путешествии стала знаменитая «бородомойка» Шоу. Журналисты пронюхали, что леди Астор мыла Шоу бороду – как говорят, по личной просьбе миссис Шоу. Шоу возроптал: «В России не существует или, по крайней мере, не существовало в 1931 году толпы газетчиков, преследующих на Западе всех знаменитостей. Эти преследования и эти приставанья, слава богу, там неизвестны». Рассказ о мытье бороды был, таким образом, добыт из вторых рук, а вот что случилось на самом деле: «Нам всем до смерти нужно было помыть голову после трех дней и трех ночей в поезде. У леди Астор как раз оказалось нужное мыло. Я пожаловался, что она забрызгала мне всю рубашку. Она велела мне снять ее. Я разделся до пояса. Наш разговор и головомойка основательно отвлекли нас. Когда же мы услышали какой-то шум и подняли головы, мы не увидели ни репортеров, ни фотоаппаратов – только весь персонал гостиницы и столько жителей Москвы, сколько могло поместиться в комнате. Все они наслаждались этим зрелищем, и, насколько нам известно, за вход с них плату не брали».
АПОФЕОЗ
Вскоре после войны в провинции начался подлинный Шоу-«бум». Чарльз Макдола разъезжал с пьесами Шоу по всей стране. Театр «Эвримен» в Хэмстеде прямо расцвел на шовианском репертуаре.
Иной раз на последние репетиции удавалось затащить и самого автора. Об этих посещениях ходят легенды. Многим россказням, конечно, нельзя верить, и самый, может быть, популярный анекдот я решил привести здесь в авторизованном варианте Шоу: «Когда мы репетировали сцену в саду из «Другого острова Джона Булля», Джон Шайн, игравший Ларри Дойля, спросил меня, не производит ли один из его уходов со сцены впечатления, будто ему приспичило облегчиться. Я ответил: ясное дело, производит. Но так и задумано. Шайн и глазом не моргнул, но чего это ему стоило! Потом он пошел трубить по свету эту историю, а теперь ее приладили уже, кажется, ко всем моим пьесам».
Вест-Энд тоже ухватился за его раннюю пьесу. Через год после войны Роберт Лорейн возобновил в Театре Герцога Йоркского «Оружие и человек». Шоу не сумел попасть на премьеру из-за того, что в тот вечер у него была лекция, и Лорейн обиделся: по такому случаю можно лекцию и отменить. Но на втором и третьем представлениях автор был и «вынес страшное впечатление, что 1894 год повторяется снова. Прежняя история сводилась к следующему. Премьера прошла с бурным успехом. Артисты старались как можно лучше подать пьесу, не ведая, что их ожидает. Ожидал же их непрерывный хохот и долго не смолкающие аплодисменты. Ну, они и обрадовались. Всякое недоумение осталось позади – ясно: они ломают комедию, фарс. Следующие спектакли играли уже только ради смеха, и в ответ не получили ни смешка. Давал себя знать нежелательный эффект шовианства. В каждом персонаже сидит Шоу и брызжет шовианизмами. Сначала публика в ответ на это посмеивается, потом разочаровывается и приходит в ярость». Лорейну Шоу сказал, что его игра не делает чести артисту, что он попросту побирается, выклянчивая смешки, хватая их на лету. Далее Шоу обратился к Лорейну с монологом, который бы не грех повторять про себя всем актерам: «Публику можно покорить только так. Не обращайте никакого внимания на ее смех. Пусть смеется – Вы себе играйте дальше, пусть публика пропустит мимо ушей из-за собственного шума полпьесы. Помните, что фразы, не расслышанные вовремя, кажутся нам самыми лучшими. Уши проигрывают – глаза выигрывают: иллюзия не нарушается, пьесу смотрят, не прерываясь… Я буду специально указывать в тексте, что о публике думать запрещается и что актеры должны, забыв обо всем на свете, держаться текста и только текста, не задумываясь, слышит их кто-нибудь или нет. Вам хочется, чтобы публика участвовала в представлении? Кроме провала Вы этим ничего не добьетесь. Пусть рецензенты расхвалят премьеру. Публика мало-помалу разберется, что имеет дело с очередным ядовитым занудством Шоу – без чувств, без характеров. В театр их уже калачом не заманишь, и Ваши два месяца сократятся до полутора. Да чего уж там – в виноватые все равно угожу один я».
Через месяц Шоу снова появился в театре. Что-то в игре Лорейна его очень удивило, и он написал артисту письмо, спрашивая, не прибегает ли тот к морфию. В письме, между прочим, говорилось: «Почему меня считают таким невыносимым человеком, несмотря на все мои привлекательные черты? Не потому, что я эгоцентрик и всеобщее посмешище. Сами посудите – тщеславные драматурги вызывают вполне добродушный смех. Людей бесит то, что я, не спросясь, самым неделикатным образом навязываюсь им в адвокаты, в частные доктора, в духовные наставники. У меня нет решительно никакого права вдаваться в Ваши привычки и в Ваш образ жизни. Но, как видите, я это делаю. Я отношусь к каждому сочувственно, видя в этом – инвалида, в том – неразборчивого обжору, а вон в том – глупого и несдержанного политика, как видно, набравшегося уже предостаточно лжи и подлости. Но, несмотря на все мое дружелюбие и старание быть приятным, люди всегда недовольны. Этого во мне не искоренить – я неисправим. В конце концов безрассудно ожидать от драматурга, чтобы он не вмешивался не в свое дело. Другие люди суть его дело. И его дьявольская прилипчивость может кому-нибудь пойти на пользу. Так вот, будьте милостивы, не обижайтесь на меня, если сумеете!»
Лорейн был все-таки взбешен и дал выход своим чувствам в яростном письме, которое Шоу принял как должное. Так врач ждет чего угодно от больного, вручив ему лечебное предписание. Побушевав, Лорейн очень скоро успокоился.
Случилось, однако, так, что в пьесах Шоу ему больше не довелось выступать, хотя дружеские отношения между ними сохранились. Причина была экономического свойства. Лорейн – не из жадности, а ради славы – стал запрашивать немыслимые ставки. Например, ему принес триумфальный успех «Сирано де Бержерак». Но спектакль был очень дорогим, и театральная администрация, выяснив, что даже полные сборы не покрывают всех расходов на постановку, передала антрепризу самому Лорейну. А тот и не подозревал, что оседлал смертельно раненого коня, думая, напротив, что озолотит и себя и других. Он всегда ухитрялся добиться контракта на своих условиях – бывало, самых экстравагантных. Но Шоу-экономиста разве проведешь? И ему пришлось сбросить Лорейна со счетов как слишком дорогое удовольствие.
Суровый опыт заставил вскоре и лондонских аптрепренеров прийти к аналогичному заключению. Лорейн стал сам вести свои дела, прогорел и в стесненных обстоятельствах отправился искать счастье за океаном. Там он притих, вошел в норму, и Шоу предложил ему играть главную роль в своей пьесе «На мели». Лорейн, видимо, «не увидел себя» в этой роли, либо не поверил в пьесу, но только Шоу получил отказ. «На мели» принесла затем успех Федеральному театру, который просуществовал недолго и которому Шоу даровал право постановки в Америке всех своих пьес, обязав дирекцию не продавать билеты дороже пятидесяти центов.
Смерть Лорейна положила конец всем их размолвкам.
Когда в одном человеке вступают в единоборство художник и пророк – такое бывает нередко в жизни знаменитых людей, – художник перед пророком пасует. Ибо отрешенность встречается в людях куда реже, чем стремление к самоутверждению. Шоу каким-то чудом удалось сохранить равновесие. Художник и пророк мирно в нем уживались. (Этим мог похвалиться прежде один только Вольтер.)
Война 1914–1918 годов потребовала от Шоу-проповедника всего пыла, какой только в нем был. Писатель Шоу между тем осторожно наносил последние штрихи, завершая «Дом, где разбиваются сердца», над которым работал с 1913 года. Да еще обдумывал драматический цикл, воплотившийся впоследствии в пенталогию «Назад, к Мафусаилу».
«Дому, где разбиваются сердца» принадлежит особое место в его творчестве. По мнению поклонников Шоу, это место – либо первое, либо последнее. (Апостолы Диккенса относятся точно так же к «Повести о двух городах».) У самого Шоу было к этой пьесе странное, ревнивое чувство. Окончив ее, он записал: «Что-то в этой вещице есть – ужасно не хочется выпускать ее из рук». Он долго не давал читать ее никому из друзей. В декабре 1916 года Ли Мэтьюз предложил ему прочесть пьесу публично и получил отказ в следующей форме:
«Милый Ли Мэтьюз!
Но это же невозможно!
Одно дело – если бы Сценическое общество собралось по-домашнему, чтобы отметить окончание на редкость удачного сезона. В этом случае чтение неопубликованной, не игравшейся и написанной знаменитым автором пьесы сошло бы за милую bonne bouche [164]164
Закуска (франц.).
[Закрыть]. И совсем другое дело – собрать деньги на спектакль, а подсунуть чтение и подставить несчастного автора под град тухлых яиц и дохлых кошек. Я умею, и Вам это хорошо известно, рисковать своей популярностью, когда на карту поставлена судьба цивилизации. Но роль председателя собрания пайщиков, которым надо объявить о банкротстве предприятия, все же не для меня. Да еще этот грабеж мне придется производить у них на глазах.Я вполне убежден, что если Общество задумает как-нибудь по-новому развлекать своих членов, оно должно созвать собрание и испросить на это общее согласие. Несогласные могут потребовать деньги обратно.
И еще вот в чем загвоздка. Я согласен на камерное чтение – для Вас, для нескольких снисходительных друзей. Сносно это выйдет разве что на уровне струнного квартета. Но наше Общество столь многолюдно, что не обойдешься без театра, то есть без целой симфонии. Мне пришлось однажды лицезреть в «Хэймаркете» одну заокеанскую даму. Она читала там пьесы Ибсена – не хуже, чем я читаю свои. От страшного провала ее спас Гладстон. Кто-то подбил его пойти в театр. И вот через двадцать минут после начала он вдруг с душераздирающим хрипом валится через перила балкона. Старику грозила ужасная смерть, если бы спутники не схватили его за пятки и не втащили обратно в ложу. Он покинул театр в ярости, ибо благодарность политикам несвойственна.
Мне не хотелось бы испытывать судьбу американской дамы – ведь Гладстон уже умер».
Шоу как будто не хотел и ставить пьесу, оправдываясь тем, что в военное время ей больше двух недель не продержаться: к половине одиннадцатого пора тушить свет, а раньше четверти восьмого начинать нельзя.
«Утешимся мечтами. Пусть она лежит напоминанием о том, что старая собака еще нет-нет и забрешет», – так писал он Лилле Маккарти.
На эту пьесу его толкнуло восхищение Чеховым. «Дом, где разбиваются сердца» был его любимой вещью, а капитана Шотовэра он звал новоявленным королем Лиром. На вопрос о главной идее произведения он ответил: «А мне откуда знать? Я ведь только автор».
В конце концов «Дом» был поставлен осенью 1921 года в Придворном театре. Режиссером был Джон Б. Фэйган. На премьере случилась накладка с электричеством, и последняя перемена декорации заняла вместо четырех – двадцать пять минут. Эта задержка – в конце очень длинной и утомительной пьесы – была равнозначна катастрофе. 19 октября Арнольд Беннет записывал: «Вчера вечером меня потащили на «Дом, где разбиваются сердца» Шоу. 3 часа 50 минут зеленой скуки. К счастью, мне дважды удавалось заснуть». Пьеса принесла за неделю доход в пятьсот фунтов, и обескураженный Фэйган подменил Шоу Гольдсмитом – «Унижение паче гордости» [165]165
В России пьеса Гольдсмита известна под названием «Ночь ошибок».
[Закрыть]. Гольдсмит не принес вообще ничего, и антрепризу прикрыли.
«Дом» шел еще в Бирмингеме, в постановке Барри Джексона. Шоу приехал на один из утренних спектаклей. «Он был доволен, – докладывал мне впоследствии сэр Барри. – Я это подметил и, провожая его, уже на вокзале спросил, не даст ли он нам повозиться с «Мафусаилом», которого пока поставили только в нью-йоркском «Гилде». «А у вас семья обеспечена?» – спрашивает. Я заверил его, что беспокоиться не о чем. Тогда он скомандовал: «Валяйте!». Мы приступили к делу. Он попал на последние репетиции, хотя очень страдал от ушибов, полученных в Ирландии».
История «ирландских ушибов» такова. В Паркнезилла (графство Керри) Шоу писал «Святую Иоанну». Однажды, лазая по горам, он поскользнулся и повалился прямо на спину. Через плечо у него висел фотоаппарат, и он так глубоко впился в тело, что миссис Шоу потом говорила, будто в образовавшуюся дыру можно было опускать письма, как в почтовый ящик. Ирландские эскулапы не справились с треснувшими ребрами. В Бирмингем он прибыл калекой, но местный хирург поставил его на ноги, после семидесятидвухминутного сеанса французской борьбы, из которого хирург вышел пусть бездыханным, но победителем.
«Назад, к Мафусаилу» репетировали почти два месяца. Шоу прибыл в Бирмингем за неделю до спектакля и зачастил в соседнее с Репертуарным театром кино, с экрана которого чаплиновский «малыш» Джеки Куган, должно быть, как следует веселил его после Старцев из «Мафусаила».
Пять пьес, составляющих «Назад, к Мафусаилу», давались с 9 по 12 октября 1923 года. Когда занавес упал в последний раз, наступившую тишину разорвали аплодисменты, с каждой минутой нараставшие. Критик «Таймс» писал: «Мистера Шоу, вышедшего к публике, встретили не обычные приветствия. Это не были случайные одобрительные возгласы с галерки. Это был короткий, неожиданный и невольный взрыв долго сдерживаемых чувств. До сих пор мы не слышали ничего подобного в театре».
Шоу редко выходил на вызовы, но на этот раз он отважно держа л речь:
«Я – автор и знаю свое место. Место автора не на сцене. Сценой владеют артисты. Они дают жизнь созданиям автора. Так и только так живут пьесы. Моя пьеса на бумаге едва-едва дышала, но вот ее взяли у меня, оживили, и мне выпала честь видеть, как она действительно живет.
Можно мне задать вам один вопрос: скажите, пожалуйста, неужели в этом зале собрались не только мои любезные друзья, но и сами бирмингемцы? Это просто невероятно! Четыре дня подряд я наслаждался пятью отличными спектаклями. И самое невероятное то, что это произошло в Бирмингеме. На моей памяти такая драма и такой театр могли родиться в любом городе мира – только не в Бирмингеме.
Вот я и обращаюсь к вам: кто вы – паломники, иностранцы? Есть среди вас хоть один истинный бирмингемец?
Я буквально потрясен – спектакль, который, быть может, увенчает и завершит мою жизнь на театре, создан в Бирмингеме! Мистера Барри Джексона, я думаю, подменили. А может статься, Бирмингем переживает сейчас вторую жизнь – вроде той, что описана в моей пьесе?
Первая пара людей, которой уготовано прожить на свете триста лет, даже и не подозревает о своей участи. И друзья этих людей тоже ни о чем не подозревают. Сегодня я удивлен не меньше них. Бирмингем был последним в мире городом, из которого мог бы получиться первоклассный театральный центр. И вот здесь поставлен яркий, сильный, ни с чем не сравнимый спектакль. Им бы не свершить такого подвига – если бы не вы, зрители!»
Занавес еще раз упал, и труппа, собравшаяся на сцене, с изумлением взирала на шестидесятисемилетнего драматурга, еще вчера распростертого на ложе болезни, а сегодня лихо выделывающего pas seul [166]166
Сольное па (франц.).
[Закрыть].
Как многие другие пьесы Шоу, «Мафусаил» не сразу принял свою окончательную форму. Еще 25 июля 1918 года Шоу сообщал, что «написал пьесу, между актами которой пролегает по тысяче (будущих) лет. Но теперь я вижу, что должен превратить каждый акт в отдельную пьесу». О выполнении его намерения первым узнал лорд-камергер. Ему принесли «пьесу в восьми актах», но этот «читатель по службе» сообразил, что перед ним: трехактная пьеса + двухактная пьеса + три одноактные пьесы, и затребовал соответствующих платежей за свой труд.








