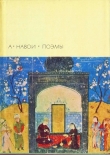Пять поэм

Текст книги "Пять поэм"
Автор книги: Гянджеви Низами
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 43 страниц)
Плод первого тайного собеседования
И наставник высокий, как будто смирял он коня,
От узлов девяти был намерен избавить меня. [86]86
От узлов девяти был намерен избавить меня. – То есть Аллах хотел освободить Низами от власти девяти небес, от оков всего земного. Дальнейшее описание явно перекликается с отдельными местами «Божественной комедии».
[Закрыть]
Эти девять узлов он решил отстранять понемногу.
На веревки конец он поставил уверенно ногу,
Чтоб узлы перебрать, – все узлы, что достойны хулы,—
И тогда он с веревки последние срежет узлы.
И владеющий сердцем, в желанье высоком, едином
Мне на помощь прийти, – стал отныне моим господином.
В двух обширных мирах начал он мне указывать путь,
Захотел потому-то он в душу мою заглянуть.
Хоть от нас он достойного часто не видит вниманья,
Все же нас никогда своего не лишит состраданья.
Если я, недостойный, почтительность мог позабыть,
Научил он меня неизменно почтительным быть.
От подобного мне не пустился он в бегство. О новом
Он беседовать стал. Бедный прах удостоил он словом.
Из колодца, из мрака он вызволил душу мою,
Словно спас он Иосифа в чуждом, далеком краю.
Погасили огни многозоркой, внимательной ночи,
И чуть видной зари раскрывались блестящие очи.
Поднимался светильник, и яркого ждали огня,
И сапфирный покров стал багряным предвестником дня.
Взял наставник лампаду – мерцала отрадно лампада,—
Дал мне руку, и вот мы направились к зарослям сада.
Из полы моей тотчас он вынул колючки иглу,
И несчетные розы в мою набросал он полу.
Я смеялся, как рот приоткрытый тюльпана; с размаху,
Словно роза, в восторге свою разорвал я рубаху.
Был я крепким вином из прекрасных пурпуровых роз.
Был затянут мой пояс, как пояс затянутых роз.
Я вину был подобен, вину, что отрадно кипело;
Я был розой, чья радость найти не умела предела.
Я меж роз пробирался, спешил я, спешил я туда,
Где меж веток и листьев, журча, зарождалась вода.
И лишь только Любовь добралась до прекрасного края,
Там, где веяла верность, благой аромат разливая,
Дуновенье любимой в речениях, полных красы,
Оживило мне душу, подобно дыханью Исы.
И мой конь побежал непоспешным, умеренным бегом,
Ветерков предрассветных предавшись прельстительным негам.
Я услышал: «Кичливый, с коня ты сойди своего,
Иль я тотчас тебя увезу из тебя самого».
Я, подобный ладье, уносимой поспешной рекою,
Внемля веянью рая, пришел к золотому покою.
И, поток увидавши, немедля сошел я с коня.
И направился к берегу. Жажда томила меня.
Был поток, словно свет, знать, вовеки не ведал он бури.
Сновидения Хызра не знали подобной лазури.
И как будто во сне, вдоль жасминных он тек берегов;
И дремали нарциссы, усеяв прибрежный покров.
Этот край был причастен лазури небесного края;
Перед амброю здешней склонялось дыхание рая.
И ползучие розы – услада отрадных долин —
Высоко поднимались, порой обвивая жасмин.
Этим розам свой мускус охотно вручили газели,
А лисицы – свой мех, чтоб колючки колоться не смели.
Свежий ветер склонил над прекрасною розой главу.
Молодая газель возле розы щипала траву.
Златоцветы слились; на своем протяженье немалом
Они стали для амбры большим золотым опахалом.
Зелень тешила взоры, ведь взоры в ней радость берут.
Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд. [87]87
Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд. – Сложный образ. Согласно поверью, изложенному в средневековом комментарии, если змея посмотрит на изумруд, она ослепнет, а изумруд растечется, растает. Таким сложным путем Низами сравнивает свежую зелень лужайки с растекшимся изумрудом.
[Закрыть]
Всюду розы с жасмином для мыслен засаду сплетали.
Соловьи с сотней горлинок рифмы по саду сплетали.
Однодневная лилия – счастье для местности сей —
Подняла свою длань, будто поднял ее Моисей.
Дикий голубь лесной, что воркует всегда на рассвете,
Увидал, что вся высь в голубином раскинулась цвете.
На листке черной ивы рукою надежд ветерок
Описать прелесть розы в душистом послании смог.
И всему цветнику приносила весна благодарность.
Розы никли к шипам: ведь за мягкость нужна благодарность.
Был жасмин словно тюрок; шатром разукрасил он сад.
Над шатром полумесяц вознес он до самых Плеяд.
Сердцевины тюльпанов – индусского храма эрпаты,
Все тюльпаны в молитве великою тайной объяты.
Воды белкой казались, и были они – горностай.
Горностай рядом с белкой – отрадою взора считай.
Ветви сада из света, что слали небесные дали,
У подножий деревьев на землю дирхемы бросали.
Пятна света в тени – золотого сиянья уста,
И песок славословил прекрасные эти места.
Гиацинта лобзанья терзают фиалку; а к розам
Льнут колючки, и розы внимают их нежным угрозам.
В златоцвета колчане не сыщется колющих стрел;
Но щитом золотым все ж прикрыть он себя захотел.
Заколдована ива, дрожит, но тюльпана кадило
В дым ее облекло: чародейство оно проследило.
Весь цветник трепетал, и казалось, вот-вот улетит;
И казалось, жасмин в легком ветре куда-то спешит.
И поднялся тростник, раздавать сладкий сахар готовый;
Желтый конь лозняка, – будто в кровь опустил он подковы.
Дальше дикая роза – нам спеси ее не пресечь —
С пролетающим ветром вела торопливую речь.
Стал небесный простор зеленее листка померанца.
В этот миг захотела рассвета рука померанца.
Разукрасил свой стяг небосвод бирюзовый, но тут
С ним решил состязаться прекрасной земли изумруд.
Каждый узел ковра, что земля распростерла для пира,
Был душою земли, был и сердцем надземного мира.
Будто в свете рассвета, промолвила счастья звезда,
Наклоняясь к земле: «Будь всегда молодою! Всегда!»
Или небо велело сойти своему изумруду
Не к кораллам зари, а к земли воскрешенному чуду?
Весь источник сверкал, взоров гурий являл он привет.
Из источника солнца добыл он сверкающий свет,
И прибрежные травы свершили свои омовенья
С благодарной молитвой за светлые эти мгновенья.
Птице в веянье розы печаль Соломона слышна,
И Давидову песню, грустя, затянула она.
На ветвях кипариса за раною новая рана:
Их когтит куропатка за смерть золотого фазана.
Сад указ разгласил, пожеланий своих не тая:
«Да убьет злого ворона сладкий напев соловья».
Совы скрылись; ну что же, ведь это их рок обычайный.
Знать, погибли за то, что владели опасною тайной.
Веял мягкий Сухейль на зеленый раскинутый стан;
И земля – не шагрень; вся земля – это мягкий сафьян.
Встретить утро спеша, был тюльпан преисполнен горенья.
Сердце тяжко забилось: приводит к беде нетерпенье.
Тень ветвистой чинары, влюбленная в стройный тюльпан,
Длань к нему протянула: ей дар врачевания дан.
Лепесточек жасмина, похожий на месяца ноготь,
Ноготь ночи унес, целый мир захотел он растрогать.
Появился Иосиф, небес позлащая предел.
В подбородке жасмина он ямку с высот разглядел.
Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. [88]88
Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. – Во времена Низами евреи ходили в желтых одеждах.
[Закрыть]Белея,
Заблестела вода, как блестящая длань Моисея.
И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла
Благодатной земле все добытое вновь отдала.
Свет, разросшись, велел ветру свежему снова и снова
Тень деревьев гонять по смарагдам земного покрова.
Тени! Солнца уста! Был и слитен узор и красив,
И расчесывал ветер прекрасные волосы ив.
И поспешные тени мгновенно сменялись лучами,
И лужайки, смеясь, их своими ловили ключами.
Я к алоэ стремился, к нему-то и мчался мой конь.
Стал душистой курильницей пурпурной розы огонь.
Соловью стала роза зеленой мечети мимбаром,
Стал фиалковый пояс для розы пленительным даром.
Птица с песней Давида – всем сердцем ее восприми!
Роза с речью прекрасней речей самого Низами.
Второе тайное собеседование (О ночном наслаждении)
Ветер смел покрывало, что мой прикрывало рассказ.
Сердце встретило розу, чей облик – отрада для глаз.
Видит сердце мое, видит розу с улыбкою сладкой;
Сахар с розой она победила мгновенного схваткой.
И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб.
С этим блеском бороться? Для этого слишком он слаб.
Ниспаданием локонов скрыта ее поясница.
Как прельстительна вся! Лишь во сне это может присниться,
Тот, что узрит ее, не удержит восторженных слез.
Сколько слез пролилось из-за столь восхитительных роз!
В ней и сахар и соль. Хоть красавиц на свете немало,
Для красавиц других больше сахара в мире не стало.
Ей пленять опьяненных, как свежему саду, дано.
Опьянит и отшельников крепкое это вино.
Алый рот – табархун; он багрянцем нежданным и смелым
Оттенил белый сахар. Пленен был он сахаром белым.
О тростник, полный сахара, розе пославший привет!
О сухой леденец! О душистый и влажный шербет!
И душа на алоэ, на родинку нежно взирала.
Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала.
И, завидуя прелести свежей такого пятна,
Темных пятен узор для себя сотворила луна.
Жарче солнца всю душу сжигали блестящие очи.
Не луной – лалом уст озарялось все таинство ночи.
К ней обозы сердец на фарсанги тянулись, но путь
Был что рот ее узкий. Кто к розе сумел бы прильнуть?
Растерзать все сердца эта роза была бы во власти.
И утратил я сердце, и сердце распалось на части.
Рот прекрасной – что речь, и улыбка – вот сахар его.
Лик подобен молитве, а в черных глазах колдовство.
Этот пурпурный рот – словно ларчик таимых жемчужин.
Все же он приоткрыт; для беседы он также ведь нужен!
И любовь поглядела на ларчик, на жемчуг, на взор,
И для дел лицедейства спеша расстелила ковер.
Облик, зримый для глаз, снять с меня вмиг она захотела,
И на шее души узелочек распутала тела.
И, казалось, во мне человеческих не было сил,
И воды бытия для себя я уже не просил.
Колдовавший мой разум увидел возникшего Дива.
«Заковать бы его!» – пожелал я, исполнен порыва.
Сердце страстью горело, печалям глубоким грозя,
Но источник сиянья ведь глиной замазать нельзя?
Да, лишь только печаль над печалью склоняется нашей.
Исцеляют хмельных только новою винною чашей.
Что ты морщишь свой лоб? Ты на мне видишь множество ран?
Но ведь ты не проведал, что сад мне живительный дан.
Сад мне небом вручен, а тепло его – блещущим оком.
Был мне розой рассвет, были слезы – отрадным потоком.
И, укрытый за тканью меня окружавших завес,
Был мне подлинным другом. Он послан был волей небес.
Многодневно чело на свои опускал я колени,
Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени.
И теперь я пошел по прямому, благому пути.
Друг мой, следуй за мною, за мною ты должен идти.
Ты не избран вести. Нужен опыт вседневный, богатый.
Все доверь Низами, – это опытный, верный вожатый.
Плод второго тайного собеседования
Повелитель сердец начал пиршество в некую ночь;
Побеседовать с равными был он в ту пору не прочь.
Ночь сияла зарей, и на небе мерцали Плеяды.
И к молитвам отзывчивой скоро достиг он услады.
И собрания прелесть был бы всем вёснам в упрек.
И услада была неизбежна, как благостный рок.
Ароматы курильниц в оконца дыхание бросив,
Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф. [89]89
Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф. – Ткань —рубашка Иосифа. Согласно Корану, отец Иосифа Иаков, ослепший от горя об утраченном сыне, прозрел, вдохнув запах рубашки Иосифа. Так стало известно, что Иосиф скоро вернется. Этот стих – гиперболическое описание аромата неизъяснимой прелести.
[Закрыть]
Ночь велела уйти всем отрядам охранных частей
И всех мошек смела. Да ничто не тревожит гостей!
Как за тканью узорной напевы звучали – о диво!
Знатоки песнопений, дивясь, восклицали: «О диво!»
Руки кравчих в шелках. Блещет золотом каждый кувшин.
И в жемчужные чаши расплавленный льется рубин.
Гасла печень, сгорая, и гасли светильники ночи.
Пламень сердца пылал, словно пламени рдяные очи.
И на плоских курильницах, блеском ласкающих взгляд,
Аромат создал сладкое, сладкое жгло аромат.
Сахар с розой в сосудах творил животворные чары.
Свет свечей, колыхаясь, бросал, золотые динары.
Было там и вино, что нас тешит и гасит печаль,
Рот и очи любимой и сахар несли и миндаль.
Рот и очи смеялись. И счастьем любовным и ликом
Восхищалась Зухра, предаваясь беседе с Маррихом.
Обещанья любовные слышал влюбленный, и смех
Стал сбирать с милых уст подаянье полночных утех.
Леопарду подобная, мускус душистый газели
Вниз бросает Зухра. Косы черные льва одолели.
Друг схватил ее ворот, его драгоценный рукав
Бросил искры каменьев, к пленительной шее припав.
Словно кравчий – свеча. Пламень – чаша. И кружится пьяный
Мотылек, и вином уже залиты все дастарханы.
Сна не стало, о нет, он сгорел, как сгорел мотылек.
И свеча благодарна, и клонит она фитилек.
И Зухра, запылав и созвучий предавшись усладам,
Жадный слух веселила стремительным, радостным ладом.
Два мышленья друг другу давали мгновенный ответ,
Брал светильник, светя, у другого светильника свет.
То, что многим давало медлительной жизни теченье,
Другом другу дарилось в одно золотое мгновенье.
Посылали дары – ведь восторга нельзя превозмочь! —
Сердце – сердцу, дух – духу и плоти влюбленная плоть.
Иль из пышных чертогов, которые к пиршеству звали,
Все, в чем нет бытия, за предел бытия побросали?
Птица радости ввысь полетела с отрадным письмом,
Чтоб Зухры благодатной обрадовать радостный дом.
Пламень птицы рассвета, [90]90
Пламень птицы рассвета… —Речь идет о солнце, которое в древности изображалось в виде крылатого диска.
[Закрыть]попавшей на вертел, прохладу
Даровал двум влюбленным, смиряя разлуки досаду.
Словно петел погибший, был скрытый рассвет недвижим.
Месяц был полонен, и застыл свод небесный над ним.
В дверь кольцом не стучали. Чужой! О, да будет далек он!
Обвивал шею милого нежной красавицы локон.
Что дверное кольцо, хоть мало оно очень? Смотри:
Меньше перстня обычного стала душа Муштари.
Те, что схожи с пери́, те, что будто назначены негам,
Все свободные души сломить порешили набегом.
Средь жасминов и роз, чтобы души попадали ниц,
Все колючки они заменили шипами ресниц.
О плоды! Ведь сердца не вкушали столь сладких ни разу.
Млели души. Пери́ не подобны ли гибкому вязу?
Сладкий рот что орешек! И взоров миндаль. И предлог
Для лобзанья – фисташка, [91]91
Для лобзанья – фисташка… —Приоткрытый рот красавицы часто сравнивают в поэзии на фарси с раскрывшейся фисташкой.
[Закрыть]и нежный над нею пушок!
В ночь, что слаще пушка, волхвовали: колдун Вавилона —
Черный взор, да индус – прелесть родинки. Бойся полона!
Ведь от родинки черной, от взоров, таящих обман,
Вся земля – Вавилон и любая страна – Индостан!
Взгляд ответил на взгляды, и сердце в решении скором
В путь священный пошло, чтоб склониться пред блещущим взором.
Но язык быстрых взоров опасней был множества стрел,
Кудри были запутанней всех человеческих дел.
Каждый взгляд был как лучник, влюбленный, и нежный, и смелый.
Тяжко сердце разили еще не летящие стрелы.
Не дыханье ль Исы оживляло сердца? И могуч
Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ.
Запах роз и жасмина струился влюбленным в угоду,
И попона служенья легла на плечо небосводу.
Сахар сладких ланит… миндали рассыпающий лал…
О, какой сладкий сахар на лике прекрасном лежал!
Каждый взгляд открывал в целый мир неожиданно дверцу.
В каждой черной реснице был храм, предназначенный сердцу.
Был у белой щеки черный локон безмерно красив!
Словно мускус лежал на серебряных листиках ив.
Подбородок округлый был с нежною ямкой. Но что же
Ты сравнил бы с лицом? На него только солнце похоже.
Авраамовы кудри – к светилу приникли они.
Исмаила глаза, а ресницы – кинжалам сродни.
Но ресницы чаруют, и милая блещущим ликом
Все сердца опьяняет: душистым он стал базиликом.
Поцелуи томят, убивают. Ну что ж? Ведь уста,
Как Иса, воскресят – чаша жизни не будет пуста.
Капли пота на розе влюбленного радуют взгляды.
Это – жатва луны, и блестят они, словно Плеяды.
Растворилась калитка на вороте гурии. Свет,
Что нежнее зари, нежным взорам направил привет.
Каждый муж многоопытный, каждый бездумный, немудрый
Обезумел от света, что бросил кумир чернокудрый.
Говорили глаза, коль смолкала усталая речь;
Им хотелось уста от их связанной речи отвлечь.
Золотое вино в светлой чаше – нарцисс. Ароматом
Все оно заполняло в чертоге большом и богатом.
Разум быстро хмелел. Круг за кругом прошел он, и вдруг
Все терпенье, увы, у него ускользнуло из рук.
Все уста пировавших полны были только лишь смеха.
Было трудно вздохнуть… бесконечная длилась утеха.
Не смиренным найти в этих звуках источник услад.
Только буйным звучал этой песни возвышенный лад.
И сумел этот лад в полнозвучном и мерном рассказе
О Махмуде сказать и сказать о прекрасном Аязе.
И стихи Низами разбросали и сахар и хмель,
Воспевая пери́, за газелью поющих газель.
Речь первая – о сотворении человека
Жизни той, что цвела на разостланном богом ковре,
Вновь не стало. Смотри: сколько смен в этой вечной игре!
Ухо сердцу писало о всем, что даровано слуху.
Взор склонялся к земле, всем явлениям близкий по духу.
Сахар сладость утратил от смеха тюрчанок, а глаз
Горячее сверкал, видя гурий, настроивших саз.
И мой тюрок, – мой месяц в касабе сверкающем белом
Разорвал мое сердце набегом внезапным и смелым.
Полумесяц, на темень махнувший с презреньем рукой,
Нам бессменно сиял, осветив наш отрадный покой.
Если взор ее быстрый во взор мой кидался с размаху,
Вся душа, преклоняясь, мгновенно подобилась праху.
Так светила она, что свеча истекала в слезах,
А светильник мигал и от горестной зависти чах.
Пусть чинила она мне любую обиду, я в этом
Видел только лишь благо, и ночи казались мне светом.
И она предо мною сияла прибрежным цветком,
Я, смиренно склонясь, расстилался пред ней ручейком.
Но в те ночи с любимой, лобзанья вкушая с ней вместе,
Словно фиников сладость, не внял я таинственной вести.
Я не ведал, что месяц, которого сладостней нет,
Тайный месяц скрывал, – тот, который воистину свет.
Был влюблен я в себя, но любим был я месяцем дальным.
Он грустил обо мне, но меня заставал беспечальным.
Сердце в страсти шептало: «О, если бы пламенный день
Нашей ночи не сжег, не спугнул ее сладкую тень!»
Но ведь ночи мои не сулили покоя. С испугом
Вдаль гляжу: в Судный день их сочту ли ходатаем, другом?
Жду я ночи, сияющей в солнечном, в дивном огне!
Но желанная ночь мне не видится даже во сне.
Лишь в подобную ночь мне была бы доступна отрада.
Я возжаждал ее, и других мне ночей уж не надо.
И шепчу я: «Господь, ты мне все помоги превозмочь,
Лишь бы только увидел я эту горящую ночь!»
Эта ночь – озаренье, над тягостной тьмою победа,
Эта ночь – словно ночь для надзвездных путей Мухаммеда.
Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник;
Дивной ночи желая, к кирке он с упорством приник.
День, что только и дышит своей неприязнию к ночи,
Также к ночи благой устремляет горящие очи.
Я проснулся, и солнце, свой меч на дороге зари
Поднимая, промолвило: «Небо, мне дверь отвори!»
И от пламени солнца, узрев эти рдяные розы,
На айвана ковер пролил я бесконечные слезы.
В небе облако встало. Омыло оно с высоты
Ткань, скрывавшую солнце, – душистых деревьев листы.
В голубом водоеме, запруженном солнцем, кувшины
Мы разбили б свои, уцелеть бы не смог ни единый.
Небосвод, полный звезд, отказался от их серебра,
Молвив: «Чистого золота уж наступила пора!»
Утро быстро проснулось и в свете сверкающем, алом
Вслед кровавой заре побежало с блестящим кинжалом.
Битвы с ним я страшился. Я тотчас же бросил свой щит,
Сделав душу щитом. Злое утро смертельно разит.
Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало,
И ночной звездный мост предо мною оно разломало.
И зажглось мое сердце, и так закричало, горя:
«Разве ты – отомщенье? Иль ты – воздаянье, заря?
Знал я много услад, видел нежные очи, бывало,
Я лампады имел, озарявшие ночи, бывало.
Но те ночи ушли, тех лампад мне не видится свет;
Их как будто бы не было, нет их уж более, нет!
Так ужаль мою грудь, ты, мне бывшая сладким напитком,
Ты, что нежила сердце, предай меня сладостным пыткам.
На несветлого сердцем направь свой безжалостный меч,
Ведь того, кто сожжен, без труда можно пламенем жечь!»
Так не мог удержать я ни горького плача, ни стона,
И кровавые слезы заря полила с небосклона.
И сгорел светлый день от моей беспросветной тоски.
Ключ светила замерз, и холодные сжал я виски.
Но хоть яд я вкушал, небеса мои ведали муки,
И ночная змея светлый камень мне бросила в руки.
И когда растворился я в светлом сиянье зари,
Я забыл обо всем и услышал: «Душой воспари!»
Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели,
Света больше, чем зори, принять в свои души сумели.
Как бесславны твои беспросветные ночи! Огнем
Им гореть со стыда перед новым ликующим днем.
Я постиг эту ночь, я постиг этой ночи призванье,
Мне в моем постиженье мое помогало познанье.
Ткань завесы безмолвия! Мир одиночества – ночь!
А свеча – наше зренье. Нам сумрак дано превозмочь.
Розы страстных ночей, их душистый джуляб и алоэ —
Многих раненных в сердце беда и мучение злое.
То, что благом ты счел, то, чему оказал ты почет,—
Было только преддверьем той ночи, которая ждет.
Кто во тьме, что чернее, чем негр, провлачил свои годы,
Ржою тот изъязвлен, все нутро ему съели невзгоды.
Но зарей, что к свече так влеклась, как любой мотылек,
Свет свечи заблестел, и к прозренью меня он повлек.
Так возьми же свечу, хоть она угрожает ожогом.
Светоч взял Низами. Этот светоч вещает о многом.
До поры, как любовь не явила дыханье свое,
В бездне небытия не могло засиять бытие.
Но счастливец великий в своей непостижной отчизне
Захотел бытия, и завесы раздвинул он жизни.
Он был сыном [92]92
Он был сыном… – Течьидет об Адаме.
[Закрыть]последним воздушных, летучих пери,
Первым сыном людским в озарении первой зари.
Получил он от неба халифства величье, но следом
Свой утратил он стяг. [93]93
Свой утратил он стяг. —Намек на грехопадение.
[Закрыть]После снова пришел он к победам.
«Он творцом был научен». О, сколько в нем чистого есть!
«Бог месил его глину». Какая безмерная честь!
Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же – пытливый меняла.
Он – любимец крылатых, смутивший их райский покой.
Со щеками в пушке, этот юноша – образ людской.
Взять опястье Адама! Для каждой души это – счастье!
На запястье ему семь небес ниспослали опястье.
Две больших колыбели Адама баюкать могли:
В нем все помыслы неба и все помышленья земли.
В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог.
Он – великий мудрец, если лет ему минуло сорок.
Он предвестник любви, он, любовь порождая, возник.
Он, как розовый куст благодатного рая, возник.
Это – взора всезрящего отблеск; исполнен он света;
Это – птица с ветвей, что над миром раскинулись где-то,
Птиц небесных привлек он к своих поучений зерну.
И глядят они вниз, постигая всю их глубину.
Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко [94]94
Пшеничное зернышко…– По Корану, Адам, совершая грехопадение, съел зерна пшеницы, а не яблоко, как в Библии. Здесь и далее Низами утверждает превосходство Мухаммеда над всеми другими, прежними пророками, включая в их перечисление, как и некоторые другие мусульманские авторы, Давида и Иосифа.
[Закрыть], зная,
Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая.
Он попался в силок, хоть одно лишь он видел зерно.
О, как было мало, о, как было ничтожно оно!
И пришел он с молитвою в мир бытия, и в поклоне
Все склонилось пред ним. На земном воцарился он лоне.
Он для всех был кыбло́й, он для всех был в сиянии зрим.
Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним. [95]95
Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним. – Намек на Иблиса, дьявола, согласно Корану, не пожелавшего поклониться Адаму и извергнутого за это Аллахом из сонма ангелов.
[Закрыть]
Лепестки, что он сыпал, что прежде в Эдеме блистали,
Стали негой для всех, а для дьявола – углями стали.
Но без рода людского он счастья не знал бы совсем.
Для него, одинокого, цвел бы напрасно Ирем.
У кого бы другого была столь великая сила,
Чтобы дел человеческих горе его не сломило?
Было сердце его страстью к светлой пшенице полно.
Как пшеницы зерно, от огня раскололось оно.
И стремленье уйти, и забыть о лазоревом крове,
Есть пшеницу земную – и сладко все было и внове.
Ни отца, ни детей. Как зерно, должен он прорасти
И в камнях быть измолотым. Ждал он такого пути.
Только брошенный в землю, надеждою стал он земною,
Светлоликим он стал. Ведь прощен был он силой иною.
И на тело его зной набросил – пшеничную тень.
Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень.
Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора?
Вновь ячмень загрустил. Ведь пшеница отрадней для взора.
Лишь в эдемском саду съел нежданно пшеницу Адам,
Вскрылось сердце его, и желаньем он был уж не там.
Как унижен он был; жаждал этого демон двурогий.
Съел пшеницу Адам, и свернул он с надежной дороги.
К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно.
Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно.
И лишь только пшеница всеобщею стала едою,
Рот раскрыла она, угрожая всеобщей бедою.
Где истоки души? Миновал им назначенный срок.
Да, пшеничное зернышко – это опасный силок.
Ешь лепешки ячменные. Надо ль к иному стремиться?
Вспомни участь Адама: его обманула пшеница.
Обладающий сердцем! Ты дьяволу молви – не лги!
Мощный лев шаханшаха, не стань ты собакой слуги!
Не свершай омовений; сперва ты избавься от срама
Прегрешений своих; в этом следуй примеру Адама.
Благотворно раскаянье. Шествуй по древним следам.
Испытавши раскаянье, многое понял Адам.
Вожделенье направив к сверканью увиденных зерен,
Стал он нивам земли, стал он темному праху покорен.
Он обман свой увидел. И грех был не легок, не мал:
Соблазненный пшеницей, в силок он навеки попал.
Смятой розе греха многослезный поток он направил
И свой царский шатер в Сарандибе затем он поставил.
От греха он бежал, и свой черный направил он лик
В эту землю, чтоб в ней черный род возле моря возник.
Брал индиго он там из небесного хума, одежды
Красил им в Индустане: еще он не ведал надежды.
Но греха синеву он с ладоней отмыл, и у ног
Новый злак он узрел. А индиго текло, как поток.
Стал он тюрком китайским. Он месяцем стал белоликим,
Спрятав кудри греха покаяния шапкой. Великим
Овладел на земле он престолом, когда от грехов
Он смиреньем избавился. Ждал его царственный кров.
На земле справедливости сеял он истины семя,
Дал он правду в наследье народам на долгое время.
У хранителя рая сокровища взял он и, рай
Покидая, принес их в земной новонайденный край.
Так воспользуйся, смертный, с такого богатства доходом!
Он посеял, а жатву он всем предоставил народам.
От Дыханья кадила алоэ дышать тяжело.
Мастер седел виновен, что ослику тяжко седло.
Но ведь все ж не напрасно, о смертный, ты призван для жизни,
Милосердье в своей ты порою встречаешь отчизне.
На реке юных дней, в свежих розах, стремится ладья.
Зацепиться страшись за шипы своего бытия.
Будет осень, так в путь ты весной устремляйся, счастливый,
Ты боязни не знай: все сгорят и сгорит боязливый.
Ты не лев, о трусливый; нет, ты не подобие льва.
И душе твоей робкой отважные чужды слова.
Можно льва написать под высокой дворцового сенью,
Но и сотней ударов его не принудишь к движенью.
Человеку прекрасных, небесных одежд не дано.
Праху – прах. Никаких ему светлых надежд не дано.
Как бессильна звезда, что горит обещанием счастья.
Плачет сердце твое. А печали не видят участья.
Почему же тебя, разрушителя вражеских стен,—
Огневой небосвод захватил в неожиданный плен?
Ты в круженье небесном, так будь с препоясанным станом
В услуженье покорном. Его не избегнуть обманом.
Будь подобен огню, ничего нет быстрее огня.
Не отстань от созвездья, свою устремленность храня.
Будь водою ты легкой, которою славятся долы.
Ведь вода не тяжелая много ценнее тяжелой.
Только тонкостью стана людской обольщается глаз.
Только легкие души ценны и желанны для нас.
Ветер мира свершает движенья свои круговые,
Ты, что Каф, недвижим. Где ж порывы твои огневые?
Иль в стремлении к розе шипов одолеть ты не смог?
На себя не гляди, как фиалки склоненный цветок.
Ты лишь только собой населяешь земные просторы,
На себя самого направляя беспечные взоры.
В этом доме обширном ты каждый одобрил предел,
Но ты в доме – ничто. Ведь не этого все ж ты хотел?
Сам в себя ты влюблен, перед зримым в восторге великом.
И, как небо, ты зеркало держишь пред блещущим ликом.
Если б соль свою взвесил, ты спесь бы свою позабыл;
И тогда бы за все небесам благодарен ты был.
Позабудь притесненье. Отправься в иную дорогу.
Что есть люди, скажи? Устремляйся к пресветлому богу.
Ты познай его благость, лишь этим себя мы спасем.
Ты познай свою скверну и небу признайся во всем.
Если ты устыдишься, к молитвам в слезах прибегая,
Милосердной и щедрой окажется сила благая.