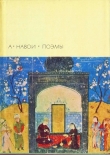Текст книги "Пять поэм"
Автор книги: Гянджеви Низами
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 43 страниц)
Румийская царевна
День четверг ничем от века злым не омрачен,
Муштари – планете светлой – древле посвящен. [324]324
День четверг… Муштари… древле посвящен. – Муштари– планета Юпитер, она – покровитель четверга (ср. французское jeudi из Jovis dies – день Юпитера).
[Закрыть]
Лишь сандаловый с зарею заклубился прах,
В цвет сандаловый оделся утром славный шах.
Из чертогов бирюзовых золотом тропы
Он к сандаловым чертогам устремил стопы.
И царевною румийской чистое вино,
Словно гурией, Бахраму там поднесено.
И пока не омрачился ясный небосклон,
В том сандаловом чертоге веселился он.
Только раковина ночи, встав из океана,
Перлами наполнила пасть Левиафана, [325]325
Только раковина ночи, встав из океана,// Перлами наполнила пасть Левиафана… – то есть наступила звездная ночь. Ночь сравнивается с раскрытой пастью чудовища, в которой сверкнули зубы-жемчуга.
[Закрыть]—
Ту, которая в прекрасном Руме расцвела,
Попросил Бахрам, чтоб с сердца пыль она смела.
Юная княжна морщинку согнала с чела
И из финика источник сладкий извлекла. [326]326
И из финика источник сладкий извлекла. – То есть из ротика, сладостного, как финик, повела сладостные речи.
[Закрыть]
Так сказала: «Дух вселенной жив душой твоей,
Первый ты из падишахов, славный царь царей.
Больше, чем песка в пустыне и воды в морях,
Дней счастливых в этой жизни да получит шах!
Ты, как солнце, свет даруешь, троны раздаешь.
Я боюсь, что для рассказа слог мой нехорош.
Все же, если сердцу шаха надобна утеха
И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха, [327]327
И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха. – По представлениям тогдашней медицины, шафран прогоняет печаль, радует.
[Закрыть]
Я раскрою свиток – пусть он писан вкривь и вкось, [328]328
Я раскрою свиток – пусть он писан вкривь и вкось… – то есть красавица не умеет хорошо говорить на том языке, на котором говорит Бахрам, и просит прощения за ошибки.
[Закрыть]
Может быть, развеселится мой прекрасный гость.
Может быть, ему по вкусу быль моя придется,
И запомнится, и в сердце долго не сотрется».
Завершила славословье юная луна,
И поцеловала руку шахскую она.
«Двое юношей, покинув как-то город свой,
По делам торговым в город двинулись иной.
Первый звался – Хейр, что значит – Правда. А другой? —
Шерр, что значит – Кривда. Каждый в жизни шел стезей,
С именем своим согласной. Путь их был далек.
Хейр в пути свои припасы ел, а Шерр берег.
Так, идя, они вступили через два-три дня
В знойную пустыню, словно в полную огня
Печь огромную, где бронза плавилась, как воск,
В голове вскипал от зноя пышущего мозг.
Ветерок степной ланиты обжигал огнем,
Не было воды в пустыне, – ведал Шерр о том,
И в дорогу мех немалый он воды припас
И берег его, как жемчуг, не спуская глаз.
Хейр пустыней шел беспечно и не ждал беды,
И не знал он, что в пустыне вовсе нет воды.
Он в ловушку, как в колодец высохший, попал.
День седьмой уже дороги трудной наступал.
Кончилась вода у Хейра. А у Шерра был
Мех воды, что он от взглядов друга утаил.
Видел Хейр, что Шерр коварный, полный водоем
У себя воды скрывая, пьет ее тайком,
Как благоухающее светлое вино.
Он, хотя сгорал, палимый жаждою давно,—
Губы до крови зубами начинал кусать,
Чтоб язык от недостойной просьбы удержать.
Так терзался Хейр, когда он на воду глядел,
И, как трут, от лютой жажды иссыхал и тлел.
Два прекрасных чистых лала он имел с собой,
Их вода ласкала зренье блеском и игрой,—
Так сияла ярко влага – в лал заключена.
Но была усладой взгляда, а не уст она.
Вынул Хейр свои рубины, Шерру предложил,—
На песок, впитавший воды, камни положил.
«Друг! Спаси меня, – сказал он, – от лихой беды!
Я от жажды умираю… Дай глоток воды!
Естество мое водою чистой освежи,
А взамен – мои рубины в пояс положи!»
А жестокий Шерр, – да грянет божий гром над ним,—
Развернул пред Хейром свиток с именем своим. [329]329
Развернул пред Хейром свиток с именем своим– то есть проявил таившееся в нем зло (его имя «Шерр» – значит «зло»).
[Закрыть]
Он сказал: «Из камня воду выжать не трудись,
И, как я, от обольщений ты освободись.
Без свидетелей рубины ты мне хочешь дать,
Чтобы в городе на людях взять себе опять?
Я не глуп! Я на приманку эту не пойду.
Я, как див, кого угодно сам в обман введу.
Сотни хитростей, хитрее, тоньше, чем твоя,
Над хитрейшими когда-то сам проделал я.
Мне такие самоцветы не накладно взять,
Коих ты не сможешь позже у меня отнять!»
«Молви, что за самоцветы? – Хейр его спросил.—
Чтоб я за воду скорее их тебе вручил!»
«Это пара самоцветов зренья твоего! —
Шерр сказал. – И нет ценнее в мире ничего.
Дай глаза мне и водою жар свой охлади.
Если ж нет, – от сладкой влаги взгляды отведи
И не жди! Не дам ни капли!» Хейр сказал: «Земляк!
Неужель меня на муки и на вечный мрак
За глоток воды осудишь? Сладостна вода
Жаждущим! Зачем же очи вырывать тогда?
Ты счастливее не станешь, я же, свет очей
Потеряв, несчастным буду до скончанья дней.
О, продай за деньги воду! Всю казну мою,—
В том расписку дам, – тебе я здесь передаю
И такою сделкой счастлив буду весь свой век.
Дай воды, глаза оставь мне, добрый человек!»
Шерр ответил: «Эти басни слышал я не раз.
У тебя, видать, немалый выдуман запас.
Мне глаза нужны! Что толку мне в твоей казне?
Для меня глаза живые выше по цене!»
Растерялся Хейр и понял, что он здесь умрет,
Что из огненной пустыни ног не унесет.
Он взглянул на мех с водою, сердца не сдержал
И, вздохнув, промолвил Шерру: «Встань, возьми кинжал,
Огнецветные зеницы сталью проколи!
И за них огонь мой влагой сладкой утоли!»
Молвив так, имел надежду Хейр в душе своей,
Что не выколет угрюмый Шерр его очей.
Но клинок в руке у Шерра мигом заблестел.
Он к измученному жаждой вихрем подлетел,
В светочи очей стальное жало он вонзил
И не сжалился – и светоч зренья погасил.
Сталью дал он двум нарциссам – розы цвет кровавый.
Словно вор выламывает лалы из оправы,—
Яблоки глазные ранил он своим клинком,
Но потом не поделился влагой со слепцом.
Платье, ценности, пожитки отнял у него
И безглазого беднягу бросил одного.
Понял Хейр, что вероломным Шерром брошен он.
Жженьем ран палим и жаждой, наг, окровавлен,—
Он упал на раскаленный огненный песок.
Хорошо еще, что видеть он себя не мог.
Некий из старейшин курдских, знатный муж, тогда
От него неподалеку гнал свои стада.
Без числа у курда было доброго скота.
Кони – вихрь, верблюды – чудо, овцы – красота!
Курд, как ветер, – друг равнины, легкий странник гор, —
По степям своим кочует, любит их простор.
Место, где трава и воды, он облюбовал
И на месте том недолгий делает привал.
А съедят траву и воду выпьют наконец,—
Дальше гонит он верблюдов и стада овец.
Этот курд случайно, за два дня до злодеянья,
Там, как лев, расправить когти возымел желанье.
Дивной красоты имел он молодую дочь.
Родинка у ней – индиец, очи – словно ночь.
У отца родного в неге дева возросла,
Под палящим небом степи розой расцвела.
Как тяжелые канаты, за собой влекла
Косы цвета воронова черного крыла.
Кудри тенью осеняют золото ланит.
Лик у выросшей на воле свету дня открыт.
Взгляд ее чудесным блеском души обжигал,
Силу обольщений рока, дивов побеждал.
Тот, кто в сети вавилонских чар ее попал,
Счастлив был и лучшей доли в мире не желал.
Черноту в кудрях у девы – полночь обрела.
А луна у лика девы свет взаймы брала.
Вот она кувшин с высоким горлышком взяла,
К потаенному колодцу за водой пошла.
Доверху кувшин холодной налила водой,
На плечо его поставив, понесла домой
И внезапно услыхала стоны вдалеке.
И пошла и увидала Хейра на песке,—
Весь в крови, в пыли лежал он, раной истомлен,
И стонал от жгучей боли, и метался он,
Бил руками и ногами оземь, умолял
Бога, чтоб от мук избавил, смерть скорей послал.
И, беспечная, беспечность мигом позабыв,
Подошла к нему с участьем, ласково спросив:
«Молви – как сюда попал ты? Кто ты – объяви,
Здесь без помощи лежащий, весь в пыли, в крови?
Кто насилие такое над тобой свершил?
Молви, кто тебя коварством адским сокрушил?»
Хейр сказал: «Земная, с неба ль ты – не знаю я;
Повесть необыкновенна и длинна моя.
Умираю я от жажды; зноем я спален:
Коль не дашь воды – я умер; напоишь – спасен».
И ключом спасенья стала дева для него.
Чистой влагой оживила Хейра естество.
Он, внезапно ободренный, как живую воду,
Воскрешающую мертвых, пил простую воду,
И воспрянул понемногу в нем увядший дух.
Тем был счастлив и случайный мученика друг.
А когда водою чистой дева смыла кровь,
То на раны глаз взглянула; хоть покрыла кровь
Их белки и туз их белый рделся, как порфир, [330]330
Их белки и туз их белый рделся, как порфир… – Туз– очень прочная кора белого тополя, применявшаяся для обмотки луков. Низам» хочет сказать, что белки Хейра были, на его счастье, крепки, как туз, и оказались лишь рассеченными по поверхности, глазные яблоки же сохранились, глаза не вытекли.
[Закрыть]
Цел был яблоки глазные облекавший жир.
Склеив ранки глаз поспешно, дева наложила
Чистую на них повязку. Сил еще хватило
У него подняться с места с помощью своей
Избавительницы милой и пойти за ней.
Жалостливая – страдальца за руку взяла
И, поводырем слепому ставши, повела
К месту, где шатер отцовский на холме стоял
Среди пастбища и голых раскаленных скал.
Нянюшке, которой было все доверить можно,
Поручив слепца, сказала: «Няня! Осторожно —
Чтоб ему не стало хуже – гостя доведи
До шатра!» И побежала быстро впереди.
И, войдя в шатер прохладный – к матери своей,
Все, что видела в пустыне, рассказала ей.
Мать воскликнула: «Зачем же ты с собой его
Не взяла? Ведь там загубит зной дневной его!
Здесь же для него нашлось бы средство, может быть,
Мы б несчастному сумели муки облегчить!»
Девушка сказала: «Мама, если не умрет
У порога он, то скоро он сюда придет.
Я его и напоила, и с собой взяла».
Тут в шатер просторный нянька юношу ввела.
Хейр усажен на подушки и обласкан был,
Отдохнул и отдышался, голод утолил.
Жаждой, ранами и зноем изнуренный, он,
Голову склонив, невольно погрузился в сон.
Из степей хозяин прибыл вечером домой,
Необычную увидел вещь перед собой.
Он устал, проголодался долгим жарким днем,
Но при виде раненого желчь вскипела в нем.
Словно мертвый, незнакомец перед ним лежал.
Курд спросил: «Отколь несчастный этот к нам попал?
Где, зачем и кем изранен он так тяжело?»
Хоть никто не знал, что с гостем их произошло,
Но поспешно рассказали, что его нашли
Ослепленного злодейски, одного, вдали
От жилья в пустыне знойной. И сказал тогда
Сострадательный хозяин: «Может быть, беда
Поправима, если целы оболочки глаз.
Дерево одно я видел невдали от нас.
Надо лишь немного листьев с дерева сорвать,
Растереть те листья в ступке, сок из них отжать.
Надо место свежей раны смазать этим соком,
И слепое око снова станет зрячим оком.
Там, где воду нам дающий ключ холодный бьет,—
Чудодейственное это дерево растет.
Освежает мысли сладкий дух его ветвей.
Ствол могучий раздвоился у его корней;
Врозь расходятся широко два ствола его,
Свежие, как платья гурий, листья одного
Возвращают зренье людям, горькой слепотой
Пораженным. А соседний ствол покрыт листвой
Светлой, как вода живая. Он смиряет корчи
У страдающих падучей и хранит от порчи».
Только эту весть от курда дочка услыхала,—
Со слезами на колени пред отцом упала,
Умоляя, чтоб лекарство сделал он скорей.
Тронут был отец мольбами дочери своей;
К дереву пошел и вскоре листьев горсть принес,
Чтоб от глаз любимой дочки воду горьких слез
Отвести, а воду мрака вечного – от глаз
Юноши. И молодая дева в тот же час
Листья сочные со тщаньем в ступке измельчила,
Осторожно, без осадка, сок их отцедила.
Юноше в глаза пустила чудодейный сок.
Крепко чистый повязала на глаза платок.
Тот бальзам страдальцу раны, словно пламя, жег.
Лишь под утро боль утихла, и больной прилег.
Так пять дней бальзам держали на его глазах
И повязку не меняли на его глазах.
И настал снимать повязку час на пятый день.
А когда лекарство смыли с глаз на пятый день,
Видят: чудо! Очи Хейра вновь живыми стали.
Стал безглазый снова зрячим, зорким, как вначале.
С ликованием зеницы юноши раскрылись,
Словно утром два нарцисса свежих распустились.
А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был! [331]331
А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был!– Волам, вертящим на старинных примитивных мельницах жернова, завязывают глаза.
[Закрыть]
Горячо хозяев милых он благодарил.
И с мгновенья, как открыл он зрячие зеницы,—
Мать и дочь сердца открыли, но закрыли лица. [332]332
Мать и дочь сердца открыли, но закрыли лица. – То есть они его полюбили, но закрыли лица покрывалами, ибо он теперь прозрел, мог их видеть, а, по мусульманскому религиозному закону, посторонний мужчина не должен видеть лицо женщины.
[Закрыть]
Дочка курда полюбила гостя своего
От забот о нем, от страхов многих за него.
Кипарис раскрыл нарциссы вновь рожденных глаз,—
И сокровищница сердца в деве отперлась.
Сострадая, возлюбила юношу она,
А прозрел – и вовсе стала сердцем не вольна.
Гость же для благодарений слов не находил
И за многие заботы деву полюбил.
И хоть никогда не видел он лица ее,
Но пришельцу раскрывалась вся краса ее
В легком шаге, стройном стане и в очах ее,
Блещущих сквозь покрывало, и в речах ее
Сладких – к гостю обращенных… Ласки рук ее
Часто гостю доставались. Новый друг ее
Был прикован к ней могучей властью первой страсти.
Дева – к гостю приковалась, – это ли не счастье?
Что ни утро – Хейр хозяйский покидал порог.
Он заботливо и мудро курда скот берег.
Зверя хищного от стада отгонять умел.
Ввечеру овец несчетных в гурт собрать умел.
Курд, почуяв облегченье от забот, его
Управителем поставил дома своего
И добра. И стал он курдам тем родней родни,
И взялись допытываться в некий день они,
Что с ним было, кем в пустыне был он ослеплен.
И от них не скрыл он правды. Им поведал он
Все – и доброе и злое, с самого начала:
Как у друга покупал он воду за два лала
И о том, как ранил сталью Шерр зеницы глаз,
И, коварно ослепивши, бросил в страшный час
Одного его в пустыне, и, воды не дав,
Скрылся, платье и рубины у него украв.
Честный курд, лишь только повесть эту услыхал,—
Вознеся молитву небу, в прах лицом упал,
Возблагодарив Яздана, что не погубил
Юношу, что цвет весенний в бурю сохранил.
Женщины, узнав, что этот ангелоподобный
Юноша исчадьем ада мучим был так злобно,—
Всей душою привязались к гостю своему.
Слугам дочь не позволяла услужить ему,
А сама у них и яства и кувшин брала,
Воду Хейру подавала, а огонь пила.
И пришлец без колебаний отдал сердце ей,
Ей – которой был обязан жизнью он своей.
И когда он утром в степи стадо угонял,
Вспоминал о ней с любовью, с грустью вспоминал.
Думал он: «Не дружит счастье, вижу я, со мной.
Нет, не станет мне такая девушка женой.
Беден я, она – богата, совершенств полна.
Ей немалая на выкуп надобна казна.
Я – бедняк, из состраданья принят ими в дом…
Как же можно о союзе думать мне таком?
От того, чего я жажду и чему не быть,—
Без чего мне жизнь не радость, – надо уходить».
В размышлениях подобных он провел семь дней.
Как-то вечером пригнал он стадо из степей.
Перед курдом и любимой он своею сел.
Словно нищий перед кладом, перед нею сел,
Словно жаждущий над влагой, жаждущий сильней,
Чем когда лежал, томимый раною своей.
И во всем он им признался. Через брешь его
Сердца – скорбное открылось Хейра существо
Перед курдом. Хейр промолвил: «О гостелюбивый
Друг несчастных и гонимых! Ты рукой счастливой
Оживил мои зеницы, горькой слепотой
Пораженные! Мне снова жизнь дана тобой!
Ел и жажду утолял я с твоего стола,
Жизни чистый хлеб вкушал я с твоего стола.
Осмотри внутри, снаружи осмотри меня:
Кровью всей моей, всей жизнью благодарен я!
Отдарить же я не в силах, – в том моя вина.
Голову мою в подарок хочешь? Вот она!
Мне в беспечности отныне стыдно пребывать
И твоею добротою злоупотреблять.
Ведь за то добро, что здесь я получил от вас,
Неимущий – я не в силах отплатить сейчас.
Может, смилуется вечный надо мною бог:
Даст мне все, чтоб я пред вами долг исполнить мог.
Затоскую, лишь от милых сердце удалю…
Но уволь меня от службы, отпусти, молю!
Много дней, как я оторван от краев родных,
От возможностей немалых и трудов своих.
Завтра поутру собраться я хочу домой…
Хоть от вас и удаляюсь, но всегда душой
Буду с вами я, о ясный свет моих очей!
Я душой прикован к праху у твоих дверей.
Я уйду, но ты из сердца Хейра не гони.
Хоть и буду я далеко, Хейра не вини
За уход! Великодушья разверни крыла,
Чтобы память сожаленьем душу мне не жгла».
Лишь на этом речь окончил юноша свою,—
Будто бы огонь метнул он в курдскую семью.
Все сошлись к нему. Рыданья, стоны поднялись.
Вздохи слышались, и слезы по щекам лились.
Плачет старый курд. Рыдает дочка вслед за ним.
Стали мокрыми глаза их, мозг же стал сухим.
Кончили рыдать, в унынье головы склонив,—
Старый курд сидел в раздумье долгом, молчалив…
Поднял голову с улыбкой. Он, казалось, был
Озарен счастливой мыслью. Он освободил
Свой шатер от посторонних – пастухов и слуг,
И сказал: «О мой разумный, благонравный друг!
Может, прежде чем достигнешь города родного,
Встречными в пустыне будешь ты обижен снова!
Жил ты – окружен заботой, как родной, у нас.
Был, как приведенный небом и судьбой у нас.
Добрый же своих поводьев злу не отдает
И друзей от всяких бедствий зорко бережет.
Дочь одна лишь – дар бесценный бога у меня.
Сам ты знаешь. А богатства много у меня.
Дочь услужлива, любезна, и умна она.
Я солгал бы, коль сказал бы, что дурна она.
Спрятан мускус, но дыханьем внятен для людей,
И чадрой красы не скроешь дочери моей.
Если, друг, ты расположен к нам душой своей,
Сыном стань моим и мужем дочери моей.
Избираю нашей дочке я тебя в мужья.
Чтобы жили вы безбедно, дам богатство я,
И в покое, в ласке, в счастье буду я средь вас
Жить, покамест не наступит мой последний час!»
Только Хейр такое слово курда услыхал,
Радостный, лицом на землю он пред ним упал.
Весело они беседу в полночь завершили.
Разошлись и в благодушье, в мире опочили.
Лишь проснулось утро, словно шахский часовой,
И в степи запела птица, словно золотой
Колокольчик часового, и на трон высокий,
Со счастливым гороскопом, сел султан востока, [333]333
…сел султан востока… —то есть солнце. Сложное описание его восхода.
[Закрыть]—
Встал отец добросердечный первым с ложа сна
И устроил все, чем свадьба у людей красна.
Дочь свою с любовью Хейру отдал поутру,
Пир устроил – с Утаридом повенчал Зухру.
Ожил вялый цвет, от жажды умиравший дважды,
И в живой воде нашел он утоленье жажды.
Жаждущему сладкоустый кравчий дал во благо
Влагу слаще и целебней, чем Ковсара влага.
И они в довольстве жили – дружною четой.
И обычай древних чтили – простоты святой.
Старый курд отдает все свои богатства – стада – молодой чете… Пастбища истощились, курдам приходится откочевать. Хейр набирает запас листьев, которые исцелили его глаза, а также листья со второй ветви дерева, исцеляющие от падучей… Хейр с родными приходит в столицу. Дочь падишаха больна – у нее падучая. Шах обещает отдать ее в жены тому, кто ее вылечит. Если же кто возьмется лечить, но не сможет вылечить, тому отрубят голову… Многих врачей шах уже казнил. Хейр жалеет шахскую дочь и решает ее вылечить. Это ему удается, и он получает шахскую дочь в жены. У везира этого шаха дочь слепа. Хейр исцеляет и ее и тоже берет в жены. Два дня он проводит у дочери шаха, день – у дочери везира и три дня у дочери курда… Шах умирает и престол достается Хейру… Как-то раз случайно Хейр видит Шерра. Он велит схватить его и привести к нему в сад. Шерр вынужден во всем сознаться. Он умоляет простить его, ссылаясь на свое имя – «Шерр» – «зло», – которое толкает его на дурные поступки. Хейр, вспоминая, что его имя значит «добро», отпускает его. Но курд – тесть Хейра, который всегда был около него с обнаженным мечом, настигает негодяя и одним ударом сносит ему голову.
Повесть седьмая. Пятница
И устроилось счастливо все, как Хейр хотел.
И народ благодеянья от него узрел,
Ибо в той стране, где правду властелин хранит,
Делается терн плодами, золотом – гранит
И железо обретает свойства серебра.
Свет зениц живой у Хейра ожил для добра.
Справедливость – нерушимый был закон его,
И стоял неколебимо в мире трон его.
Листья с дерева целенья, что с собой он взял,
Людям страждущим на благо он употреблял.
А порой, коль не хватало вдруг листа ему,
К дивному он отправлялся дереву тому.
Под густой его листвою спешивался он
И степям, его взрастившим, отдавал поклон.
Он сандаловому древу благодарен был,
Одеянье соком древа ярко расцветил.
Все, чем окружал себя он, украшал сандал,
Запахом сандала шахский дом благоухал.
Скорбь любую дух сандала исцелит в тиши.
Есть в дыхании сандала признаки души.
Ты вдохнешь его – и боли головной конец,
Он смиряет лихорадку и огонь сердец».
Так на ломаном персидском языке рассказ
Кончила тюрчанка Чина [334]334
…тюрчанка Чина… —то есть румийская царевна была прекрасна, как тюрчанка.
[Закрыть]в полуночный час.
Шах Бахрам ее с любовью обнял, поместил
Внутрь души и от дурного глаза защитил.
Иранская царевна
В пятницу, когда светило, вставши из-за гор,
Белым светом озарило ивовый шатер,
Шах – в одежде белой, в блеске белого венца —
Устремил шаги к воротам белого дворца.
В пятом знаке зодиака белая Зухра
Пять поклонов пред Бахрамом отдала с утра.
И покамест не напали Зинджи на Хотан,
Шах счастливый не покинул радостей майдан.
А когда сурьмой небесной сумрак обострил [335]335
А когда сурьмой небесной сумрак обострил… – Во времена Низами считалось, что сурьма не только украшает глаза, но и обостряет зрение. Здесь сгущающаяся ночная тьма сравнена с черной сурьмой, от которой «глаза неба» – светила, оттененные, стали светить ярче, «свет их глаз усилился», зрение их обострилось.
[Закрыть]
Взгляд луны прекрасноликой и глаза светил,
Стал Бахрам подругу ночи нежную просить —
Сладостный рубин речений перед ним открыть,
Чтобы эхом, отраженным от дворцовых стен,
Пела повесть, забирая слух и сердце в плен.
И царевна, славословье трону вознеся
И о шахском долголетье небосвод прося,
Прочитав сперва молитву вечному творцу,
Чтобы дал сиянье счастья трону и венцу,
Молвила: «Коль шаху сказка надобна моя,
То – поведать все, что знаю, рада буду я».
«Мать моя была душевной доброты полна,
Средь старух была ягненком истинным она.
Чтобы мне не скучно было, помню, как-то днем
Мать моих веселых сверстниц пригласила в дом.
К трапезе она радушно всех их позвала,
Кушаньям – как говорится – не было числа.
Дичь, баранина и с тмином всяческая снедь,—
Перечислить угощений мне и не суметь.
Не припомню я названий лакомств дорогих,
Розовой халвы, миндальной – и сластей других.
Все там было, чем осенний урожай богат —
Яблоки из Исфахана, рейский виноград.
Но о гроздьях и гранатах речь я отложу,
Лучше о гранатогрудых девах расскажу.
Сыты лакомой едою были все давно
И пригубливать устали сладкое вино.
Смех, веселье, разговоры тут пошли у нас.
За смешным рассказом новый следовал рассказ.
Та – про чет, а та про не́чет, – все наперебой…
Каждой рассказать хотелось о себе самой.
Очередь до среброгрудой девушки дошла,
Хороша она, как сахар с молоком, была.
Лишь она заговорила – птичий хор в саду
Смолк и рыбки золотые замерли в пруду.
Упоительный открыла слов она родник,
А язык ее рассказа – был любви язык.
Нас она повеселила повестью такой:
«Жил-был юноша – любезен и хорош собой.
Юному Исе в науках был подобен он,
Как Юсуф, был светел сердцем и беззлобен он.
Люди знанья за ученость славили его,
Верующие примером ставили его.
Сад был у него – прекрасный, как Ирема сад,
Амброю благоухавший, радовавший взгляд.
В нем рождались, раскрывались райский плод и цвет,
Шла молва, что им подобных в целом мире нет.
Все сердца тянуло в этот лучший из садов,
Где росли и расцветали розы без шипов.
Если поискать, – конечно – шип один нашли б,
Но защитою от сглаза вырос этот шип.
Под тенистыми ветвями там ручьи текли.
Там нарциссы над ручьями, лилии цвели.
Этот сад благоуханный с четырех сторон
Был высокою стеною крепко огражден.
Окружил свой сад хозяин глиняной стеной,
Чтобы в тень его проникнуть глаз не мог дурной.
Не один богач о саде сказочном вздыхал
И завистливые взгляды издали бросал.
Юноша хозяин часто заходил в свой сад —
Отдохнуть от шума, зноя городского рад.
Подрезал он кипарисы и сажал жасмин,
Мускус смешивал и амбру сада властелин.
На лужайках сам фиалки сеял он весной,
Новые сажал нарциссы там он над водой.
Проводил в саду хозяин целый день порой
И лишь поздно возвращался вечером домой.
Вот однажды ранним утром в сад он свой пошел,
Изнутри калитку сада запертой нашел.
Но в саду своем он звуки чанга услыхал,
Хоть вчера к себе он в гости никого не звал.
Песни радости услышал он в саду своем,—
Веселились, и смеялись, и играли в нем.
Множество в саду звучало женских голосов,
Изнутри закрыты были двери на засов.
Горожанки молодые, видно, здесь сошлись;
Знать, они в его владенья с ночи забрались.
Наконец не стало силы у него терпеть.
Ключ забыл, как видно, дома, – нечем отпереть.
В двери, стража вызвать силясь, он стучал и звал.
Гости – слышно, веселились, а садовник спал.
Вкруг стены своей высокой юноша пошел,
Трещину в углу дувала ветхого нашел.
И, увидев, что не может он войти в свой дом,
В собственной своей ограде выломал пролом.
Так забрался потихоньку в сад и, осмотрясь,
Словно вор, в своих владеньях он пошел таясь.
Чтоб увидеть, что за гости у него гостят,
И проведать, что за повод был для входа в сад,
Чтоб разведать потихоньку, что за шум в саду,—
Не попал ли уж садовник-старичок в беду?
Среди этих – озарявших сад его – цветов,
Наполнявших свод зеленый звоном голосов,
Были две жасминогрудых, привлекавших взгляд,
Вдоль стены они ходили, охраняя сад.
Чтоб не перелез ограду дерзкий кто-нибудь
И не мог луноподобных гурий тех спугнуть.
Только он вошел в пределы сада своего
Эти девушки за вора приняли его.
Палками его избили; на землю потом
Повалив, его связали крепким кушаком.
По незнанью – в преступленье ими обвинен,—
Был избит, и исцарапан, и унижен он.
Девушки, связав беднягу, перестали бить,—
Но зато его словами начали казнить:
«Был бы всяк твоим поступком дерзким возмущен!
Нет хозяина на месте! Жаль – в отлучке он!
Если дерзкий вор посмеет брешь пробить в стене,
То садовник властен вора наказать вдвойне!
Ты немного поцарапан. В цепи заковать
Надо бы тебя, негодный, и властям предать.
Ах ты, вор, сломавший стену! – не уйдешь теперь!
Если бы ты вором не был, ты вошел бы в дверь!»
А хозяин им ответил: «Этот сад – мой сад.
Я захлебываюсь дымом – от своих лампад.
Как лиса, в дыру пролез я… И к чему слова,—
Вход сюда открыт всегда мне шире пасти льва.
Если кто в свои владенья входит воровски —
Упустить их быстро может из своей руки».
Сильно девушки смутились. Все же – им пришлось
О приметах разных сада повести расспрос.
Верно он на все ответил. Повиниться им
Приходилось. И осталось помириться им.
Девушки владельца сада впрямь признали в нем,
Он красив был, юн, любезен и блистал умом.
Если женщина такого видит, ты ее
Не удержишь, откажись ты лучше от нее.
И по духу был им близок и приятен он,
Был от плена тут же ими он освобожден,
Живо крепкий развязали шелковый кушак,
Всхлипывая – извини, мол, если что не так…
Умоляя, чтоб хозяин юный их простил,
Расторопность проявили и великий пыл.
Чтобы гнев он свой на милость к ним сменил вполне,
Принялись пролом поспешно затыкать в стене.
В щель терновник набивали, камни и тростник,
Чтобы вор и впрямь в ограду сада не проник.
И, в смущении краснея, к юноше пришли,
В оправдание – рассказы длинно завели:
«Так хорош твой сад, что в мире все затмит сады,—
Пусть обильны будут сада этого плоды!
Молодые горожанки – ото всех тайком —
Полюбили собираться тут – в саду твоем.
Все красавицы, чья прелесть славится у нас,
Луноликие – утеха и отрада глаз,
Как светильник, полный ярких недымящих свеч,—
Очень любят это место наших тайных встреч.
Ты простишь ли нас, что были мы с тобой дерзки
И что воды возмутили чистые реки?
Но сейчас ты на красавиц наших поглядишь
И с любой желанье сердца нынче утолишь.
В этот час они все вместе, верно, собрались.
Так – скорее к ним, смелее с нами устремись!
И которая из гурий взгляд твой привлечет,
Укажи нам, чтобы нёчет превратился в чет;
Только скажем мы два слова – и придет она,
И к ногам твоим покорно упадет она!»
Услыхал хозяин речи эти, и огнем,
Пробудившись, вожделенье запылало в нем.
Страсть его природе чистой не чужда была,
Целомудрия преграду вмиг она смела.
Набожность его кипящий затопил поток,
Близость женщин он спокойно вынести не мог.
И путем надежды страстной, как на яркий свет,
Он пошел жасминогрудым девушкам вослед.
Склонностью к красавцу были полны их сердца,
Довести они решили дело до конца.
Там в тени ветвей беседка старая была,
И тропинка их – к беседке прямо привела.
Девушки ему шепнули: «Малость посиди,
Притаись в беседке этой, в щелку погляди!..»
И ушли они. В беседку юноша вошел
И в стене ее отверстье малое нашел.
Живо к этому отверстью глазом он приник
И красавиц юных в сборе увидал цветник.
Шумное у них веселье вскоре началось,
Осыпать пошли друг друга лепестками роз.
Пред беседкою лужайка свежая была.
Ту зеленую лужайку роща стерегла.
Мраморный там красовался полный водоем,
Райский водоем Ковсара был его рабом.
Наполняем был он чистым, звонким ручейком,
Рыбки стаями играли и плескались в нем.
А вокруг того бассейна лилии росли,
И нарциссы и жасмины белые цвели.
Девушки, к воде склоняясь, в зеркале ее
Отраженье увидали среди рыб свое.
Их, как солнце, отражала чистая вода,
Их купаться привлекала чистая вода.
Весело они одежды начали снимать,
Пояса свои на бедрах стали распускать.
И разделись все, и в блеске наготы своей,
Словно жемчуг, погрузились в воду до грудей.
Сребротелые плескались радостной толпой,
Тела серебро скрывая темною водой.
Будто луны к Рыбе, в волны шумные вошли.
От Луны до Рыбы волны шумные пошли.
От бросающей дирхемы на воду луны,
Убегая, рыба темной ищет глубины.
Ну, а к светлым лунам этим, что играли всласть,
Рыба юноши, как в сети, и сама рвалась.
Целый день они плескались, за руки схватясь,
Над жасмином белоснежным белизной смеясь.
Шло вовсю у них веселье. Ты уж сам взгляни,
Как ладейки из гранатов делают они.
Та – Змея! Змея! – кричала, косы распустя,
И подруг своих пугала этим, не шутя.
Из беседки на купальщиц юноша смотрел,
Трепетал от нетерпенья он и весь горел,
Был как жаждущий, что воду видит пред собой,
Да не может дотянуться до нее рукой;
Трепетал он весь, не в силах дрожи превозмочь,
Как страдающий падучей в новолунья ночь.
Накупавшись, вышли девы, словно из шелков
Темно-пурпурных жасмины – на ковер цветов.
И в сияющий воздушный шелк облачены —
Шум затеяли и хохот, слышный до луны.
Видел он: средь них задорней всех одна была —
Весела, лицом румийским розово-смугла,
Всякому, кто в эти чары попадал, как в сеть,
Овладеть хотелось ею или умереть.
И таким гореть лукавством взгляд ее умел,
Что терял свой ум разумный, трезвенник пьянел.
Был пленен хозяин юной красотой луны —
Больше, чем огнем индийцы в храмах пленены [336]336
…огнем индийцы в храмах пленены. – См. сноску 300.
[Закрыть].
От души его преграды веры отошли…
Праведник, кляни неверье! Верных восхвали!
Через час те девы-стражи вновь пришли вдвоем,
Быстрые, любовным сами полные огнем.
Не сошел еще хозяин с места своего,
Девы стали, как хаджибы, спрашивать его:
«О хаджа! Из тех красавиц, что ты видел здесь,
Опиши скорей – какую нам к тебе привесть?»
Юноша словами живо им нарисовал
Ту, чей облик так в нем сильно сердце взволновал.
Только молвил, те вскочили и расстались с ним,
Уподобясь не газелям, а тигрицам злым.
И в саду неподалеку вмиг нашли ее,
Лаской, хитростью, угрозой привели ее.
Ни одна душа их тайны не могла узнать;
А узнала бы, так, верно б, ей несдобровать.
Привели луну в беседку – и смотри теперь —
Чудо: заперли снаружи на щеколду дверь…
А настроили сначала, словно чанг, на лад
Эту пери, что хозяйский так пленила взгляд.
Рассказали по дороге девы обо всем —
О хозяине прекрасном, добром, молодом.
И, не видевши ни разу юношу, она
Уж была в него – заочно – страстно влюблена.
А взглянула – видит: лучше, чем в рассказе, он;
Видит – золото. В рассказе был он посребрен.
Юношу лишил терпенья, жег любовный пыл.
Он со стройным кипарисом в разговор вступил.
«Как зовут тебя?» – спросил он. «Счастье», – та в ответ.
«Молви, пери, чем полна ты?» – «Страстью!» – та в ответ.
«Кто красу твою взлелеял?» Отвечала: «Свет!»
«Глаз дурной да не-коснется нас с тобою!» – «Нет!»
«Чем ты скрыта?» – «Ладом саза», – девушка сказала.
«В чем твое очарованье?» – «В неге», – отвечала.
«Поцелуемся?» – спросил он. «Шесть десятков раз!»
«Не пора ли уж?» – спросил он. «Да, пора сейчас!»
«Будешь ли моей?» – «Конечно!» – молвила она.
«Скоро ль?» – «Скоро», – отвечала юная луна.
Дальше сдерживать желанье не имел он сил.
Скромность он свою утратил, стыд свой погасил.
Как она свой чанг, за кудри гурию он взял.
Обнял стан ее и к сердцу горячо прижал.
Целовать он начал страстно сладкие уста —
Раз, и десять раз, и двадцать, и еще до ста.
Поцелуи распалили вожделенье в нем,
Запылала пуще жажда наслажденья в нем.
Он целебного напитка захотел испить,
Он живой воды в потоке захотел добыть.
Скажешь ты, что на онагра черный лев напал,
Всеми лапами онагра мощными подмял.
Но беседка эта ветхой, дряхлою была
И под тяжестью двойною трещину дала.
И обрушилась внезапно, с треском развалясь.
Так не кончилось их дело дурно в этот раз.
Он раскаянья избегнул, хоть и был смущен.
Прянула она направо, а налево – он.
Чтобы люди их увидеть вместе не могли,
Вмиг они разъединились, в стороны ушли.
Скрылся юноша в чащобе лиственных купин;
Тосковал он и томился горько там один.
И к подругам воротилась тюркская луна,
Хмуря брови, сожалений искренних полна.
Музыкантшей и певицей девушка была;
Села грустная – и в руки чанг она взяла.
И из струн исторгла звуки. И у ней сама
Песнь сложилась, что влюбленных свесть могла б с ума:
«Пусть поет, рыдает чанга моего струна
Всем, кто болен тем недугом, чем и я больна.
Кто влюблен, тот в сердце носит тягостный недуг,
Я полна неразделенных сокровенных мук.
О, доколь скрывать я стану жгучую любовь?
«Горе!» – я взываю. «Горе!» – повторяю вновь,
Разума меня лишает, мучит страсть меня.
Плачу от сжигающего грудь мою огня.
Хоть влюбленных презирает гневный небосвод,
Но и мысль о покаянье в сердце не придет.
Грех раскаиваться в сильной, искренней любви!
Не вольна я больше в сердце, не вольна в крови.
Любящий своей душою здесь не дорожит.
И влюбленных в этом мире гибель не страшит!»
Так она в печальной песне, сетуя судьбе,
Всю невольно разболтала правду о себе.
Те два перла, что держали нить в своих руках,
Смысл сокрытый понимали в песнях и стихах.
Поняли они, что грустен юноши удел,
Что меж ними там разлуки ветер пролетел.
И они нашли Юсуфа бедного того,—
Словно Зулейха, вцепились вновь они в него.
Повели они расспросы, – что произошло?..
Рассказал он все, как было. Горе их взяло,
Что расставленные ими сети порвались.
И налаживать все дело вновь они взялись.
«Ночевать в саду придется нам сегодня всем.
Мы займемся лишь тобою, более – ничем.
А придумать уж сумеем повод мы любой,—
Никого мы не отпустим ночевать домой.
И наедине ты будешь вновь с луной своей.
И бери в свои объятья ты ее смелей!
Обнаруживает белый день дела людей,—
Все скрывает ночь завесой темною своей».
Так сказали и расстались эти девы с ним.
И скорей пошли к подругам молодым своим.
Только ночь куницей черной скрыла наконец
Вечер – красный, как буртасский шелковый багрец,
Только солнца гвоздь укрылся за чертой степей
И зажглась кольчуга ночи тысячей гвоздей,
Исполняя обещанье, девы те пришли
И хозяину тюрчанку-пери привели.
Тополь жаждущие корни окунул в волну,
Солнце знойное настигло робкую луну.
Рядом – гурия, и больше никого кругом,—
Тут пещерный бы отшельник согрешил тайком!
Юношу любовь палящим вихрем обвила,
От желания в кипенье кровь его пришла.
То, о чем не подобает разговор вести,
Говорю тебе, читатель; бог меня прости.
С нею он свое желанье утолить хотел,
Он жемчужину рубином просверлить хотел.
Кошка дикая по ветке кралась той порой,
Наблюдая за мышиной земляной норой.
Кошка прыгнула и с шумом вниз оборвалась,
А влюбленным показалось, что беда стряслась,
Что неведомым несчастьем угрожает ночь…
И, вскочив, они в смятенье убежали прочь.
Бросили они друг друга, шума устрашась.
Посмотри: опять лепешка их недопеклась.
Грустная – к своим подругам девушка пришла,
Полная тоски сердечной, чанг она взяла
И запела песню, струны трогая рукой:
«Снег растаял. Аргаваны расцвели весной.
Горделиво стан свой поднял стройный кипарис,
И со смехом вкруг ограды розы обвились.
Соловей запел. Веселья вспыхнули огни,
И базара наслаждений наступили дни.
И садовник сад украсил, радующий взгляд.
И державный шах явился, осмотрел свой сад.
Чашу взяв, вина из чаши он испить решил.
Но упал внезапно камень, чашу ту разбил.
О, ограбивший мне сердце! Множишь только ты
Муки сердца. Дать мне радость можешь только ты.
Я стыжусь тебе признаться, как терзаюсь я.
Сердце без тебя уныло, жизнь темна моя!»
Знающие тайну лада этих грустных слов
Тайну пери вновь узнали из ее стихов.
И печалясь и вздыхая, двинулись опять
Эти девы в чащу сада – юношу искать.
Словно вор, укравший масло [337]337
Словно вор, укравший масло… —Очевидно, намек на какой-то широко известный во времена Низами анекдот. В оригинале: «Как рабы, которые украли масло и по дороге наняли за деньги комнату». Смысл бейта: юноша спрятался, уединился.
[Закрыть], горем удручен,
Возле брошенной сторожки притаился он.
Там, где ивы нависали низко над ручьем,
Он лежал в глубокой муке, наземь пав лицом.
Еле-еле отозвался он на голос их,
Пораженный этим градом неудач своих.
Две наперсницы в тревоге повели расспрос,
И в досаде были обе чуть ли не до слез.
Но подумали: «Не поздно! Еще длится ночь…»
И пошли, чтобы влюбленным в деле их помочь.
Успокоили подругу, что, мол, нет беды…
И цветку послали кубок розовой воды.
Вот к возлюбленному пери та явилась вновь,
В ней еще сильней горела к юноше любовь.
За руку ее хозяин, крепко взяв, повел
В чащу сада и глухое место там нашел,
Где был густо крепких сучьев свод переплетен,
Будто на ветвях деревьев был поставлен трон.
Он красавицу в укромный этот уголок,
Нетерпением пылая, как в шатер, увлек.
Пышную траву, как ложе, для нее примял,
И, горя восторгом, к сердцу милую прижал.
Как жасмин – на саманидских шелковых коврах —
Наконец была тюрчанка у него в руках.
Вновь он вместе был с прекрасной девой молодой.
Млея, роза истекала розовой водой.
Наконец была в объятьях у него луна.
Он ласкал ее. В обоих страсть была сильна.
Быстро кости продвигал он, клетки захватил,
Он соперницу, казалось, в нардах победил.
Миг один ему остался – крепость сокрушить
И бушующее пламя влагой потушить.
Полевая мышь на ветке, возле ложа их,
Подбиралась осторожно к связке тыкв сухих,
Что на дереве подвесил садовод-старик.
Мышь веревку этой связки перегрызла вмиг.
На землю упала связка; раскатясь кругом,
Загремели тыквы, словно барабанный гром,
Будто грянул отступленья грозный барабан.
На ноги вскочил хозяин, страхом обуян.
С грохотом вторая связка наземь сорвалась —
И опять газель от барса вихрем унеслась.
А хозяин думал: «Стража в барабаны бьет,
Мухтасиб, стуча в литавры, с гирями идет…»
Бросив туфли, он в смятенье – тоже наутек.
Где бы спрятаться, искал он в чаще уголок.
Задыхаясь от испуга, трепеща, бледна,
К двум подругам прибежала бедная луна.
Время некое молчала; дух перевела,
В руки чанг взяла, завесу тайны подняла.
Так запела: «Я слыхала, смущена душой,
Что влюбленный повстречался с девой молодой.
Он желанного добиться от нее хотел,
Знойною объят любовью, жаром изомлел.
К сердцу юную турчанку он хотел прижать,—
Жаждет кипарис весною лилию лобзать.
К сладостным гранатам устремился он,
И под лиственною сенью с ней укрылся он;
Чтоб жемчужницей, хранящей жемчуг, овладеть,
Чтоб сокровищницы тайной дверцу отпереть.
Иву красную прозрачной кровью оросить,
И халву на чистом блюде с сахаром смесить,
Вдруг внезапная тревога, грохот, стук и гром…
Облетел цветник в осеннем ветре ледяном.
По цветку в тоске остался робкий мотылек,
Снова – жаждой истомленный от воды далек.
Почему в неверном ладе песню ты ведешь,
И когда же строй для чанга правильный найдешь?
Только я бы строй с тобою правильный нашла,
Как струна с другой струною, петь ты начала!»
Только свой напев пропела пери, в тот же миг
Быстрый ум ее наперсниц правду всю постиг.
Снова обе побежали юношу искать.
Чтоб исправить и наладить их дела опять.
Пристыжен и перепуган, – где-то под кустом,—
С вытянутыми ногами он лежал ничком.
Девы ласково беднягу подняли с земли
И расспросы осторожно, мягко повели.
Он ответил, что ни в чем он тут не виноват,
Что холодный адский ветер вторгся, видно, в сад…
А наперсницы, воскликнув: «Это ничего!» —
Все рассеяли сомненья в сердце у него.
Развязали этот узел живо. И – гляди —
Ожила опять надежда у него в груди.
В поучение сказали: «Опыт свой яви!
И настойчивее надо быть в делах любви!
Выбери побезопасней место для гнезда,
Чтоб напасть не прилетела новая туда.
Зорко вас теперь мы сами будем охранять.
Тут на подступах, как стражи, будем мы стоять».
И к подруге воротились, и опять взялись
Уговаривать прекрасный, стройный кипарис.
Чтоб она набег свой тюркский совершила вновь,
Чтоб пошла и подарила юноше любовь.
И пошла она, всем сердцем юношу любя.
Увидав ее, хозяин позабыл себя.
Он за локоны, как пьяный, ухватил ее.
В угол сада потаенный потащил ее.
Там укромная пещера вырыта была,—
Куполом над ней сплетаясь, жимолость росла.
И жасмины поднимали знамя над стеной.
Сверху – заросль, а под нею – вход пещеры той.
Места лучшего хозяин больше не искал;
Местом действия пещеру эту он избрал.
Разорвав густую заросль, путь он проложил
И красавицу проворно за собой втащил.
Расстегнул на ней он платье, позабыв про стыд.
Расстегнул и то – о чем мой скромный стих молчит,
Обнял эту роз охапку, все преграды смел…
И уверенной рукою приступ свой повел.
Палочка не окунулась в баночку с сурьмой,
А уж свод горбатый новой занялся игрой;
Несколько лисиц в пещере пряталось на дне,
Чтобы, позже на охоту выйти при луне.
Выследил их волк свирепый: голоден он был.
А на этих лис давненько зубы зверь точил.
В этот миг, прокравшись к лисам, начал он их рвать.
Лисы в ужасе от волка бросились бежать,
Выскочили из пещеры. Волк за ними вслед,
Прямо по чете счастливой, здесь не ждавшей бед.
Рухнул столп любви хозяйской. Рать увидел он,
На ноги вскочил, рычаньем, лаем оглушен.
Весь в земле, в пыли, метался он по сторонам.
Что в его саду случилось – то не ведал сам;
В ужасе не понимая, что ему начать,
Где спастись теперь, не зная – и куда бежать.
Девы, что взялись усердно помогать ему,
Что от всей души хотели счастье дать ему,
Что стояли, словно стражи, на его пути,
Милую его схватили, не дали уйти.
«Что за подлые уловки? – ей они кричат.—
Ах ты этакая! Бесы, что ль, в тебе сидят?
Долго ли еще ты будешь этак с ним шутить?
Иль по злобе хочешь вовсе в нем любовь убить?
Да ведь даже с незнакомым так шутить нельзя!
А тебе, злодейка, это извинить нельзя.
На какие ты уловки хитрые пошла,
Сколько раз его ты за ночь нынче прогнала?»
Та клялась, что невиновна, начала рыдать.
Но подруги не хотели клятвам тем внимать.
Услыхал хозяин звуки гневных голосов,
Подоспел – свечу увидел между двух щипцов.
Их упреки и угрозы услыхал хаджа,
На лице любимой слезы увидал хаджа.
«Стойте! – крикнул он. – Не смейте больше обижать
Ту, что нужно, как ребенка, нежно утешать.
Берегитесь вы и знайте – нет на ней вины,
Но дела судьбы и в малом кознями полны.
Как ни ловок муж проворный на пути земном,
Но всегда пребудет неба вечного рабом.
И сегодня нам не дьявол, а пречистый бог
Помешал и удержаться от греха помог.
Нам препятствия решило небо возвести,
И несчастью преградило все оно пути.
Тот, кого с дороги правды див не совратит,
Сердцем чист. А чистый сердцем зла не совершит.
Кто к греховному привязан от рожденья, тот
Стороною от дороги праведных идет.
Эту пери был бы каждый в жены взять счастлив.
Поступать нечестно с нею мог бы только див.
И неужто эту деву может оскорбить
Тот, кто мужествен, способен искренне любить!
По пути греха не может верный муж пойти,
Если встанет добродетель на его пути.
Если яблоню весною сглазит глаз дурной,
То никто плодов не вкусит с яблони такой.
Твари здесь на нас смотрели сотней тысяч глаз,
И поэтому не вышло ничего у нас.
Что прошло, – пускай. Не будем плохо поминать.
В том же, что осталось, должен честь я сохранять.
Клятвой тайною и явной здесь поклялся я,
Перед небом и землею обещался я:
Если ночь благополучно наконец пройдет
И охотницу добычей дичь сама возьмет,—
То отныне я пред богом обручаюсь с ней
И по всем законам брака сочетаюсь с ней».
Девушки его речами были смущены,
Набожностью столь примерной были сражены.
Две сообщницы склонились перед ним главой,
Восклицая: «Слава чистой совести такой,
Что посеяла благие в сердце семена,
Что дурному совершиться не дала она!
О, как много мнимых тягот видим мы кругом,
Что нежданно озаряют счастьем и добром!
О, как часто от несчастий человек храним
Тем, что горько называл он бедствием своим!»
А когда светильник мира над горами встал
И сияньем с горизонта глаз дурной прогнал,—
Астролябии рассвета стрелка замерла
И столпы небес паучьей сетью оплела,—
С ярким факелом в деснице ветер прискакал,
И хозяина из сада в город он умчал.
От непрошеных помощниц тех освобожден,
Вновь султана знамя поднял по-хозяйски он.
Но вчерашней ночи пламя тлеющим костром
Вспыхивало – и сильнее пламенело в нем.
В городской свой дом вернувшись, слово он сдержал.
Цели он своей немедля добиваться стал.
С той ночной луною браком сочетался он,
Уплатил калым достойный, как велит закон.
Он счастливцем был, что воду чистую открыл,
И в дозволенное время сам ее испил.
Он нашел родник, как солнце чистый, – в нем – добро,—
Как жасмин чистейший, белый, словно серебро.
Происходит свет прекрасный дня – от белизны.
И от белизны небесной светел блеск луны.
Чистых нет цветов. С изъяном каждый в мире цвет,
Кроме белого, – в одном лишь в нем изъянов нет.
Все, что чистотой блистает, все, что запятнать
Невозможно, мы привыкли «белым» называть.
И в часы служений богу, перед алтарем
Вечного, мы в одеянье белом предстаем».
А когда жасминогрудой пери смолкла речь,
Шах Бахрам ее в объятья поспешил привлечь.
И таких ночей счастливых много славный шах,
Веселясь, провел в прекрасных тех семи дворцах.
И его высокий этот свод благословил,
И семи небес ворота перед ним раскрыл.