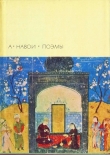Текст книги "Пять поэм"
Автор книги: Гянджеви Низами
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 43 страниц)
Некая Мария из Египта правила Сирией. Враги завоевали ее страну, и ей пришлось бежать ко двору Искендера в поисках защиты. Узнав о великой мудрости советника царя – Аристотеля, Мария поступает к нему в ученицы и отдается всем сердцем науке. Аристотель раскрывает перед ней многие тайные учения и вручает ей философский камень. Искендер снаряжает для нее войско. Мария возвращается в свою страну и отвоевывает трон. С помощью философского камня она изготовляет много золота, и в ее стране из него начинают делать даже подковы и цепочки для собак. К ней собираются мудрецы, живущие в бедности, и просят Марию раскрыть им тайну философского камня. Она задает им загадки и объясняется с ними символами. Самые мудрые из них понимают ее намеки и становятся сильными. Завершают главу строки о силе калама, творящего стихи, подобно тому, как философский камень творит золото.
и конец рассказа о Марии-египтянке
Некий плут из Хорасана приехал в Багдад. Он взял тысячу золотых динаров, размельчил их напильником, смешал золотые опилки с красной глиной и наделал из этой смеси шариков. Шарики он припрятал в лавке торговца всякими снадобьями. Затем плут объявил по всему Багдаду, что он – великий алхимик и может сделать из ста динаров тысячу. Халиф попался на обман и выдал ему деньги. Плут велел тогда искать снадобье «табарьяк» (этим словом он обозначил припрятанные ранее шарики). Вскоре ему приносят «табарьяк». В плавильном горне золото отделяется от глины и данная халифом сумма удесятеряется… Тогда халиф дал плуту десять тысяч динаров. Плут же опоил стражу и бежал из Багдада. Халиф понял, что «табарьяк», если прочитать это слово немного иначе, значит «плутовство», и смеялся над хитростью хорасанца. Завершает эту часть главы стих о том, что обольщенный обманом шарлатанов-алхимиков становится игрушкой в их руках.
Далее Низами возвращается к истории Марии-египтянки. Искендеру доносят о богатство и мощи Марии, которая легко обращает любой металл в золото, а ракушки – в жемчуга. Ее сила и богатство, говорят советники, становятся опасными для Искендера. Искендер решает идти войной на Марию. Об этом узнает Аристотель и приходит к Искендеру. Он говорит, что египтянка чиста сердцем и никогда и не помыслит о злом. Если бы он не знал этого заранее, он не раскрыл бы ей тайны философского камня. Искендер успокаивается. Аристотель отправляет к Марии гонца, и гонец привозит от нее Искендеру богатые дары. Завершают главу строки об умиротворяющей силе золота, способного погасить огонь злобы.
Спой о счастье, певец, чтоб уверился я,
Что о счастье поешь ты ясней соловья.
Пусть твой лад призывает к счастливым усладам,
Не вещая о днях, что пугают разладом.
* * *
Всюду в румской земле стали речи слышны:
Прибыл некий бедняк из чужой стороны.
Но затем он, с богатым своим караваном,
Стал Каруном казаться и людям и странам.
Кладом дивным, как море, с каких это пор Он владел?
Взял он клад из воды иль из гор?
И один говорил: «Вскрыл он тайные руды»,
А другой: «Грабежом добывал изумруды».
Говорили о нем все и ночью и днем.
И Властителю мира сказали о нем:
«К нам без драхмы в мошне прибыл горестный нищий.
В миске этого нищего не было пищи.
Долго жил он в нужде безысходной, а там
Столько звонких дирхемов прибрал он к рукам,
Что когда бы к нему ты прислал счетовода,
Тот не счел бы их всех в продолжение года.
Что он в прошлом? Несчастный бедняк хлебопек.
Только воду имел он да хлеба кусок.
А теперь продает он и жемчуг и лалы.
Все умы удивил его путь небывалый.
Ни торговли, ни пажити, ни ремесла!
Как на почве такой эта роща взросла?
О Властитель миров! Нужно было бы крайне,
Чтобы все повелел ты расследовать втайне».
И сказал Искендер: «К нам пришедший из мглы,—
Должен грязь со своей он очистить полы!
Тайно явится пусть и, приказу внимая,
Не гремит в барабаны, тревогу вздымая».
Приглашенье к царю! Нет отрадней вестей!
И поспешно к Владыке пошел богатей.
Преклонясь до земли возле царского трона,
Он восславил царя, что для всех – оборона.
Царь, поняв, что в удаче пришлец новичок,
Мановеньем руки его к трону привлек.
И сказал он ему и о зле и о благе
В ясной речи, подобной живительной влаге:
«Благороден твой лик, и в словах твоих вес,
И овеян ты счастьем, идущим с небес.
Я слыхал, что, приехав из чуждого края,
Ты скитался, на снедь только вчуже взирая.
А такой тебе клад после кем-то был дан,
Что его не поднимет большой караван.
Для мошны потрудился ты, верно, немало.
Лишь к царям столько денег легко прибывало.
Где ты золото взял? Где достал серебро?
Скажешь правду, – и жизнь сохранишь, и добро.
Если вымолвишь ложь, дух мой в ярость ввергая,—
Вмиг добро уплывет, с ним – и жизнь дорогая».
Тот постиг, что, лишь правду одну говоря,
От себя отведешь недовольство царя.
И, вторично склонясь пред сверкающим троном,
Он промолвил: «О царь, чутко внемлющий стонам,
Ты над миром царишь, все сердца утоля,
И твою доброту вся узнала земля.
Ты – венец правосудья! В подлунной отчизне
Все умрут за тебя, не жалея о жизни.
Все богатство нашел я в румийском краю,
А над ним простираешь ты руку свою.
И добычу, что взял я, что дивно богата,—
Если молвишь, твоя тотчас примет палата.
Все вручу я рабам, в твой доставя чертог.
Все отдав, я дворца поцелую порог.
Повелишь, – расскажу, как не в долгие годы,
А мгновенно русло переполнили воды.
Перебравшись в твой край, где я ныне цвету,
Я достатка не знал, знал одну нищету.
И, своею нуждой уязвленный глубоко,
Я в те дни занялся ремеслом хлебопека.
Но и тут одолеть не сумел я нужду!
Беспрерывно не мог предаваться труду.
При хорошем царе хлебопеки дохода
Не имеют большого. Не менее года
Я метался повсюду, – и этим одним
Занимался, о царь, только небом храним.
Жил я с тихой женой, как судьба повелела.
И узнал я – жена моя затяжелела.
И решили мы с ней: нас несчастнее нет.
И любовь потеряла свой солнечный свет.
Не слыхал от жены я унылого слова,
Хоть кормились мы крохами хлеба сухого.
Но когда уж на сносях лежала жена,
Ей горячая пища не стала ль нужна?
Как печальны, о царь, неимущих жилища!
Как пустыни они! В них не водится пища.
Был я скорбью объят, и услышал я вдруг:
«О мой друг и помощник, о милый супруг!
Если б ты раздобыл мне похлебку, – быть может,
Я бы вновь расцвела. Голод душу мне гложет.
Не найдется похлебка, – замучаюсь я.
Непогода взыграла, разбита ладья».
В скорби видя голубку, предавшийся плачу,
Вышел из дому я и бродил наудачу
Меж оград и жилищ. Я по городу шел
И съестного искал, и его не нашел.
Двери были закрыты, закрыты жестоко.
Мне ведь беды одни доставались от рока.
Я, блуждая, дошел до развалин. Одни
Чуть не в землю вошли: были пусты они.
И, как сумрачный див, злой бедой опечален,
Я бродил и кружился меж этих развалин
И внезапно увидел жилище одно.
В черном прахе и копоти было оно.
Но дышал в нем огонь обжигающим жаром.
Видно, топливо жгли там по целым харварам.
Черный зиндж, в смутный ужас повергший меня,
Пил из глиняной кружки вино у огня.
На огне был котел, всех обычных пошире,
В нем – копченое мясо в растопленном жире.
Зиндж взглянул на меня взором быстрым и злым
И, вскочив, закрутился, как вьющийся дым.
«Чертов сын! – закричал мне с кривлянием черный.—
Ты пришел за поживой! Какой ты проворный!
Я, послушай-ка, вор, – сам ворую у всех!
Знай: грабителю грабить грабителя – грех!»
И, от страха пред отпрыском черного края,
Я застыл и промолвил, слова подбирая
В лад речам чернокожих. И, зинджу добра
Пожелав, я сказал: «Не моя ли нора
По соседству с твоей? Недалеко жилище,
Где живу я с женой и мечтаю о пище.
О твоем благородстве, сражающий львов,
Я немало слыхал удивительных слов.
Я незваный твой гость, я стою на пороге.
Головою поник я под черные ноги.
Может статься, что ты мне захочешь помочь.
Пребывать в нищете мне уж стало невмочь!»
Слыша жирную лесть и столь сладкое слово,
Что к одной только сласти, казалось, готово,
Зиндж смягчился. Гневливость вошла в берега
Мир и сладость нередко смягчают врага.
Он сказал: «Знаешь песни? Не прячь их под спудом».
Он ушел и вернулся с расстроенным рудом.
Стройной струнной игры я еще не забыл,
И настроил я руд, хоть расстроен я был.
И коснулся я тотчас же струн сладкогласных,
И извлек я напев, обольщающий страстных.
Струнный трепет и рокот возник в тишине,
Словно жаркий котел забурлил на огне.
Зиндж то кружку хватал, то, предвидя развязку
Ловко начатых дел, принимался за пляску.
Много песен сыграл я, покорный судьбе,
Душу зинджа игрой привлекая к себе.
И охотно в безлюдье разбойного стана
Он преступную тайну поведал мне спьяна:
«Знай, в развалинах этих и в эту же ночь
Много денег присвоить я вовсе непрочь.
Здесь я с другом живу. Дружбе радуясь нашей,
Он меня одного поминает за чашей.
Вместе клад мы нашли. Был что радуга он.
И на нем не лежал стерегущий дракон.
Только мы, для которых добыча – услада,
Как драконы возникли над грудами клада.
Мы уж более года, безделье любя,
Этим кладом живем, не терзая себя.
Почему же не видишь ты зинджа второго?
За остатком богатств он отправился снова.
Из добычи, укрывшейся пылью земной,
Остается не более ноши одной.
Ты к нам в гости пришел с мирной речью, с поклоном,
И желанья твои будут нашим законом.
Но когда втащит в дверь мой всегдашний дружок
Гаухаров и жемчуга полный мешок,
Ты припрячься в углу и лежи терпеливо,
Словно мертвый. Увидишь ты дивное диво.
Что задумал, то сделаю. Черный дракон
Возвратится, – и будет он мной поражен.
Я один овладею оставшимся кладом,
Буду есть и хмельным предаваться усладам,
И с души твоей также печаль я сотру.
Долю клада вручу я тебе поутру».
Так я с черным сидел. Был смущен я глубоко.
Но внезапно шаги раздались недалеко.
Я вскочил, и упал, и простерся в углу,
Словно сердце мое ощутило иглу.
Чернолицый вошел, пригибаясь под ношей.
Видно, полон мешок был добычи хорошей.
И мешок с крепкой шеи он сбросил едва,
Хоть была его шея сильней, чем у льва,
Наземь сбросивши груз, как с вершины – лавину,
Он копченого мяса пожрал половину.
И, увидев, что спит его друг дорогой,
Совершил он все то, что задумал другой:
Снес булатным клинком он башку у собрата,
И застыла душа моя, страхом объята.
И готов был я чувства лишиться совсем,
Но, осилив свой страх, недвижим был и нем.
Я не выдать себя оказался во власти.
А убийца, разрезав собрата на части,
Половину частей завернул и унес.
Я все так же лежал, словно в землю я врос.
Время долго и тяжко тянулось, и снова
Возвратился убийца и, тканью покрова
Обернувши останки последние, вновь
Их на плечи взвалил и ушел. Только кровь
По земле растекалась… Я понял: не скоро
Он вернется, а ночь все укроет от взора.
И быстрее орла ухватил я мешок —
Этот сказочный дар, что подбросил мне рок.
Я на плечи взвалил клад всех кладов дороже.
Зиндж так взваливал зинджа, и сделал я то же.
Мясо в миске большой захвативши с трудом,
Я, скрываясь во тьме, в свой направился дом.
Видно, небо ко мне проявило участье:
По дороге я встретил одно только счастье.
Да! Отраду узнал на своем я веку!
Скинув с плеч своих ношу, а с сердца тоску,
Славя все, что пришлось так сегодня мне кстати,
Я услышал в дому звонкий голос дитяти.
Дал жене я поесть, и, смиренья полна,
Претерпевшая все, помолилась она.
И сказал я жене о небес благостыне:
Об отраде семьи, о дарованном сыне.
Узел ноши своей развязал я, – слезам
Дал утихнуть. Нашел я целебный бальзам.
Что узрел я! Сапфирами, яхонтом, лалом
Был наполнен мешок, и играл небывалым
Он огнем жемчугов, бирюзы, янтарей.
Вмиг я стал, о Владыка, богаче морей!
Сын мой счастлив! Душа моя вся запылала:
Он ровесником стал и жемчужин и лала.
В ночь богатство мое забурлило ключом.
Ночь открыла мне клад, клад я отпер ключом».
И счастливец, изведавший счастья избыток,
Замолчал. Он свернул дивной повести свиток.
Царь спросил: «День рождения сына? Над ним
Что сияло? Каким он созвездьем храним?»
И пришедший к богатству по сказочным тропам
Удалился. Затем он пришел с гороскопом.
И к Валису премудрому царь Искендер
Отослал указанья мерцающих сфер:
«Гороскоп огляди многоопытным взором.
Все, о чем он промолвил сплетенным узором
Быстролетных созвездий, не знающих лжи,
Ты немедленно мне, о мудрец, доложи».
И Валис, получивший посланье Владыки,
Рассмотрел ходы звезд и весь путь их великий.
Каждой зримой звезды он исчислил предел,
И в потайном все явное он разглядел.
И царю написал он о своде высоком,
Обо всем, что увидел он собственным оком.
И, узревши с землею небесную связь,
Замер царь Искендер, указаньям дивясь.
Рассмотрев сонмы звезд, весь узор их бескрайный,
Так Валис объяснил звездный замысел тайный:
«Это – сын хлебопека. Развеял он тьму:
В день рожденья богатство сверкнуло ему.
Хоть в нужде он родился, – родился он рядом
С поднесенным созвездьями блещущим кладом.
И с рожденьем ребенка – отрады сердец,
Стал безмерно богатым довольный отец.
Звезды в должном сплетенье рожденному рады:
Он поставит ступню на великие клады».
От волненья горя, царский взор заблистал.
Царь к торговцу каменьями ласковым стал.
И недели прошли своим шагом проворным,
И счастливый отец стал желанным придворным.
В старину мудрецы ездили в Рум, чтобы испытать свои силы в диспутах. Румийца Хермиса в диспуте никто победить не мог, он был величайшим мудрецом… Семьдесят мудрецов сговорились как-то отрицать все речи Хермиса и так сбить его с толку. Начинается диспут. Хермис трижды обращается к собранию с мудрыми речами, но в ответ слышит лишь возражения. Он догадывается, что имеет дело с тайным сговором, гневается и произносит заклинание. Все семьдесят мудрецов тут же навсегда замерли, застыли на месте. Позвали Искендера. Он одобрил действия Хермиса – ведь мудрецы встали на путь лжи и обмана, и иначе с ними поступить было нельзя. Завершают главу строки о силе истины и необходимости стремиться к ней.
О певец, прояви свой пленяющий жар,
Подиви своей песней, исполненной чар.
Пусть бы жарче дела мои стали, чем встаре,
Пусть бы все на моем оживилось базаре.
* * *
С жаром утренний страж в свой забил барабан.
Он согрел воздух ночи, спугнул он туман.
Черный ворон поник. Над воспрянувшим долом
Крикнул белый петух криком звонким, веселым.
Всех дивя жарким словом и чутким умом,
Царь на троне сидел, а пониже кругом
Были мудрые – сотня сидела за сотней.
С каждым днем Повелитель внимал им охотней.
Для различных наук, для любого труда
Наступала в беседе своя череда.
Этот – речь до земного, насущного сузил,
А другой – вечной тайны распутывал узел.
Этот – славил свои построенья, а тот
Восхвалял свои числа и точный расчет.
Этот – словом чеканил дирхемы науки,
Тот – к волшебников славе протягивал руки.
Каждый мнил, что твердить все должны лишь о нем.
Словно каждый был миром в искусстве своем.
Аристотель – придворный в столь мыслящем стане —
Молвил так о своем первозначащем сане:
«Всем премудрым я помощь свою подаю,
Всё познают принявшие помощь мою.
Я пустил в обращенье познанья динары.
Я – вожак. Это знает и юный и старый.
Те – познанья нашли лишь в познаньях моих,
Точной речью своей удивлял я других.
Правда в слове моем. Притязаю по праву,
Эту правду явив, на великую славу».
Зная близость к царю Аристотеля, с ним
Согласились мужи: был он троном храним.
Но Платон возмутился покорным собраньем:
Обладал он один всеобъемлющим знаньем.
Всех познаний начало, начало всего
Мудрецы обрели у него одного.
И, собранье покинув с потупленным ликом,
Словно Анка, он скрылся в безлюдье великом.
Он в теченье ночей спать ни разу не лег,
Из ночных размышлений он песню извлек.
Приютился он в бочке [455]455
Приютился он в бочке… – Мусульманская традиция задолго до Низами соединила легенды о Платоне с легендами о Диогене, жившем якобы в бочке.
[Закрыть], невидимый взорам.
Он внимал небосводам, семи их просторам.
Если голос несладостен, в бочке он все ж,
Углубляемый отзвуком, будет пригож,
Знать, мудрец, чтобы дать силу звучную руду,
То свершил, что весь мир принимал за причуду.
Звездочетную башню покинув, Платон
Помнил звезды и в звездных огнях небосклон.
И высоты, звучавшие плавным размером,
Создавая напев, мудро взял он примером.
В старом руде найдя подобающий строй
И колки подтянув, занялся он игрой.
Руд он создал из тыквы с газелевой кожей.
После – струны приделал. Со струйкою схоже
За струною сухая звенела струна.
В кожу мускус он втер, и чернела она.
Но чтоб слаще звучать сладкогласному грому,
Сотворил новый руд он совсем по-иному,—
И, настроив его и в игре преуспев,
Лишь на нем он явил совершенный напев,
То гремя, то звеня, то протяжно, то резко,
Он добился от плектра великого блеска,
И напев, что гремел иль что реял едва,
Он вознес, чтоб сразить и ягненка и льва.
Бездорожий достигнув иль дальней дороги,
Звук и льву и ягненку опутывал ноги.
Даровав строгим струнам струящийся строй,
Человека и зверя смущал он игрой.
Слыша лад, что манил, что пленял, как услада,
Люди в пляску пускались от сладкого лада.
А звуча для зверей, раздаваясь для них,
Он одних усыплял, пробуждая иных.
И Платон, внемля тварям и слухом привычным
Подбирая лады к голосам их различным,
Дивно создал труды о науке ладов,
Но никто не постиг многодумных трудов.
Каждым так повелел проникаться он строем,
Что умы он кружил мыслей поднятым роем.
А игра его струн! Так звучала она,
Что природа людей становилась ясна.
От созвучий, родившихся в звездной пучине,
Мысли весть получали о каждой причине.
И когда завершил он возвышенный труд,—
Ароматы алоэ вознес его руд.
И, закончивши все, в степь он двинулся вскоре,
Звук проверить решив на широком просторе.
На земле начертавши просторный квадрат,
Сел в средине его звездной музыки брат.
Вот ударил он плектром. При каждом ударе
С гор и с дола рвались к нему многие твари.
Оставляя свой луг иль сбежав с высоты,
Поникали они у заветной черты
И, вобравши в свой слух эти властные звуки,
Словно мертвые падали в сладостной муке.
Волк не тронул овцы. Голод свой одолев,
На онагра не бросился яростный лев.
Но поющий, по-новому струны настроя,
Поднял новые звуки нежданного строя.
И направил он так лад колдующий свой,
Что, очнувшись, животные подняли вой
И, завыв, разбежались по взвихренной шири.
Кто подобное видел когда-либо в мире?
Свет проведал про все и сказать пожелал:
«Лалов россыпь являет за ладами лал.
Так составлена песня премудрым Платоном,
Что владеет лишь он ее сладостным стоном.
Так из руда сухого он поднял напев,
Что сверкнула лазурь, от него посвежев.
Первый строй извлечет он перстами, – и в дрему
Повергает зверей, ощутивших истому.
Им напева второго взнесется волна,
И встревожатся звери, восстав ото сна».
И в чертогах царя люди молвили вскоре,
Что Харут и Зухре – в нескончаемом споре. [456]456
…Харут и Зухре в нескончаемом споре. – То есть чародей Платон соперничает с самой покровительницей музыки – планетой Венерой.
[Закрыть]
Аристотель, узнав, что великий Платон
Так могуч и что так возвеличился он,
Был в печали. Чудеснее не было дела,
И соперник его в нем дошел до предела.
И, укрывшись в безлюдный дворцовый покой,
Он все думал про дивный, неведомый строй.
Он сидел озадаченный трудным уроком,
И разгадки искал он в раздумье глубоком.
Проникал много дней и ночей он подряд
В лад, в котором напевы всевластно парят.
Напрягал он свой ум, и в минуты наитий
В тьме ночной он сыскал кончик вьющейся нити.
Распознал он, трудясь, – был не мал его труд,—
Как возносит напевы таинственный руд,
Как для всех он свое проявляет искусство,
Как ведет в забытье, как приводит он в чувство.
Так второй мудролюб отыскал, наконец,
Тот же строй, что вчера создал первый мудрец.
Так же вышел он в степь. Был он в сладостной вере,
Что пред ним и уснут и пробудятся звери.
И, зверей усыпив, новый начал он строй,
Чтоб их всех пробудить полнозвучной игрой.
Но, звеня над зверьем, он стозвонным рассказом
Не сумел привести одурманенных в разум.
Все хотел он поднять тот могучий напев,
Что сумел бы звучать, дивный сон одолев.
Но не мог он сыскать надлежащего лада.
Чародейство! С беспамятством не было слада.
Он вконец изнемог. Изнемог, – и тогда
(За наставником следовать до́лжно [457]457
За наставником следовать до́лжно… – Здесь изложен сюжет хорошо известного в Европе и популяризированного музыкой П. Дюка́ «Ученика чародея» Гете, взятый им с Востока. Суфийское положение: тот ученик, у которого нет учителя, учитель его – дьявол.
[Закрыть]всегда)
Он к Платону пошел: вновь постиг он значенье
Мудреца, чье высоко парит поученье.
Он учителю молвил: «Скажи мне, Платон,
Что за лад расторгает бесчувственных сон?
Я беспамятство сдвинуть не мог ни на волос.
Как из руда извлечь оживляющий голос?»
И Платон, увидав, что явился к нему
Гордый муж, чтоб развеять незнания тьму,
Вновь направился в степь. И опять за чертами
Четырьмя плектр умелый зажал он перстами.
Барсы, волки и львы у запретных границ,
Властный лад услыхав, пали на землю ниц.
И тогда говор струн стал и сладким и томным,
И поник Аристотель в беспамятстве темном.
Но когда простирался в забвении он,
Всех зверей пробудил тайной песнью Платон.
Вновь напев прозвучал, возвращающий разум.
Взор открыл Аристотель. Очнулся он разом.
И вскочил и застыл меж завывших зверей.
Что за песнь прозвучала? Но знал он о ней.
Он стоял я глядел, ничего не усвоя,
Как зверье поднялось, как забегало, воя?
Аристотель, подумав: «Наставник хитер,
Не напрасно меня он в дремоте простер»,
Преклонился пред ним. С тайны ткани снимая,
Все Платон разъяснил, кроткой просьбе внимая.
Записал Аристотель и строй и лады,
И ночные свои зачеркнул он труды.
С той поры, просвещенный великим Платоном,
Он встречал мудреца с глубочайшим поклоном.
Распознав, что Платон всем премудрым – пример,
Что он прочих возвышенней, – царь Искендер,
Хоть он светлого разумом чтил и дотоле,
Высший сан дал Платону при царском престоле.