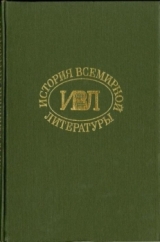
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 84 (всего у книги 88 страниц)
Он задуман как обыкновенный смертный рыцарь, неплохой человек, но рядом с Парцифалем он именно слишком обычен.
Заслуживают внимания и образы Гурнеманца и Треврицента. К тому времени, когда Вольфрам описал Гурнеманца, этот образ умудренного жизнью старого рыцаря уже стал литературной традицией. Ломая ее, Вольфрам изобразил Гурнеманца несколько комичным в его наивной преданности старым этическим канонам, в его позе защитника куртуазного мировоззрения, уже обнаруживающего свою ограниченность. Треврицент – мыслитель и страдалец – становится истинным наставником Парцифаля. А для того чтобы создать философию жизни Треврицента, спокойную, приподнятую над суетой обычной жизни, в том числе и жизни рыцарской, надо самому отойти от ее кружения и шума. Отшельник в романе не столько лицо религиозное, представляющее идею бога, сколько именно одинокий философ, свободный от предрассудков, в которых погряз изящный старец Гурнеманц.
Уже в образе Гурнеманца мы сталкиваемся с элементами юмора, иронии и сатиры в романе. Общая концепция Вольфрама – средневековая действительность, увиденная глазами праведника Парцифаля, – дает возможность многое высмеять, а многое подвергнуть строгой моральной критике.
Эта критика и сатира направлены прежде всего против высшей феодальной среды, которую сам Вольфрам так хорошо знал. Попытки осудить кулачное право, царящее на деле в обществе, охотно слушающем россказни про короля Артура и его паладинов, осудить насилие, несправедливость, встречающиеся на каждом шагу, говорят о большой смелости поэта, не постеснявшегося сказать горькую правду в лицо своей аудитории. Если речь идет о ее привилегированной части, то и здесь поэт видит лицемерие, коварство, зависть, эгоизм, хвастовство, скрывающиеся под маской куртуазности. Впечатляющие слова находит Вольфрам и для изображения жалкой участи бедняков, крестьян, горожан – всех, на кого давит помпезное сооружение феодального общества. Этому несправедливому миру противопоставлен и король Артур, и утопия ордена святого Грааля.
Вольфрам стал одним из первых, кто поэтически выразил в своем романе сложнейшую диалектику феодальной культуры XII—XIII вв. – и ее расцвет, и возникающие признаки ее кризиса, ее хрупкость, уязвимость. Блеск и нищета куртуазного мира впервые проступают в его романе как осознаваемые поэтом и неразрывно связанные друг с другом стороны его времени.

Миниатюра из рукописи «Тристана» Готфрида Страсбургского
XIII в.
Не завершив замысла «Парцифаля», Вольфрам некоторое время работал над продолжением этого романа – оно называлось «Титурель». Большой интерес представляет также переделка-перевод знаменитой французской жесты «Алисканс» из цикла жест о Гильоме Оранжском. «Виллехальм» Вольфрама, озаренный гением немецкого поэта, представляет большой интерес как любопытное звено между старофранцузской жестой и средневерхненемецким куртуазным эпосом.
Сложные морально-этические проблемы «Парцифаля», как и предвестья приблизившегося духовного кризиса цветущей куртуазной культуры, еще ощутимее сказываются в романе Готфрида Страсбургского «Тристан и Изольда», написанном в первом десятилетии XIII в., около 1210 г.
С Готфридом в немецкую литературу Средних веков входит уже не министериал и не рыцарь, а ученый горожанин. Широко начитанный в латинской и современной романоязычной литературе, Готфрид был по своему кругозору человеком новой, формирующейся городской культуры. Одним из ее очагов уже тогда был его родной Страсбург, древний перекресток европейских культур, город, лежащий на берегу Рейна. С его башен видны и близкие Вогезы, и синеющие на горизонте Шварцвальдские горы – родина сказок и преданий, в которых смешались кельтское, римское, германское и французское начала.
Образцом для немецкого поэта послужил англо-нормандский роман Тома. Готфрид подошел к истории Тристана как к возможности показать становление и развитие человека, тяжкий, полный счастья и бед путь грешной человеческой плоти. Пользуясь сюжетными мотивами Тома, от которых он отходит сравнительно редко, Готфрид конструирует на их основе произведение совершенно новое: и если в романе Тома психологизм был довольно внешним, то Готфриду доставляет чисто поэтическое наслаждение войти в суть переживаний действующих лиц, рассказать именно о душевных состояниях своих персонажей.
Развитие повествования в этом романе на первых порах неторопливо. Начальные книги – история первых подвигов Тристана, его суровая воинская юность, проведенная в седле и под парусом. Мы видим, как складывается рыцарский характер, честный, прямой, горячий, но и во многом погруженный в себя. Здесь сказывается особое положение племянника, а не сына при стареющем короле Марке, положение облагодетельствованного родственника; что он такое для вассалов Марка, принц из чужой страны в стране без наследного принца? Просто удачливый воин, поднявший меч в защиту края, король которого слишком слаб, чтобы лично своим оружием снять со страны позор дани, выплачиваемой чужеземцам?
В общем, на Тристане Готфрида с самого начала лежит смутная печать забот и тревог, некая обреченность будущей печальной участи, как и на глубоко привлекательную, старчески добродушную и мудрую фигуру Марка уже падает тень будущей беды и незаслуженного позора.
Однако настоящее развитие характера Тристана начинается вместе с его любовью к Изольде Белокурой. Уже ее появление у Готфрида осмысляется иначе, чем у Тома. В англо-нормандской версии это была прежде всего будущая супруга короля Марка, которой должно произвести на свет наследника Корнуэльского трона, предмет особых забот вассалов старого короля, не желавших признать наследником чужака Тристана. Сложный династический расчет, вполне понятный и интересный для трувера XII в., проведшего жизнь при дворе Генриха Плантагенета, где подобные династические планы строились и выполнялись с большим искусством, для образованного мейстера Готфрида, этого представителя городской духовной элиты XIII в., уже не представляет никакого интереса. Зато для него важно другое – весь узел отношений, связывающих Тристана с Изольдой Белокурой к тому моменту, когда она, сестра убитого им Морольта, встречает его как посланца короля. Тристан прибыл с тем, чтобы отвезти ее, королевскую невесту, в замок, где надлежит венчаться. Изольда узнает в нем убийцу своего родича и готова убить юношу. На ненависть девушки Тристан отвечает куртуазной вежливостью. Но постепенно их отношения делаются все более неясными, многозначительными, близкими, и, охваченный страхом за себя и за нее, рыцарь стремится оградить и себя и Изольду от готового разгореться большого чувства.
Вновь демонстрирует Готфрид свое искусство замедленного действия. Страсть побеждает Тристана и Изольду окончательно даже не потому, что они не устояли перед растущим чувством любви, – нет, оба они достаточно благородны, чтобы вовремя сдержать себя во имя высших чувств: он – во имя любви к Марку, она – во имя памяти об убитом брате.
Но их участь, как об этом писал уже англо-нормандец Тома, решена волшебным питьем, поднесенным по ошибке, вместо обычного прохладительного, которого они хотели отведать за шахматной доской, под надутыми парусами, несущими их корабль в Корнуэльс. Так Тристан становится жертвой колдовства, а не просто обычного любовного чувства, которое он и победил бы, если бы не чары приворотного зелья:
Когда почувствовал Тристан,
Что он любовью обуян,
Решил он не сдаваться,
Чтоб с честью не расстаться...
Стремясь Любовь преодолеть,
Накинутую ею сеть
Он разорвать пытался
И долго не сдавался.
Двойную муку он терпел:
Когда в глаза он ей глядел,
И сладкая любовь
Ему мутила ум и кровь...
(Перевод О. Румера)
Дальнейший этап психологического развития в романе посвящен именно этой напрасной борьбе Тристана и Изольды с победившим их зельем. Это, казалось бы, история их новых душевных страданий, но это в полном смысле слова и история торжествующей любви, песнь которой сложена Готфридом в духе самой изысканной поэтической любовной традиции не только XII в., но всей той литературы, которая была известна Готфриду. В том числе им была использована, конечно, и античная традиция; так, в духе Овидия начинается ничем не сдерживаемая война человеческих чувств – страсти Тристана и Изольды и мнения их среды, для которой они – изменники и преступники, павшие до уровня прокаженных. Эту распрю с отчаянием наблюдает король Марк, теряющий последних своих сторонников среди спесивых и своевольных вассалов. Поединок двух грешников и мира феодальной морали развертывается как захватывающая бытовая драма, совершенно новая для аудитории XII в., хотя и известная в своих сюжетных перипетиях. Готфрид целиком на стороне влюбленных, и если они и несчастны, отвержены, преследуемы, то тем больше счастье, которое они находят в своем чувстве. Это уже не та трагическая, но подчас простодушная любовь, которую живописал Тома, тоже достаточно красноречивый в изображении страсти, а всеобъемлющее глубокое чувство.
Сметая предрассудки и установившиеся сословные воззрения, Готфрид выступил против узости придворного, куртуазного понимания человеческих отношений. Куртуазные каноны чувства для него тоже сословны, ограниченны в своей условности, слишком декоративны. Он спорил с Вольфрамом, критикуя мистические тенденции его романа, упрекая его в одностороннем и бледном изображении человеческих чувств и противопоставляя ему свое великолепное, смелое утверждение чувственного начала как начала благородного, поднимающего, а не роняющего человека. Вполне понятно, что, с другой стороны, он нашел нужным восторженно отозваться о Гартмане фон Ауэ, который со своей концепцией человека и любви ближе Готфриду, чем слишком философствующий Вольфрам.
Готфрид не довел до конца свой блестящий роман. Продолжатели, дотянувшие сюжетную линию, известную по книге Тома, были неизмеримо ниже страсбургского поэта. Это сказалось не только в том, как эпигонски были досказаны последние приключения Тристана, но и в том, как не похож их стиль на гениальную музыку стиха Готфрида. Изощренность этого поэта сказалась прежде всего в искусстве восхвалить земную, пламенную страсть. Он сумел также создать исключительный по богатству подбор ритмомелодических средств, показав широчайшие возможности немецкого стиха. «Тристан и Изольда» Готфрида из Страсбурга – непревзойденная для того времени вершина в истории немецкого рыцарского романа, одно из его наиболее значительных достижений в мировом масштабе.
АНГЛИЙСКИЙ РЫЦАРСКИЙ РОМАН
Иными были пути развития рыцарского романа на английском языке. В силу определенных особенностей феодального строя у англосаксов в английском обществе до нормандского завоевания (1066) не сложился социальный тип, соответствующий континентальному рыцарю. Более патриархальный и грубый, быт англосаксонской феодальной усадьбы отличался от быта континентальных замков XI в. Куртуазия, уже начинавшая складываться на континенте как этикет светского поведения, здесь еще была незнакома.
И само рыцарское сословие с его кодексом поведения, и куртуазная культура были как бы привнесены в Англию нормандскими завоевателями вместе с чужим французским языком (точнее, вместе с нормандским диалектом старофранцузского языка), – это обстоятельство в еще большей степени способствовало тому, что англосаксонская культура, все же сохранившаяся и при нормандских завоевателях, сознательно изолировалась от этих французских новшеств. Феодалы английского происхождения лишь очень постепенно восстанавливали свои права наряду с феодалами – потомками французских пришельцев. Только при Ричарде I, в конце XII столетия, этот процесс несколько ускорился.
Вследствие этого и такие характерные явления, как куртуазная лирика и эпос на различных наречиях старофранцузского и провансальского языков, были долгое время достоянием франкоязычного, по существу пришлого феодального круга, охватывающего, впрочем, наиболее влиятельные слои светской и церковной знати, которая служила опорой для королей Анжуйской монархии. Положение стало меняться только в начале XIII в. Около 1205 г. некий клирик Лайамон создал большую эпическую компиляцию «Брут», в основу которой положил ряд источников, прежде всего известное латинское сочинение Гальфрида Монмутского.
«Брут» Лайамона представляет собой героическую поэму (полухронику, полуроман), где основное внимание уделяется истории британцев, предков англичан, со времени высадки легендарного потомка Энея на британском берегу и вплоть до трагического завершения вековой борьбы между бриттами и англосаксонскими завоевателями. Большую роль в этом повествовании играет группа сюжетов, связанная с королем Артуром. При этом, выступая как певец «англичан», Лайамон под ними подразумевает именно британцев. С них начинает он героическую традицию своего народа, движимый стремлением доказать, что таковая существует не только у нормандцев и бретонцев, но и у самих островитян. Подчеркнуто «английский», антинормандский характер поэмы был усилен и тем, что поэма написана на английском языке XIII в., а не на старофранцузском. Она сложена английским аллитерированным стихом. Конечно, довольно неуклюжее произведение Лайамона находилось под сильнейшим воздействием французской средневековой поэзии, и это обнаруживалось не только в известной зависимости сюжета от Васа, но и в характере поэтической структуры, которая, несмотря на английскую основу, выдает тяготение вкусов ее автора к рыцарской французской поэзии. Но все же «Брут» Лайамона – ранняя форма рыцарского романа на английском языке, отмеченная значительным своеобразием.
В XIII в. появилось еще несколько английских рыцарских романов. Правда, они тоже основывались на более ранних (XII в.) нормандских версиях, но эти последние восходили к англо-датским сюжетам гораздо более далекого прошлого. Очевидно, эти англо-датские героико-приключенческие предания родились еще до 1066 г. и веками существовали в устной форме, будучи известны сначала в английской среде. После завоевания они стали достоянием нормандских труверов, жадных до забавных и увлекательных сюжетов, где бы они их ни находили.
Среди этих романов особенно существенны «Король Горн» (ок. 1225) и «Песнь о Гавелоке» (или «Гавелок-Датчанин», вторая половина XIII в.).
При всем том что эти романы имели существенное значение для английской литературы и достаточно долго вызывали интерес в самой пестрой среде читателей и слушателей, они не отличаются глубиной и своеобразием, которые присущи романам Кретьена де Труа или великим немецким поэтам-романистам XII—XIII вв. Англия не дала ни одного блестящего и оригинального автора рыцарских романов. В названных произведениях англо-датские мотивы переплетаются с мотивами собственно рыцарского романа более позднего времени. В этом отношении они представляют большой интерес для сравнительного изучения повествовательных жанров феодальных литератур Запада и Востока.
Во второй половине XIII в. в Англии усиливается интерес к переводу французского романа на разговорный язык более широких кругов английского общества. Наверстывая некоторое отставание, английские переводчики знакомят своих читателей с основным фондом средневековой повествовательной литературы: здесь и роман о Флуаре и Бланшфлор (ок. 1250), и «Сэр Тристерм» (конец XIII в.) и многое другое.
Таким образом, поэты, создавшие могучую и своеобразную литературу двора Анжуйской династии на французском и латинском языках, сыграли гораздо более значительную роль в развитии средневековой литературы в целом, чем авторы английских рыцарских романов. Однако самое наличие романа как нового жанра английской поэзии, защищающей интересы своей национальной традиции и воплощающей ее продолжение, не может быть недооценено.
Характерной чертой английского рыцарского романа XIII – начала XIV в., представляющего собой в основном перелицовки с французского, была его ориентация на довольно широкого читателя и слушателя. Здесь перед нами, несомненно, новый этап в развитии куртуазной литературы, постепенно видоизменяющейся под могучим воздействием городской культуры, особенно южной прибрежной полосы, этого края купцов и мореходов. Влияние городской культуры отозвалось в рыцарском романе обилием бытовых черточек и примет, а также весьма ощутимым дидактизмом и морализаторской тенденцией. Таков, например, созданный в конце века (и в подражание франко-нормандскому источнику) стихотворный роман о Гае из Варвика. Герой романа, кравчий графа Варвикского, после довольно рассеянной молодости решает вести благочестивую жизнь, совершает паломничество к святым местам, а в конце жизни став отшельником, проводит остаток своих дней в посте и молитве.
И в XIV в. городская дидактика оказывает заметное влияние на доживающий последние дни рыцарский роман, лучший памятник которого – анонимный «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь» (ок. 1370) – в сложных иносказаниях прославляет христианские добродетели и в этом смыкается с типичным жанром эпохи – дидактической аллегорической поэмой, возникшей уже целиком на городской почве.
*ГЛАВА 5.*
ГОРОДСКАЯ САТИРА И ДИДАКТИКА. (Самарин Р.М.,Михайлов А.Д.)
КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
К. Маркс не случайно назвал западноевропейские вольные города «наиболее ярким цветком Средневековья» (Маркс К. Капитал, т. 1. М., 1952, с. 720). Действительно, культура средневекового города была многообразной и динамичной, в ней сталкивались разные тенденции, четко обозначались реакционные, отживающие, но цепко борющиеся за свои позиции черты и прогрессивные импульсы, с которыми было связано поступательное развитие искусства.
Своеобразная городская культура складывается в Западной Европе со второй половины XI столетия. XII век и первая половина XIII в. стали в ее развитии важнейшим этапом.
При всем разнообразии и пестроте городских образований в средневековой Европе возникающая в них культура отмечена определенным типологическим единством. Корни этого единства – в общности городского уклада, в котором торговля и производственные функции скоро выходят на первое место. Поэтому сходные явления обнаруживаются в городах Северной Франции и Южной Германии, Испании и Англии, Скандинавии и Чехии. Это сходство не исключает, конечно, порой существенных местных различий, проявляющихся не только в особенностях складывающегося национального мироощущения, но и в самих темпах развития: так, в городах Прованса или Италии городская культура оформляется раньше, чем в других европейских странах.
В отличие от крестьянства и от рыцарского сословия среда горожан была очень пестрой и многообразной. В ней можно выделить патрициат, державший в своих руках городское самоуправление и представлявший собой не только верхушку купечества и ремесленничества, но и внушительного землевладельца, смыкаясь в этом с рыцарством средней руки. Заметим, что в XII и особенно в XIII в. рыцари все чаще селились в городах, составляя влиятельную часть их населения. Основной массой горожан были ремесленники и торговцы, а также слуги и некоторое число представителей свободных профессий. Немало стекалось в город и бедноты из окрестных селений. Приток крестьян из крепостной деревни в город, где они получали свободу и овладевали городскими ремеслами, существенным образом влиял на лицо средневекового города. Нельзя также не упомянуть представителей клерикальных кругов, которые не только учились в городах, в епископальных соборных школах, но и оседали здесь на постоянное жительство.
Все эти разнородные элементы были носителями разных культурных традиций, которые не только взаимодействовали, но и постоянно сталкивались, ведя порой упорную борьбу, часто в рамках одного, отдельно взятого произведения. Городская культура обладала значительно большей подвижностью, чем культура феодальная. Этим объясняется и развитие в городской литературе всевозможных жанров и форм. По сравнению со словесным искусством горожан разнообразные жанры куртуазной литературы отличались большим стилистическим и идеологическим единством. Многообразие и динамизм, присущие городской словесности на исходе Средневековья, привели к тому, что именно в недрах городской культуры возникли первые ростки Ренессанса.
Сложным было взаимодействие городской литературы с литературой феодальной. Здесь можно говорить и об открытом, осознанном противостоянии, и об использовании куртуазного поэтического опыта для своих городских нужд. Городской патрициат всегда тянулся за культурой рыцарства, самозабвенно подражая ей и желая с ней сравниться. В то же время достижения городской культуры были небезразличны для рыцарства, в среде которого, несомненно, пользовались популярностью веселые рассказы о проделках хитроумного лиса Ренара, и возвышенные аллегории «Романа о Розе», и поучительные истории фаблио и шванков. Городская литература предназначалась не одним горожанам (вот почему в таком характерном жанре городской словесности, каким были фаблио, некоторые ученые увидели некий промежуточный жанр, остановившийся где-то между городом и замком).
Важным фактором развития городской культуры был фольклор, прежде всего фольклор деревенский. Постоянный приток крестьян в города сказался в усилении народной тематики и проблематики в некоторых литературных сочинениях, созданных в городских стенах. Поэтому в ряде случаев уже нельзя говорить о произведении городской (или только городской) литературы, нужно говорить с полным основанием о памятниках литературы народной. Фольклорная основа, безусловно, просматривается кое-где и в произведениях куртуазных: в их ритмике, в образном строе; в городе воздействие фольклора было иным. Из него в городскую литературу широко проникли таящиеся в нем социальные, бунтарские мотивы. XII и XIII века были временем могучих народных движений, всегда захлебывавшихся в крови, но грозно сотрясавших здание феодализма. Эгалитарные устремления народа нашли отражение и в памятниках городской литературы, а фигура крестьянина приобретает в ней внушительные размеры, несопоставимые с образами вилланов рыцарской лирики и романа. На исходе Средневековья в творчестве англичанина Ленгленда этот боевой бунтарский характер, свойственный ряду явлений городской культуры, раскрылся с наибольшей отчетливостью и силой, суммируя могучие искания народа, противопоставившего себя не только феодальной верхушке, но и городскому патрициату. В творчестве Ленгленда культура города раздвигает свои рамки и приобретает черты культуры народных масс.
Следует, однако, учитывать, что отношение к крестьянству со стороны средневекового города не было однозначным. Городская верхушка – патрициат – видела в крестьянине потенциального врага, и в годы грозных народных движений город часто становился на сторону феодалов, помогая им подавлять крестьянские мятежи. Неимущие слои горожан, еще вчерашних крестьян, видели в жителях деревни своих союзников в социальной борьбе. Но для городского плебея крестьянин был не только союзником; он олицетворял собой и мелкособственническое начало, тем самым становясь из союзника врагом. Поэтому образ крестьянина в городской литературе сложен и противоречив – он то оказывается олицетворением общенародных идеалов, то, наоборот, – всего косного, застойного, патриархального. Он то грозен, то добродушно сметлив и благороден, то непроходимо туп и комичен.
Народные истоки лежат в основе постепенно складывающейся в городах площадной карнавальной культуры, сатирической по своей направленности и плебейской по своему внутреннему содержанию, отмеченной кощунственными травестиями, смелыми пародиями и вывертыванием наизнанку всех привычных норм и правил. Это временное торжество «злого начала» отразило дуализм средневекового миросозерцания и не запрещалось властями. Однако карнавал неизбежно наполнялся элементами социального обличения, что видно на судьбе ряда связанных с площадной культурой явлений – например, некоторых форм театра или, скажем, «Романа о Ренаре». Но сатирический характер типичен не только для жанров и форм городской литературы, так или иначе связанных с карнавалом. Сатиричность – определяющая черта культуры города. Здесь сказалась не только свойственная горожанам и – шире – народным массам неистребимая веселость, но и их скептицизм, их трезвый взгляд на мир. Эта житейская трезвость (а не только травестирующие тенденции карнавальной стихии) отозвалась в ряде жанров городской словесности повышенным интересом к быту, к самым повседневным, даже низменным его проявлениям. Поэтому литература города в значительно большей степени, чем литература феодальная, отмечена реалистическими тенденциями.
Сатирические устремления сочетались с нравоучением, морализированием. Осмеяние пороков или предрассудков общества или его отдельных представителей часто делалось не только в развлекательных и сатирических, но и дидактических целях. Вот почему культура города не только очень рано выработала целый ряд специфических нравоучительных жанров, но и наполнила дидактикой и веселые фаблио, и шванки, и аллегории «Романа о Розе», и сатирические сцены первых памятников драматургии.
Городская литература не была замкнутой ни социально, ни географически. Между городами, дальними и ближними, постоянно осуществлялся культурный обмен. Ему способствовали частые многодневные ярмарки (например, знаменитые шампанские), куда съезжались купцы и торговцы со всей Европы. Мастера каменного дела – строители готических соборов – возводили свои величественные сооружения, путешествуя из страны в страну. Театральные братства разыгрывали свои спектакли в разных городах. Слагатели фаблио и шванков примыкали то к беспокойным ватагам вагантов, то к караванам купцов, то путешествовали с толпами паломников. Вместе с поэтами кочевали и сюжеты. Поэтому не приходится удивляться, что веселые и поучительные истории о глуповатых горожанах, пройдохах-купцах, беспутных горожанках, алчных и сластолюбивых священниках мы найдем и у французских поэтов, авторов фаблио, и у немецких слагателей шванков, и у испанских городских рассказчиков, и у авторов итальянских городских новелл. У всех у них были и общие истоки – ряд памятников латинской литературы, а также некоторые сюжеты, занесенные с Востока (об этом будет сказано ниже). Но непосредственные контакты и литературный обмен нельзя и абсолютизировать. Важным фактором стала типологическая общность городской культуры разных областей Европы. Сходность социальных структур обусловила появление сходных сюжетов, сходных образов и ситуаций. Близость изначальных идеологических посылок писателей-горожан отозвалась и сходным отношением к действительности,
сходным решением нравственных и социальных проблем.
Как и вся культура феодализма, культура средневекового города проявляла тенденцию к регламентации и каноничности. Но история городской словесности представляет собой историю непрерывного противоборства двух тенденций – канонизирующей, т. е. проявляющей стремление к замкнутости, к окостенению, и ей противоположной, с которой и связывается поступательное движение литературы. Борьба этих двух тенденций не всегда происходит в рамках одного жанра; чаще бывает иначе: одни жанры формализуются, останавливаются в своем развитии, но им на смену постоянно приходят новые жанры и формы, несущие в себе передовое мировоззрение, прогрессивные социальные устремления эпохи.
В городской литературе заметный пласт, по крайней мере количественно, составляли произведения, отмеченные ярко выраженными охранительными тенденциями, прославлявшие частное предпринимательство, благонравие, богобоязнь. Эта бюргерская стихия проникает и в произведения, при своем возникновении носившие совсем иной характер. Вообще буржуазную ограниченность, типичную для многих памятников литературы города, ни в коей мере нельзя сбрасывать со счетов, подобно тому как нельзя забывать и о некоторых реакционных чертах, свойственных мировоззрению простого народа.
Охранительные, откровенно реакционные черты городской литературы усиливаются к концу Средневековья, когда особенно разрастается дидактическая направленность, в известной мере заглушая нарастающие в ней мотивы социальной критики и протеста. Вот почему первые гуманисты Возрождения столь резко отрицательно отнеслись ко многим явлениям городской культуры. Но так было на исходе Средних веков. При своем возникновении литература города заняла свое место рядом с литературой замка, рядом с ней и в полемике с ней, поэтому с самого начала она несла ярко выраженный наступательный сатирический заряд, вбирая в себя творческие импульсы, идущие из широких народных масс.
ФАБЛИО, ШВАНКИ, САТИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
XII столетие унаследовало от предыдущих этапов исторического развития средневековой культуры зачаточные формы сатирической бытовой словесности, отражавшей настроения и чаяния народных масс средневекового общества – крестьянства прежде всего, но и многочисленного и социально активного городского трудового люда. Теперь эти формы стали крепнуть и приобретать характер более или менее сложных жанров письменности, а не только словесности. Это касается в первую очередь быстрого развития кратких бытовых юмористически-сатирических жанров, к которым относятся фаблио в странах французского культурного ареала, шванки в германоязычных землях, различные предшественницы новеллы («примеры», «экземпла») в Италии и Испании и многие близкие к ним жанровые явления, характеризующиеся юмористической или сатирической тенденцией и ясно выраженным интересом к быту.
Импульсы, способствовавшие появлению сатирической литературы, были весьма различны. Среди них большую роль играли зарубежные веяния – преимущественно восточные, действовавшие и до XII в. Но теперь, активизированные развитием культурных отношений с Востоком, индийские, арабские, еврейские, иранские сюжеты врываются в XII в. в литературы Европы. К числу таких источников, снабжавших западноевропейскую городскую литературу сюжетами, нередко занесенными из далеких стран Востока и из далеких столетий, относятся и два известнейших анонимных сборника – «Книга о семи мудрецах» и особенно «Римские деяния». «Книга о семи мудрецах» восходит к индийским источникам, она примечательна своей обрамляющей композицией и обогатила западноевропейского читателя новыми представлениями о государственной и семейной жизни, о морали и обычаях чужих земель. «Римские деяния» – латинский сборник сказок и анекдотов восточного и античного содержания и происхождения, неисчерпаемый кладезь сюжетов, образов и ситуаций для всей западноевропейской литературы последующих веков; он повлиял на трактовку характеров рождающейся городской литературы. Находчивый ремесленник, хитрый и жадный крестьянин, целая галерея женских типов, известные по сатирической литературе Средних веков, напоминают о героях этой замечательной книги.








