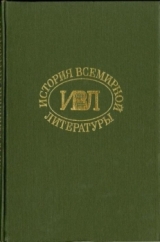
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 88 страниц)
Над несомненным проявлением удельных тенденций преобладает идея объединения. Основное внимание автор придает фактам общегосударственного значения, оперируя точными датами, а главной своей задачей считает увековечение деяний князей и королей польских. В то же время его внимание привлекают рыцарские подвиги, и тут нередко исторические факты сочетаются с преданиями и литературными вымыслами. В искусстве слова автор хроники сильно уступает Кадлубеку. В композиционно-стилевом отношении труд его довольно неровный, и наряду с фрагментами отточенными и завершенными встречаются и такие, которые производят впечатление предварительного, чернового наброска. В то же время эта хроника для истории литературы представляет чрезвычайную ценность: если творение магистра Винценция является лишь косвенным свидетельством проникновения в Польшу западного романа, то «Великопольская хроника» документально подтверждает его присутствие. Здесь, помимо славянских легенд о далеком прошлом (как, например, впервые на польской почве фигурирующее в этой хронике предание о братьях Лехе, Чехе и Русе – праотцах поляков, чехов и восточных славян), встречается переработка популярного на Западе романа о Вальтере Аквитанском. Действие перенесено в Польшу. Вальтер, княживший в замке Тынец (около Кракова), на чужой стороне похищает суженую. Далее западный сюжет пополняется историей измены Хельгунды и кровавой расправы, учиненной Вальтером над неверной женой и ее избранником. Эта вторая – «польская» – часть более разработана, чем первая. Автор с характерной для Средневековья натуралистичностью живописует сцены издевательств и жестокости: сперва Хельгунда со своим избранником – прекрасным князем вислицким Веславом, пленником мужа – коварно схватывают и приковывают к стене Вальтера, чтобы затем на его глазах предаваться любовным утехам. Потом Вальтер, которого освобождает влюбленная в него сестра Веслава, долго наслаждается ужасом любовников, прежде чем их убить.
Этот роман в хронике – чрезвычайно интересный материал. Он свидетельствует не только о знакомстве поляков с западным романом, но и об адаптации этого жанра на польской почве, о включении его в систему национальных традиций, фольклора, историко-бытовых преданий.
В этот же период возникает и первая польская рыцарская поэма, упоминаемая в «Польской хронике» и вошедшая в науку как «Carmen Mauri». Ее героем был паладин Пиотр Власт (Влостовиц), воевода при Болеславе III Кривоустом, а затем при его сыне Владиславе II Изгнаннике. Опасаясь грозного соперника, Владислав приказал его ослепить (на рубеже 1145—1146 гг.). Умер Власт в 1153 г. Предполагают, что поэма возникла в монастыре св. Винценция (Вроцлав) – одном из многочисленных храмов, воздвигнутых Властом. Ее автор – Маурус, возможно, бенедиктинец (или норбертианец) из этого же монастыря, написал свое произведение вскоре после описываемых в нем событий. По другим предположениям, поэма могла возникнуть во второй половине XIII – начале XIV в. Текст этого произведения, состоявшего предположительно из 300—400 гекзаметров (впрочем, не исключено, что он мог быть написан и леонинским стихом), не сохранился. Не дошло до нас и существовавшее еще во второй половине XVIII в. произведение поэта, церковного и государственного деятеля Адама Сьвинки (ум. ок. 1433—1434). На основе краткой информации одного из эрудитов XVIII в. трудно судить о жанровой специфике произведения – была ли это эпическая поэма или рыцарский роман о жизни и деяниях Казимира I. То же можно сказать и о сохранившемся фрагменте стихотворного произведения, где описывается борьба за власть между крупным политическим деятелем, кардиналом Олесницким и Косьмидором-Грущиньским.
Рифмованные фрагменты и стихотворные вставки в хрониках, рыцарская поэма Мауруса – отражение не только развития польской поэзии на латыни, но и ее значения и распространенности в средневековой Польше. Поэзия эта, как, впрочем, и вся польская письменность эпохи, преимущественно оригинальна. Переводились или подвергались компиляции немецкие юридические кодексы, некоторые проповеди и некоторые поэтические тексты, связанные с богослужением. В религиозной поэзии особое распространение получили гимны и секвенции. Наиболее яркие образцы этих жанров, воздействовавшие в дальнейшем на форму польской религиозной и светской поэзии, – «Секвенция о св. Станиславе» Винценция из Кельц (XIII в.) и гимн «Возрадуйся, Мать Польша» (видимо, XIV в.). Одновременно развивается и светская поэзия, представленная прежде всего встречающимися еще в хронике Галла Анонима жанрами «carmina» и «cantilenae» с содержанием лирического либо эпического характера (воспевание побед, крупных событий в жизни государства и двора). В этом отношении знаменательна «Песнь о войте краковском Альберте» (XIV в.), которая тематически связана с бунтом (1311) краковских горожан против Владислава Локотка под руководством войта Альберта и епископа Мускаты. «Песнь» написана леонинским стихом и состоит из 121 поэтической строки,
сгруппированных в 21 строфе. Создаются также стихи «на случай», стихи-посвящения, эпицидеоны (траурные стихи, песни), панегирики, памфлеты, эпитафии, эпиграммы.
Начиная с XIV в. появляются творения, которые, выходя за рамки местной тематики и проблем, вызывали интерес как в других землях Польши, так и за ее пределами. Это прежде всего сборник проповедей доминиканца Перегрына из Ополя и также написанная (вскоре после 1320 г.) леонинским стихом (430 строк) поэма Фровинуса «Анти-Гамератус», которая предназначалась для школ.
В истории развития словесного искусства и литературной культуры особый интерес представляют первые образцы польской агиографии, созданные польскими авторами. В отличие от ранее написанных иностранцами житий первых польских святых, здесь наряду с историческими фактами, отзвуками общественной и политической жизни, образами известных деятелей церкви и государства был отображен национальный колорит, местные реалии, бытовой фон, психологические детали – вот почему эти памятники воспринимаются как своеобразные религиозные романы. Это было обусловлено общими закономерностями, характерными для средневековой литературы, которая объединяла все виды письменности, создавая тем самым предпосылки для межродового и межжанрового взаимодействия. В Польше уже древнейшие жития национальных святых – Войтеха (X в.), Станислава (XIII в.), Саломеи (между XIII и XIV вв.), Кинги (первая половина XIV в.) – содержат отчетливо выраженные романические элементы и в фабульной сфере, и в приемах сюжетосложения. Особо следует отметить и роль таких популярнейших в Европе агиографических сборников, как «Жития отцов», приписываемые св. Иерониму, и «Золотая легенда» Иакова Ворагинского. Историк XV в. Ян Длугош свидетельствует о наличии польских переводов этих произведений уже в XIV в.
Взаимосвязь национальной истории, идеологии, культуры и словесного искусства можно проследить на примере «Жития св. Станислава» – первого образца польской агиографии, создаваемой уже самими поляками. Краковский епископ Станислав из Щепанова в 1079 г. был четвертован по приказу Болеслава II Смелого (1039—1081) за участие в политическом заговоре. Казнь стала поводом и непосредственной причиной открытого бунта влиятельных и богатых политических противников централизации власти в руках первого коронованного (1076) польского короля. Болеслав вынужден был покинуть Краков – новую (после Гнезна) столицу Польши – и искать убежища в Венгрии. Ужасная смерть Станислава создала вокруг его фигуры легенду мученичества, которая в конце концов стала мифом не только польского католицизма, но и мифом польской государственности (впрочем, вероятно, не без влияния духовенства). Еще Галл Аноним в своей Хронике отнюдь не благосклонно вспоминает епископа Станислава. Однако спустя век Кадлубек уже преклоняется пред своим предшественником на епископском престоле, отражая иную тенденцию, которая привела к канонизации Станислава в 1253 г. (возможно, на это в определенной степени повлияла и кадлубекова хроника). Культ Станислава особенно распространяется с конца XII в., вытесняя культ первого польского святого – Войтеха. Легенда о том, как чудесно срослось четвертованное тело епископа, стала не только религиозным мифом периода усиления католицизма в XIII в., но и политическим символом объединения раздробленной на уделы Польши. Так религия переплеталась с политикой в государственной жизни и в духовной, в идеологии религиозной и светской, что нашло отражение и в литературе.
Еще до канонизации возникает первый (называемый «малым») вариант «Жития св. Станислава», автор которого доминиканец, священник в Щепанове – родина Станислава – собрал о нем местные сведения и устные предания, равно как и использовал данные исторических хроник. В то же время общая композиция этого произведения типична для агиографической литературы: на первом плане фигурируют чудеса, якобы сотворенные Станиславом в жизни земной и небесной, причем деяния эти были позаимствованы из других – западноевропейских произведений подобного рода. По-видимому, это «малое» «Житие» перестало удовлетворять, если сравнительно скоро (в 1256—1266 гг.) возникает новое, расширенное «Житие», автором которого был также доминиканец Винценций из Кельц, восполнивший материалы, использованные предшественником, данными канонизационной буллы.
Однако главная отличительная черта этого «Жития» – ее художественно-литературный облик, драматизация повествования, достигаемая благодаря контрастному расположению ярко выписанных главных персонажей: короля и епископа, тирана и жертвы, преступного и невинного. Этот контраст – отражение конфликта, представленного в свете христианского этического учения о Добре и Зле. Динамика сюжета обусловлена развитием конфликта главных героев. Их образы и судьбы являются канвой повествования. Тем самым достигается определенное художественное единство, в котором получает себе место отражение фактов и идей —
материальных объектов, явлений и их духовной сущности – и интеллектуальное обобщение, абстрагированное от единичности этих объектов, этих явлений.
Художественные достоинства творения Винценция из Кельц обусловили действенность его восприятия, а тем самым и популярность.
Пользовались популярностью, перейдя впоследствии в фольклор и беллетристику, и другие жития польских святых. В этом отношении показательно «Житие св. Кинги», возникшее на рубеже XIII и XIV вв. Дочь венгерского короля Белы IV, жена князя краковского и сандомирского Болеслава Стыдливого (1226—1279), Кинга (1234—1292) после смерти мужа жила в Новом Сонче, где основала костел и монастырь, в молитвах проводя остаток дней своих. «Житие св. Кинги», написанное в соответствии с присущими такому жанру идейно-художественными канонами, в то же время привлекает рельефным изображением быта княжеского двора и монастыря, сценками из жизни, своеобразным переплетением национального фольклора с христианской мифологией. Тем самым католический универсализм насыщается типичным для Польши национальным колоритом, причем иногда ярко выраженного местного (регионального) характера. Подобные тенденции проникают и в жития, не связанные с польской историей. Это, с одной стороны, свидетельствует о стремлении приблизить к польскому читателю (слушателю) произведение, возникшее на инонациональной почве и, следовательно, отличающееся художественно-тематическими особенностями, непонятными в иной среде с иной историей, традициями, культурой, психологией, укладом. С другой стороны, такого рода идейно-эстетическое переосмысление произведения при его переводе, адаптации или в процессе компиляции свидетельствует о наличии в польской письменности определенных сложившихся национальных художественных традиций, а следовательно – об определенном уровне развития национальной письменности и национальной литературной культуры.
Эти художественно-стилевые традиции и эта культура были созданы в Польше благодаря латыни. Заключенная в поэтиках и риториках теоретическая мысль, жанры, стили, сюжетные типы, привнесенные на польскую почву благодаря латыни и на латыни, затем – по мере развития просвещенной польской среды – стали постепенно претворяться в национальном языке.
С развитием национальной государственности и постепенным складыванием польского народа кристаллизируется и новый тип общенародного самосознания. Это отражается и в деятельности церкви, где постепенно, с XII в., начинают преобладать поляки. В 1285 г. архиепископ Якуб Сьвинка в синодальном постановлении предписывает, чтобы школьными учителями и приходскими священниками назначались только знающие польский язык, а также, чтобы проповеди и некоторые молитвы читались по-польски. Это было продиктовано также и стремлением к углублению христианского мировосприятия среди широких масс, не знающих латыни. Иной была практика государственного аппарата, где по-прежнему господствовала латынь. В XIV в. польский язык в качестве вспомогательного появляется в судебных книгах, на нем пишутся тексты присяг.
С середины XV в. появляются переводы существовавших земских статутов, которые, однако, не имеют юридического правомочия оригиналов. Новые статуты оглашаются по-прежнему на латыни. Впрочем, еще до середины XV в. латынь снова вытесняет польский из судебных документов (исключение – мазовецкие земли), а королевская канцелярия начинает использовать национальный язык, и то лишь в качестве вспогательного, на рубеже XV—XVI вв.
Процесс проникновения польского языка в письменность начинается около середины XIII в. и идет от глосс на полях богослужебных и правовых книг, от отдельных слов или фраз в летописях и хрониках, а также юридических документах – до цельных в языковом отношении текстов. Первое из ныне известных творений на польском языке – «Богородица» – религиозный гимн, который стал и гимном государственным. Относительно времени его возникновения мнения ученых разделились: от X в. (традиция приписывает авторство св. Войтеху) до XIV в. Согласно новейшим исследованиям, «Богородица» могла возникнуть не раньше второй половины XIII в. О древности этого произведения свидетельствуют греческо-византийские влияния в лексике и характер мелодии. Две первые, наиболее древние строфы отличаются большим художественным мастерством, а применение параллелизма свидетельствует о воздействии народной песни. В других польских песнях и гимнах (XIV в.), связанных с христианскими обрядами, воздействие народной традиции проявляется в системе образности, стиле, а также версификации (изосиллабизм, преобладание восьмистрочного стиха).
Средневековая поэзия на польском языке в значительной степени оригинальна в своем генезисе, а художественно превосходит современные ей образцы прозы (проповеди, молитвы, жития, апокрифы, послания), которые в большинстве своем являются переводами или компиляциями (в основном с латыни и чешского).
Древнейший памятник прозы на польском языке – сохранившиеся во фрагментах «Свентокшижские проповеди» (по названию монастыря) – возникли на рубеже XIII—XIV вв. Этот, по-видимому, оригинальный сборник состоит из пяти проповедей, изложенных эскизно, в виде наброска, используемого проповедником в качестве конспекта. Стремление к художественному изложению текста отражается в характере композиции и стиле, отличающемся тщательным и продуманным подбором художественных средств (эпитеты, синонимы, повторы и др.) и системой аллегорий. Иной характер имеют «Гнезненские проповеди» – сборник конца XIV – нач. XV в., состоящий из 103 латинских и 10 польских сочинений – в основном переводы из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, проповедей Перегрына из Ополя, Иеронима из Праги и др. Польские тексты отличаются близостью к разговорному языку, введением характерного для обыденного обихода обращения, ссылок на существующие отношения, анекдотических вставок, легенд и т. п.
Характерной особенностью литературы на польском языке вплоть до конца XIV в. была ее предназначенность для духовных лиц, выступавших в роли посредников. С конца XIV в. появляются произведения, предназначенные непосредственно для владеющих грамотой. Правда, имеется свидетельство о польском переводе псалмов уже в XIII в. (так наз. «Псалтирь Кинги»), однако древнейшим из дошедших до нашего времени памятников такого рода является «Флорианская псалтирь» (конец XIV – нач. XV в.), называемая также «Псалтирью Ядвиги» (существует предположение, что она предназначалась краковскими горожанами в подарок этой королеве). Текст, написанный на латинском, польском и немецком языках, возможно, восходит к «Псалтири Кинги». Может быть, к этой последней восходит и «Пулавская псалтирь», сохранившаяся в списке конца XIV или нач. XV в. В XV в. не без влияния гуситского движения и других социально-религиозных течений, использующих Ветхий и Новый Заветы в разработке своих доктрин, Библия по-новому начинает привлекать к себе внимание. Первый польский ее перевод (с чешского), известный под названием «Библии королевы Зофьи» или «Широшпатацкой библии», появляется в середине XV в. До нашего времени дошел также ряд сделанных в XV в. переводов отдельных фрагментов Ветхого и Нового Заветов. Все это представляет интерес не только как памятники национального языка времени Позднего Средневековья, но и как первые звенья эволюции художественно-литературного стиля, первые опыты освоения нового для национальной культуры и словесности типа образности, аллегоризма, тем и мотивов, первые попытки создания лексико-синтаксических аналогов тех произведений, которые были классическими для общеевропейской культуры того времени.
Конец XIV—XV в. – кульминационный период средневековой польской культуры. Обширная религиозная литература, а в ее рамках жанры поэтические (песни, гимны, колядки и др.) и близкие беллетристические прозаические (жития, апокрифы и т. п.), «История Польши» Яна Длугоша как венец историографии этой эпохи, куртуазная поэзия и связанное с нею творение Слоты (Злоты) «О поведении за столом», шляхетское течение, представленное «Сатирой на ленивых холопов» и «Песнью об убиении Енджея Тенчиньского», внушительная научная и общественно-политическая литература, – все это свидетельство расцвета искусства слова и национальной словесности в целом, непосредственно предшествующего эпохе Возрождения.
Литература на польском языке развивалась в русле тех же эстетических тенденций, что и литература латинская в рассматриваемый период, значительно уступая ей как в художественном, так и количественном отношении. Опираясь, очевидно, на почти неизвестную ныне устную традицию в отношении языка и некоторых особенностей версификации, она как бы восполняла ее, не будучи в то же время в состоянии ни отразить масштабы культурного уровня польского общества, ни соответствовать широте его запросов, ни в полной мере удовлетворять его духовные потребности. Эту роль исполняла оригинальная польская литература на латинском языке, литература же на национальном языке – в основном переводная – пока лишь ее восполняла, играла вспомогательную роль, будучи предназначенной для менее образованной среды, не знавшей латыни. Так первоначальный разрыв латинской культуры с польской традицией теперь, по мере общекультурной эволюции, связанной с развитием национальной государственности и самосознания, появлением национальной высокообразованной среды и распространением грамотности, трансформируется в синтез, осуществляемый на основе общего мировосприятия и эстетики. Именно это способствовало расцвету польской средневековой письменности в ее латинском и национальном языковых вариантах. Это же привело и к возрождению собственно национальной традиции уже на новом, западноевропейском уровне развития польской культуры. Постепенное назревание этого процесса в течение XV в. ведет к зарождению ренессансных тенденций, расцветающих в следующем столетии.
РАЗДЕЛ VIII.
-=ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО НАЧАЛА XIVВЕКА.(Робинсон А.Н.)=-
ВВЕДЕНИЕ
Киевская Русь в конце X в. стала крупнейшим государством средневековой Европы. Греческим и арабским писателям эта страна в IX—X вв. представлялась отдаленной окраиной средиземноморского культурного мира, населенной отважными варварами-язычниками. Но уже в XI в. западноевропейские писатели восхищались Русью как развитой христианской державой. Если к концу X в. можно говорить о появлении русской письменности и, видимо, о зарождении русской литературы, то в середине XI – начале XII в. эта литература уже поражает своей зрелостью.
Формирование феодализма в Киевской Руси протекало интенсивно благодаря преобладанию у восточнославянских племен древнего общинного земледельческого хозяйства, отсутствию у них рабовладельческого строя и достигнутому ценой долгой борьбы государственному единству. Обилие природных богатств, срединное географическое положение Руси между Западом и Востоком, проходящие через ее территорию торговые пути, развитие разнообразных международных контактов, упрочение государственности и создание письменности – все это в целом создавало благоприятные предпосылки для развития русской раннефеодальной культуры, устной поэзии и литературы.
Скандинавы (варяги) не случайно прозвали Русь страной городов – Гардарики. Помимо древнейших Киева и Новгорода на Руси разрастались такие богатые города, как Чернигов, Полоцк, Галич, а затем Смоленск, Ростов, Суздаль, Владимир и др. Однако, в отличие от городов западноевропейских, в древнерусских городах преобладала власть феодалов светских и церковных и не сложилось еще бюргерского сословия, а вместе с этим – культуры и литературы бюргерского типа.
Ко времени великого князя киевского Ярослава Владимировича, прозванного впоследствии «Мудрым» (1019—1054), Киев приобрел международное политическое и культурное значение. По образцу Царьграда (Константинополя) Ярослав воздвиг в Киеве храм св. Софии, заложил новый кремль, возвел Золотые ворота. Немецкий хронист Адам Бременский (XI в.) считал Киев соперником Константинополя, а несколько ранее него хронист Титмар, епископ Мерзебургский, сообщал, что в этой почти легендарной для западного мира восточной столице к началу XI в, будто бы было четыреста церквей и восемь рынков.
Отношения киевских князей с иностранными державами, то военные, то мирные, постоянно скреплялись брачными династическими союзами.
Среди жен самого Владимира (до его крещения) была норвежка Адлага, гречанка, болгарка (мать Бориса и Глеба), чешка. Одним из условий принятия христианства Владимир поставил свою женитьбу на греческой принцессе Анне, сестре византийского императора Василия II. Сын Владимира – князь Ярослав, женатый на шведской принцессе Ингигерд, был связан родственными отношениями с царствующими домами Англии, Франции, Германии, Польши, Скандинавии, Венгрии и Византии; его дочь Анна после смерти своего супруга – французского короля Генриха I – была королевой-регентшей Франции.
Могучим покровительством Ярослава нередко пользовались западноевропейские короли и принцы. Из Киева и в Киев постоянно отправлялись дипломатические посольства, торжественно двигались процессии княжон и принцесс в сопровождении вельмож и рыцарей, священников и придворных певцов. Во дворце Ярослава звучали разноплеменная речь и песни. Харальд Суровый, будущий норвежский конунг-скальд, воспевал в звучных скандинавских стихах свою невесту Елизавету Ярославну. Всеволод Ярославич (отец Владимира Мономаха), женатый на греческой царевне, «дома сидя», говорил на пяти языках.
Международное значение Киевской Руси и ее широкие европейские связи возвышали патриотическое самосознание русских и способствовали раннему возникновению в идеологии русского феодального общества глубокого понимания своих государственных интересов. Поэтому торжественные слова митрополита Илариона о славе Русской земли, сказанные им, когда он произносил проповедь «Слово о законе и благодати», возможно, перед Ярославом и его придворными в храме Софии, должны были восприниматься современниками не как литературная риторика, а как действительность. Прославляя деяния прежних князей, в особенности «кагана» Владимира, Иларион подчеркивал, что они «не в худе бо и не в неведоме земли владычьствовавша, но в Руськой, яже ведома и слышима есть вьсеми коньцы земля». Эта тема всемирной славы Руси проходит через основные литературные памятники древнего периода.
В своеобразных условиях формирующегося раннефеодального общества устная эпическая песня, летописание и церковная проповедь в известной мере сближались друг с другом в своем стремлении осознать и в каждом случае по-своему отразить важнейшие идеологические проблемы эпохи.
РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО УСТНОГО ЭПОСА
Задолго до появления древнерусской литературы у восточнославянских племен, как и у других бесписьменных народов, бытовал фольклор, произведения которого известны нам только в поздней устно-поэтической традиции по записям XVII—XX вв. Элементы фольклора достаточно ясно проявляются в ранних памятниках письменности Киевской Руси.
Можно предполагать, что устная поэзия восточных славян первоначально имела в социальном отношении слабо дифференцированный характер. Историческая Русь унаследовала различные жанры племенного фольклора. В их числе, вероятно, были древнейшие трудовые песни, несомненно – заговоры или заклинания, календарные обрядовые песни, связанные с земледельческим культом. На Руси были распространены в течение длительного времени обрядовые праздники встречи и проводов зимы (коляда и масленица), весны (радуница и семик), лета (русалии и купала) и осени. Обрядовый фольклор включал в себя свадебные песни, похоронные причитания, песни на пирах и тризнах. В домашнем обиходе всех слоев общества высоко ценились волшебные и бытовые сказки, а также «бывальщины», рассказывавшие о леших, домовых и других персонажах языческой мифологии.
Как в самой Византии, так и в Киевской Руси православная церковь активно боролась с фольклором, связанным с языческим иноверием. Особенно сурово преследовались народные «игрища» и все виды обрядовой поэзии. Эти многовековые гонения ограничили распространенность фольклора в феодальной среде, его влияние на феодальную культуру и литературу, но не смогли искоренить его в народе, главным образом крестьянстве. В условиях христианско-языческого двоеверия церковь вынуждена была пойти во многом на постепенное сближение христианской и языческой обрядово-бытовой символики, как это было отчасти в Скандинавии, Ирландии и т. д.
В Киевской Руси воздействие устного словесного творчества, как и языческой мифологии вообще, на письменность и художественную литературу не было столь значительным, как у западноевропейских средневековых народов (например, у скандинавов, германцев, провансальцев). Тем не менее некоторые пословицы, поговорки, загадки фиксировались в древнерусских летописях и других памятниках письменности. Большое значение для летописания имели древние исторические (и псевдоисторические) легенды и предания, произведения дружинного эпоса.
Есть основания считать, что в ранний период русской истории (IX—XI вв.) наибольшее значение в устном словесном творчестве приобрел героический эпос, посвященный военной тематике. Своей общей государственно-патриотической целенаправленностью и, в отличие от ряда других фольклорных жанров, своей способностью возвыситься до понимания социально-христианских идеалов устное эпическое творчество отвечало ведущим тенденциям развития ранней русской литературы, иногда соприкасалось с ней в отношениях идейном и поэтическом. По своему стадиально-типологическому значению устный эпос был художественным явлением, приближавшимся к промежуточному положению между традиционным фольклором и возникающей литературой.
Процессы объединения восточнославянских племен под военной властью киевских князей, христианизации языческого народа, организации обороны против внешних врагов вызвали значительные изменения в старой традиции устного племенного эпоса. Эпическая проблематика и сюжетосложение начали развиваться под влиянием новых требований раннефеодального общества и государства. По-видимому, в этот период эпос пережил более существенные видоизменения, чем во всей последующей своей истории. Основные признаки этих идейно-творческих видоизменений в развитии устного эпоса могут быть обнаружены в русских былинах («старинах») киевского цикла, записанных в Новое время, но во многом весьма архаичных.

Лист «Остромирова Евангелия»
Ленинград, ГПБ
Древнейшая былина о Волхе в течение веков сохраняла пережитки тотемистической идеологии общинно-родового строя и вместе с ними – отчетливые следы раннефеодальной дружинной идеологии, которые затем наблюдаются и в других былинах, а также в литературе (особенно в «Слове о полку Игореве»). Герой былины был оборотнем, превращался для охоты в хищного зверя, птицу, рыбу, охотой кормил дружину. Отправившись в Индийское царство, он с дружиной (в виде муравьев) проник за крепостную стену, овладел городом, женился на царице и стал царем. Так на пороге образования древнерусской государственности, в эпоху дальних завоевательных походов князей и их дружин восточнославянский сюжет о князе-оборотне соединился с распространенными на Востоке и Западе легендами об Индийском царстве, которые связывались с фантастическими описаниями походов Александра Македонского. Рождение Волха сопровождалось, подобно рождению Александра (по «Александрии»), небесными знамениями (гремел гром, колебалась «сыра земля»). Эпический герой родился от княгини и Змея, как впоследствии родились и сербские герои – «змеевичи» (Змей Огненный Вук, Крылатый Реля).
В былине обозначилась попытка ввести старый фантастический сюжет в атмосферу новых государственных интересов. Местом рождения Волха оказался Киев, а его поход на Индийское царство стал мотивироваться внешней угрозой отечеству: индийский царь будто бы собирался «Киев-град за щитом весь взять».
В эту переходную эпоху в эпосе происходила та же перемена воззрений на деятельность князей, какая отразилась в рассказе «Повести временных лет» о походе князя Владимира с воеводой Добрыней (985) на волжских болгар. Идеи завоевательных походов первых князей постепенно начали уступать место необходимости политического и экономического объединения разросшейся империи. В летописи и в фольклоре эти процессы понимались как обложение данью восточнославянских и соседних с ними неславянских племен.
Поэтому, в отличие от Волха – покорителя далекого царства, его былинный преемник Вольга (былина «Вольга и Микула») направляет свои стремления на покорение внутренних областей страны. На этом пути его ждет встреча с новой социальной и эпической фигурой – свободным крестьянином Микулой Селяниновичем. Символическое имя (Волх – Волхв) заменяется обычным княжеским – Вольга (Олег, от скандинавского Хёльги) Святославич. Если ранее воину-оборотню доспехи были бы не нужны, то феодальный герой требует их с младенчества: «Пеленай меня, матушка, // В крепки латы булатные, //А на буйну голову клади злат шелом», – что напоминает рассказ в «Слове о полку Игореве» о воспитании дружинников: «...под шеломы взлелеяни».








