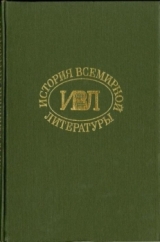
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 88 страниц)
Древнейший сказочно-мифологический пласт сохранился в карело-финском эпосе достаточно отчетливо, хотя и был переработан в различных направлениях. Ряд сказаний о «культурных» деяниях Вяйнямейнена остался в пределах заговорных рун (добывание огня из чрева рыбы) либо служит только вводным мотивом к другим сюжетам (изготовление лодки и кантеле), а порой и совсем вытесняется (вместо изготовления лодки появляется мотив челнока, тоскующего по военным походам).
Изготовление кантеле становится прелюдией к описанию чарующего пения Вяйнямейнена. Вяйнямейнен в этой руне рисуется певцом-поэтом, подобно греческому Орфею, осетинскому Ацамазу, огузско-тюркскому Деде-Коркуту. Впрочем, в других рунах пение Вяйнямейнена еще тождественно колдовскому или шаманскому заклинанию. Пение оказывается действенным средством его космогонической деятельности; так, оно помогает даже при изготовлении лодки. Пением Вяйнямейнен погружает в болото строптивого самонадеянного юношу Ёукахайнена, который не хочет уступить дорогу старому мудрецу. В этой руне, напоминающей песни и сказки о соревновании шаманов и мудрецов (таких очень много у народов Северной Сибири; ср. также «Речи Вафтруднира» в скандинавской «Эдде»), главный смысл, однако, заключается в патриархальной идеализации мудрого старца, противостоящего неопытному юнцу. Отметим, что эта тема в чисто героическом, воинском оформлении разрабатывается в знаменитой древненемецкой песне о встрече и бое Хильдебранда с Хадубрандом.
В рунах о посещении царства мертвых (Туонела) или могилы древнего мудреца Випунена (чтобы получить недостающий для постройки лодки инструмент или необходимую магическую формулу) добывание благ культуры у их хранителей превратилось в героику загробного странствования, окрашенного представлениями развивающейся шаманской мифологии. Сюжет пробуждения спящего мертвым сном мудреца или родича встречается в ряде архаических эпосов (в «Гильгамеше», нартских сказаниях и в особенности в «Эдде»).
Героическим эпосом в узком смысле слова является в пределах карело-финских рун цикл песен о борьбе с хозяйкой Похьёлы за Сампо. Похищение Сампо Вяйнямейненом у хозяйки Севера и изготовление Сампо кузнецом Ильмариненом – два мифологических мотива разной степени древности. Различие между Вяйнямейненом и Ильмариненом аналогично различию между Прометеем и Гефестом в античной мофологии. Один – «творец» в широком смысле слова, демиург, предок, учитель людей и т. п., другой – мастер-ремесленник. В эпических рунах оба эти мотива, первоначально дублировавшие друг друга, удерживаются и объединяются. Такое объединение разностадиальных мотивов-дублеров – один из древнейших способов сюжетосложения: Сампо, изготовленное Ильмариненом в качестве выкупа за невесту, затем похищается Вяйнямейненом у Лоухи – «хозяйки» Похьёлы. В одной версии именно Вяйнямейнен, попавший в руки Лоухи, подбивает Ильмаринена изготовить Сампо, так как с этим условием «хозяйка» Похьёлы отпустила Вяйнямейнена домой.
В силу того, что север, низ, устье реки, царство мертвых в мифологии северных народов отождествлялись между собой, руны о путешествии Вяйнямейнена в Туонелу и в Похьёлу имеют много точек соприкосновения. Однако в последних развитие фабулы шло совершенно иным путем – в сторону не шаманской фантастики, а исторической конкретизации. Страна Севера в значительной мере утеряла здесь свой сказочно-мифологический характер и была переосмыслена как страна саамов (лопарей), с которыми прибалтийско-финским племенам приходилось сталкиваться в процессе колонизации Севера. Исторический фон отразился во вводном мотиве: саамский стрелок ранит Вяйнямейнена и волны приносят его в Похьёлу, где он попадает во власть Лоухи. В образе Лоухи слабо дифференцированы представления о мифической «хозяйке», сказочной ведьме и матриархальной правительнице земли саамов.
За Сампо борется не один Вяйнямейнен, а группа героев (Ильмаринен, Ёукахайнен и др.), воплощающих некий родо-племенной коллектив, с которым связывают себя певцы рун.
Сказочно-мифологические черты в фантастическом, многозначном и многослойном образе Сампо еще откровеннее, чем в священном быке из Куальнге, из-за которого в ирландском эпосе воюют уклады и коннахты. Так как Сампо – символ плодородия и изобилия, то и борьба за его обладание сохраняет свойственный карело-финскому эпосу в целом пафос борьбы с силами природы за благоденствие людей. Своеобразие карело-финского эпоса, между прочим, проявляется и в том, что главным героем в эпической борьбе является старик Вяйнямейнен. Он же не только герой, но и колдун: он погружает в магический сон жителей Похьёлы, чтобы увезти драгоценное Сампо, которое было спрятано «хозяйкой» в скалу.
Противостоящий мудрому Вяйнямейнену юный дерзкий воин Ёукахайнен, облик которого гораздо ближе к общепринятому представлению о богатыре, является в сущности только помехой в походе за Сампо. Он понуждает Вяйнямейнена поскорей запеть победную песнь, которая будит врагов. После преследования Лоухи (иногда принимающей вид орла) и сражения с людьми Севера Сампо падает из лодки и разбивается.
Антитезу мудрости и удальства можно встретить и в других эпосах (классический пример – Оливье и Роланд в эпосе французском), но там безрассудно смелый витязь при всем своем «неразумении» все же является главным героем и высшим образцом богатыря, а старый мудрый патриарх (например, Карл Великий во французском эпосе, Деде Коркут у тюрков-огузов, Нестор в «Илиаде») – более пассивной фигурой фона.
В цикл Сампо включаются и песни о сватовстве к дочерям «хозяйки» Похьёлы (необходимость поисков невест во враждебной стране – результат экзогамии – запрета жениться в своем же роде). Эти песни по сюжетам и образам напоминают многочисленные богатырские сказки-песни у финно-угорских и самодийских малых народов Севера. По-видимому, карело-финские руны о сватовстве прикрепились к сказаниям о Вяйнямейнене и Ильмаринене и к циклу Сампо относительно поздно.
Если в борьбе за Сампо главная роль безусловно принадлежит Вяйнямейнену, то в песнях о сватовстве к девушкам из Похьёлы (или Хийтолы – «чертовой страны») на первое место выдвинут Ильмаринен. Он выполняет и другие трудные брачные задачи: вспахивает змеиное поле, укрощает дикого коня или медведя, ловит большую щуку из реки мертвых (Туони); в некоторых вариантах он проглочен щукой и спасается из ее брюха так же, как Вяйнямейнен – из чрева великана Випунена. Высватанная невеста большей частью пытается убежать от Ильмаринена, и тот превращает ее в чайку. В севернокарельских вариантах Ильмаринен часто выступает соперником Вяйнямейнена в сватовстве, и если невеста достается Вяйнямейнену, то Ильмаринен с горя кует себе невесту из золота. Старого Вяйнямейнена, впрочем, невесты также часто отвергают. Эти неудачи в сватовстве главных героев карело-финского эпоса – моменты иронии, которая свойственна многим эпическим рунам. Ирония, в частности, распространяется на ряд мотивов, первоначальный смысл которых постепенно стал непонятен. Вяйнямейнен не может поймать чудесную рыбу, в которой не распознал невесту-русалку; русалка смеется над его неудачей так же, как лось Хийси над своими преследователями.
Ильмаринен выковал из золота небесные светила и красивую девушку (оригинальная параллель к Пандоре, выкованной Гефестом в греческом мифе), но светила не светят и не греют, холодной, как лед, остается и золотая невеста.
За пределами основных процессов циклизации (вокруг эпической темы Сампо и архаических богатырей – Вяйнямейнена и Ильмаринена) остаются восходящие к богатырским сказкам-песням руны о Кауко (Каукомиели), Ахти, Лемминкяйнене, Куллерво и др.
Песни о Каукомиели, Ахти и Лемминкяйнене Э. Лёнрот объединил, прикрепив их к Лемминкяйнену и связав с циклом Сампо. Однако в народных вариантах цель героических поездок этих персонажей не Похьёла, а Пяйвела (Солнечная страна), Хийтола, Вяйнела, Луотола и др. Поездка совершается или с целью сватовства, или просто на пир в чужой род, в чужую страну, куда герой является незванным. На пиру, как правило, возникает ссора, а за ней и бой. Каукомиели после драки на пиру спасается от мести на «острове женщин» – образ, родственный ирландским сагам, а также античным легендам об амазонках. Душу убитого в Пяйвеле Лемминкяйнена мать вылавливает граблями в реке мертвецов.
Образы героев этих рун во многом противоположны Вяйнямейнену и Ильмаринену. Это отчаянные вояки, щеголяющие порой неразумной смелостью. Они прибегают и к магическим средствам (превращение в животных, заговоры), но большей частью действуют мечом.
Героическое удальство Леммиикяйнена не выходит за рамки богатырской сказки, он не становится борцом за общенародные интересы, как Вяйнямейнен и Ильмаринен. Этот своеобразный парадокс – архаические мифологические (по своим корням) герои стали носителями большого эпического действия, а настоящий богатырь-воин не вышел за рамки сказочной эстетики приключений и личной удали (включенный в повествование о борьбе за Сампо аналогичный герой Ёукахайнен обрисован чисто отрицательно) – объясняется историческими причинами, а именно догосударственным характером карело-финского эпоса.
С богатырской сказкой отчасти связаны и сказания о Куллерво, руны о котором сохранились главным образом в ижорской среде. Совершенно беспочвенными являются попытки видеть в этих сказаниях отголосок германского эпоса об Эрманарихе или датской саги о Гамлете, использованной Саксоном Грамматиком и затем Шекспиром. Тема родовой мести, в частности мести мальчика-сироты за своего отца, чрезвычайно характерна для ранних форм эпики, широко представлена и в скандинавских сагах и сказках и в фольклоре северных (угро-самодийских) народов.
Унтамо уничтожил весь род Каллерво, оставив только новорожденного Куллерво. Спохватившись впоследствии, он пытается извести его, но ребенок-богатырь (не горит, не тонет и т. п.) становится мстителем за свой род.
Песни о Куллерво интересны социальными мотивами, отражающими распад родового строя. Куллерво – одновременно сказочный богатырь (некоторые мотивы сказаний о нем очень близки известной европейской сказке о юноше-силаче) и бедный обездоленный сирота, работающий батраком у злой хозяйки, запекающей ему камни в хлеб. Сирота мстит хозяйке, убивая ее ребенка, разрывая сети, пригоняя из леса медведей вместо коз и т. п.
В большинстве народных вариантов Куллерво называется просто Калеванпойка, «парень, сын Калевы» (ср. эстонский Калеви поэг). Разнообразные упоминания Калева и Калеванпойки в эпосе (ср. руны об изготовлении пива, об инцесте брата и сестры, сборы на войну, о ребенке, которого пытается осудить на смерть Вяйнямейнен, и др.) плохо укладываются в рамки единого образа. Возникает предположение, что Калеванпойка имел первоначально собирательное значение. В различных сочинениях и словарях XVI—XVIII вв., а также в местных преданиях упоминаются «Калеванпойат», как великаны, силачи-пахари и свершители богатырских дел (ср. «Колывановичи» в русских былинах, представление об «асилках» в белорусском фольклоре, о «нартах» на Кавказе и т. п.). Индивидуализация «сынов Калевы» в образе Куллерво завершилась только в «Калевале» Э. Лёнрота. Воспользовавшись тем, что в некоторых (поздних) источниках в числе «сынов Калевы» упоминаются Вяйнямейнен и Ильмаринен, Лёнрот одновременно объединил всех эпических героев как сынов Калевы, жителей страны Калевала, враждующей с Похьёла.
Карело-финский эпос обнаруживает типологическую близость как к архаическим формам эпоса, сложившимся у ряда племен и народностей Западной Европы, так и к восточнославянским эпическим памятникам. Творческая история «Калевалы» Лёнрота проливает свет и на закономерности формирования книжных эпопей в западноевропейской литературе Средневековья, складывающихся в XI, XII и XIII вв.
*ГЛАВА 3.*
ПОЭЗИЯ СКАЛЬДОВ(Самарин Р.М.)
В романских странах и у континентальных германцев превращение народной лирики в книжную поэзию совершилось в основном уже в рамках рыцарской культуры XI—XIII вв. Даже обрядовый фольклор (ритуальные загадки, заклинания, молитвы) сохранились в виде единичных фрагментов. Развитая и чрезвычайно оригинальная, генетически дохристианская, лирическая (точнее – лиро-эпическая) поэзия Раннего Средневековья известна нам только в кельтской Британии (сохранившаяся лишь в отрывочных фрагментах поздних записей) и в особенности в Скандинавии.
Здесь, а точнее в Норвегии и Исландии, возникла и развилась в IX—XIII вв. своеобразная поэзия скальдов, не имеющая параллелей в мировой литературе.
Скальд (этимология слова до сих пор не выяснена окончательно) – это поэт и исполнитель произведений, которые он сам создавал или запоминал от других. Исполнение, видимо, могло сопровождаться аккомпанементом, было распевным, но и речитативным. Скальд – человек, тесно связанный с жизнью скандинавской общины. Он нередко – богатый землевладелец, викинг, странник, служилый человек в дружине знатного скандинава. Скальд, кроме всего прочего, умудрен знанием рун: в пору расцвета поэзии скальдов в странах Скандинавии другое письмо было либо неизвестно, либо известно лишь немногим. Скальд владеет тайной силой слова, он может творить волшбу или снимать вражьи чары.
Скальд близок к другим типам древнегерманских певцов-поэтов – к готским и лангобардским певцам, о которых так часто упоминают латинские авторы. Но в поэзии скальдов, да и в самом их общественном положении отражается динамика развития средневекового общества на путях от ранней его поры к эпохе установления и укрепления феодальных отношений.
Уходя своими корнями в глубокую древность, поэзия скальдов обособляется от других видов устного поэтического творчества, очевидно, на рубеже VIII—IX вв. Бурное развитие и расцвет поэзии скальдов приходится на IX—X вв. В исландских сагах XII—XIII вв. воссозданы с наибольшей полнотой биографии скальдов (особенно в «Саге об Эгиле» и в «Саге о Гуннлауге Змеином Языке») и воспроизведены образцы их творчества. В «Саге об Эгиле», например, приведено много стихотворений и песен этого скальда, что свидетельствует о широком и длительном бытовании поэзии скальдов в народе. Поэтика скальдов и важнейшие сведения о них были изложены в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона (XIII в.).
Таким образом, образцы поэзии скальдов и данные об их жизни и искусстве дошли до нас в сравнительно поздних памятниках, нередко отделенных от поры деятельности скальда несколькими столетиями и опиравшихся на предания о скальдах, жившие в народе. Конечно, это обстоятельство не могло не отразиться в той или иной мере на точности передачи произведений скальдов, на достоверности биографических данных. И все же нельзя не увидеть в творчестве скальдов первого большого лирического направления в европейской поэзии, развивающегося на живых языках Северной Европы. Оно было свободно от воздействия античной поэтической традиции и выражало с большой силой новые черты мировоззрения, новые эстетические нормы, которые складывались в пору возникновения и развития феодальных отношений на европейском Севере.
В отличие от исполнителей эпических песен скальды – лирические поэты, непосредственно отзывающиеся на события, свидетелями которых они были. Уже древнейший полулегендарный скальд Браги Боддасон упоминается неизменно как поэт, прославивший столь же полулегендарного вождя датских викингов Рагнара Кожаные Штаны. Отрывки из песни о Рагнаре, приписываемые Браги, резко отличаются по своей стихотворной системе и по композиции от образцов древнегерманского героического эпоса, хотя во многом «Песнь о Рагнаре» и связана с ним. О скальде Браги и некоторых других скальдах предание говорит как о людях, вышедших из крестьянского рода, хотя и взысканных королевской милостью. Но все чаще в IX и X вв. скальд, из какого бы рода он ни вышел, прежде всего – лицо, близкое к ярлу или конунгу, которому он служит не только своей песней, но и мечом и жизненным опытом. В честь своего покровителя он слагает хвалебные песни (так называемые драпы) – важнейший и характернейший жанр поэзии скальдов, иногда сопоставляемый по своему значению с древнегреческой одой. По поводу гибели своего владыки скальд поет похоронную песнь – и это другой характерный жанр лирики скальдов. Издеваясь над врагами своего конунга, скальд сочиняет задорную и хулительную песню (так называемый нид), полную злободневных политических намеков, беспощадную и искрящуюся грубым остроумием. Так в поэзию скальдов входит и очень важный элемент сатиры.
Скальд складывает и песню в честь свадьбы своего господина и песню о его любимой. Скальд сопровождает жизнь дружины и двора, при котором он состоит, своими поэтическими комментариями, сохранившими до наших дней аромат суровой и полной опасностей эпохи, воспитавшей и вдохновившей скальда.
Позднее все эти стихи «на случай» стали историей. Уже ближайшие потомки воспринимали рассказы скальдов как достоверные свидетельства. Характерно, что именно IX и X вв. – «эпоха викингов», эпоха напряженной борьбы между централизующими феодальными силами и их противниками – особенно богата творчеством скальдов; последние подвизались и при дворах первых норвежских королей и в замках их врагов – вождей феодальной вольницы. Предание сохранило много имен скальдов, воспевших деятельность конунга Харальда Прекрасноволосого (IX в.), упорного и жестокого создателя первого норвежского королевства. Скальд Тьодольв из Хвинира составил для родственника Харальда песню, в которой излагалась генеалогия скандинавских героев и конунгов, обосновывавшая права Харальдова рода на власть над Норвегией. В кругу придворных скальдов Харальда особенно существенна была роль Торбьёрна Хорнклови; он воспевал в большом, великолепно построенном стихотворении «Речи Ворона» победу Харальда при Хафрсфвьорде. Характерно, что Харальд в этом стихотворении выступает уже со всеми атрибутами эпического героя: они напоминают о художественных средствах, какими изображаются герои и боги в песнях «Эдды». Канонизация конунга как героя, равного великим образам древнего эпоса, уже произошла.
Деятельность скальдов продолжалась и при ближайших наследниках Харальда в X в. Сохранилась – без имени автора – надгробная песня, в которой оплакивается гибель конунга Эйрика Кровавая Секира. Известен ряд произведений скальда Эйвинда Финнссона, воспевшего подвиги и смерть конунга Хакона Доброго. Однако в творчестве норвежских скальдов все определеннее вырабатывались песенные шаблоны, окаменевали канонизированные поэтические формы. Уже к началу X в. определяется особая, ведущая роль исландских скальдов.
Особенности жизни в Исландии с ее тингом, собранием вольных землепашцев, с ее относительно долго сохранявшимися патриархальными традициями, которые в Норвегии разрушались под натиском централизующей феодальной власти, способствовали тому, что на этом острове, окруженном бурными просторами Северной Атлантики, шла вместе с тем интенсивная культурная жизнь. Здесь не только сохранились и развивались традиции старой норвежской словесности, но и рождалась поэзия новая, выражавшая и отражавшая своеобразие исландской жизни. Исландский скальд был представителем сравнительно свободной страны, деятельной, яркой личностью с ясно выраженной индивидуальностью, которая выявлялась в его лирике. Индивидуальное поэтическое творчество было, по-видимому, связано в Исландии с творчеством народным. Пословица, поговорка, загадка, насмешка, поэтические слова любви и вражды еще жили слитно с обыденной речью, питали собою творчество народа и отдельных, наиболее талантливых его представителей.
Сын землепашца и скотовода, нередко богатый наследник у себя дома, исландский скальд становился часто товарищем норманских мореплавателей и пиратов IX—X вв. Скальда Эгиля Скаллагримссона мы, например, встречаем то на палубе корабля викингов, то среди наемников английского короля, то на заседании тинга, то в далеких горах Северной Норвегии, где он собирает дань. Но всюду Эгиль остается собой – вспыльчивым, скорым на руку, хитрым, находчивым и прежде всего талантливым поэтом, находящим в любой жизненной ситуации материал для поэтического осмысления. Из-за своих песен он наживает себе смертельных врагов, но песни же и спасают ему жизнь. Через всю жизнь Эгиля проходит и его ярко выраженное свободолюбие, его нежелание превращаться просто в придворного певца, его потомственная ненависть к норвежскому королевскому дому, от преследований которого ушел в Исландию еще отец Эгиля, заповедавший своему сыну недоверие и вражду к королевской власти. Естественно, что даже в тех случаях, когда Эгиль слагает песню в честь того или иного из своих коронованных покровителей, он славит в ней не просто побеждающую королевскую власть, как это было в «Речах Ворона» Торбьёрна, а импонирующую ему личность мудрого и щедрого воина-венценосца.
Одной из разновидностей хвалебных песен Эгиля (как и многих других скальдов, например Браги Боддасона) были стихотворения, являвшиеся своеобразным «выкупом за голову». Чтобы избежать суровой кары за какой-либо проступок или попросту умилостивить кровожадного предводителя воинской дружины – конунга или ярла – скальд слагал стихотворение и тем обретал свободу и часто сохранял себе жизнь. Так, рассказывает предание, Эгиль попал в руки своего заклятого врага конунга Эйрика Кровавая Секира, правившего в Нортумбрии. В ночь перед казнью поэт сочиняет хвалебную песнь в честь Эйрика, которая носит теперь красноречивое название «Выкуп за голову». Несмотря на остроту ситуации, Эгиль выдерживает ее в обычном приподнятом, метафоричном стиле:
Серп в жатве сеч —
Сек жадно меч,
Был ран резец
Клинка конец.
И стали рдяны
От стали льдяной
Доспехи в рьяной
Потехе бранной.
(Перевод С. Петрова)
Здесь Эгиль употребляет типичный для скальдической поэзии прием – кеннинг. Его можно определить как перифраза, построенная по определенным правилам. Одно существительное заменяется двумя новыми, причем одно из них служит определением другого. В нашем примере прием обнажен: рядом стоят перефразируемое слово и сама перифраза («серп в жатве сеч» = «меч», и т. д.). Вообще же такого соседства скальды избегали. Прием кеннинга был необычайно продуктивен, так как позволял строить сложные кеннинги, т. е. кеннинг кеннинга, – путем перифрастического развертывания одного из входящих в кеннинг существительных – и так до бесконечности.
Кеннинги и другие сложные приемы поэтической техники, типичные для лирики скальдов, казалось бы, должны говорить об обостренном чувстве индивидуального стиля, о вызревании понятия авторства. Однако этого не произошло. Мы знаем добрую сотню имен скальдов и привязанные к этим именам стихи, но все эти драпы, ниды и т. п. не несут на себе печати авторской оригинальности. Выработанные скальдами многочисленные законы сложения стихов давали широчайший простор лирическому разнообразию, но клали предел творческой фантазии. В данном случае грамматика, синтаксис, приемы построения тропов являлись как бы аналогом «формульного стиля», типичного для народно-героического эпоса Средневековья. Вот почему рассказы скальдов и о скальдах мы находим в песнях «Эдды».
Наряду с песнями и стихотворениями, рожденными бурной жизнью викинга, Эгиль создавал произведения самого различного содержания. Знакомясь с ними, входишь в сложный мир исландца эпохи викингов, человека большой души и могучих страстей. Эгиль – сын старого норвежского рода, поселившегося среди валунов и мхов Исландии и там, на свободной земле, пустившего новые корни; но верный роду, Эгиль живет не только его жизнью. Его кругозор не замкнут в суровых, величественных, но однообразных пределах родины. Он бывал и в усадьбах Скандинавии, и в замках англосаксов, и в деревнях куров, и в горных поселках лапландцев, и на затерянных в ревущем океане Фарерах. Духом этих просторов, полных опасностей и приключений, проникнуты его стихи. И каждый раз, вновь возвращаясь на свой остров, Эгиль как бы набирается новых сил от соприкосновения с родной почвой, от участия в той деятельной общественной и семейной жизни, в которую он бывает вовлечен, оказавшись вновь среди своих мыз, пастбищ и соседей.
История гениального скальда, изложенная в саге об Эгиле, конечно, повествует о поэте, стоящем высоко над общим уровнем исландской поэзии IX—X вв. Но кровная связь Эгиля с народом объясняет многое в длительном расцвете поэзии исландских скальдов и в их популярности в пределах тогдашнего северного мира. Исландские скальды были известны во всех пределах, которых достигали скандинавы, – от дворов норманских государей, разбросанных по всему побережью Северной Европы, до Испании, Сицилии, Византии и Киева. К дочери киевского князя Ярослава сватался один из поздних норвежских скальдов, выучившийся у своих исландских родичей поэтическому искусству, Харальд Жестокий, проживший жизнь не менее яркую, чем Эгиль. Песня Харальда о Ярославне – характерный пример любовной лирики скальдов.
Порожденная бурной переходной эпохой, которая была отмечена распадом старых дофеодальных связей и постепенным формированием новых отношений, поэзия скальдов угасала вместе с этой героической и тревожной порой. Тесно связанная с древнескандинавской мифологией, с мировоззрением дохристианской Скандинавии, поэзия скальдов была отражением древнего мифологического мировосприятия. Мифология для нее, как и для поэзии античного мира, служила и почвой и арсеналом художественных средств. Свободная от воздействия христианской этики и эстетики, поэзия скальдов и в древнескандинавской религии нашла прежде всего неисчерпаемый клад образов и художественных обобщений, которыми она пользовалась как материалом особого поэтического языка. Его основой был вышеупомянутый кеннинг – сложная метафора, построенная нередко из образов того или иного памятника более древней поэзии или намеков на него. Среди этих памятников особое значение имели, очевидно, некоторые песни, составившие впоследствии сборник «Старшей Эдды», которые в том их виде, какой они имели в IX—X вв., давали огромный поэтический материал для поэзии скальдов.
В Исландии еще в течение долгого времени сохранялась и общественная и эстетическая почва для продолжения и поддержания традиции скальдов. В других странах Скандинавии поэзия скальдов, не имевшая своей почвы в народе, становилась все более формалистической. Скальды еще играли большую роль при войске короля-христианина Олафа Трюггвасона (XI в.) Но в саге о нем скальды упоминаются только как люди из дружины конунга; они не играют той яркой и самостоятельной роли, которая выпала на долю Эгиля Скаллагримссона или Гуннлауга Змеиный Язык во времена более ранние. В XI—XII вв. скальдов при дворе скандинавских государей сменили ученые хронисты вроде Саксона Грамматика; они превосходно знали скандинавскую древность и постоянно к ней обращались, как к источнику исторических сведений о своих народах.
Как явление, изживавшее себя и потерявшее свою поэтическую прелесть, поэзия скальдов сохранилась при дворах скандинавских государей до XIV в. Общехристианские идеи, сюжеты, восходящие к христианским преданиям, потерявшие свежесть вычурные метафоры, – таковы теперь черты этой поэзии.
В начале XIII столетия Снорри Стурлусон (1179—1241) – ученый исландец, который по своей полной приключений жизни и по таланту был сродни великим скальдам своего острова, посвятил поэзии скальдов трактат «Перечень стихотворных размеров», известный как четвертая часть так называемой «Младшей Эдды». Трактат Снорри излагает учение о древнескандинавской метрике и дает представление о ее богатстве и оригинальности. И этот трактат, и предшествующая ему третья часть «Младшей Эдды» – «Язык поэзии» – были для того времени обобщенным изложением опыта, завоеванного скандинавской и прежде всего исландской словесностью за века ее самостоятельного существования. На основании разделов «Младшей Эдды» можно заключить, что в поэзии скальдов уже в IX—X вв. выработалось представление об известной поэтической стилевой и содержательной норме, которая была в то же время и жанровым и метрическим понятием и называлась «придворным стилем». Близкое к строфе «Старшей Эдды» восьмистишие, характерное для поэзии скальдов, становится необыкновенно разнообразным метрически: Снорри насчитывает до 102 вариантов строфы. Наряду с обычными для всей древнегерманской поэзии принципами аллитерации в поэзии скальдов появляется и развивается и весьма ухищренная рифма; она свидетельствует о большой поэтической культуре скальдов, со временем выродившейся в чисто формальное искусство сложнейшей метрики, изысканной рифмы и предельно затемненного образа – метафоры.
Прием поэтического иносказания, основанного на цепи ассоциаций и синонимов, был одним из излюбленнейших в скальдической поэзии. Назывался этот прием «хейти». Снорри приводит в своем трактате такие, например, образцы различных хейти:
Хейти неба: «твердь», «безоблачное», «ураганное», «беспредельное», «лучистое», «вьюжное», «верх», «бездонное», «высь», «молния», «покров», «широкосинее».
Хейти солнца: «светило», «круг», «всякое сияние», «пресветлое», «лик», «дивное колесо», «целительный свет», «забава Двалина», «сияние альвов», «иврёдуль», «красное».
Хейти луны: «месяц», «полумесяц», «ущербная», «счет лет», «светило», «светоч», «призрак», «спешащая», «серп», «светлая».
Это обилие метафор и сложных синонимов повлияло и на усложненность синтаксиса скальдической поэзии, изобилующей инверсиями.
При этом скальды не чуждались и старых, более простых стихотворных форм. Во все времена их существования простое восьмистишие – виса – непосредственный отклик на событие, стихотворение-эпиграмма остается важной формой их творчества. Это вполне соответствовало тому оттенку импровизированности, который постоянно подчеркивался скальдами. Они слагали стихотворные экспромты даже в весьма критические моменты своей жизни. Так, рассказывали, что скальд Торир Ёкуль сочинил следующее восьмистишие, идя на казнь:
Лезь на киль без страха!
Холодна та плаха.
Пусть метель морская
Мчит, с тобой кончая!
Не тужи от стужи,
Духом будь потуже!
Дев любил ты вволю —
Смерть лишь раз на долю.
(Перевод С. Петрова)
Книга Снорри вводит нас в самую суть поэтики скальдов. Это прежде всего поэтика метафорического творчества. В причудливом мире метафор претворена в поэзию вся жизнь, окружавшая скальда, – его враги и друзья, его возлюбленная, его оружие, родня, северная природа с ее березами и темнолесьем, и прежде всего море, для описания которого скальд обладал большим запасом сравнений и образов-загадок. И сами памятники творчества скальдов и ценнейшие теоретические трактаты «Младшей Эдды» дают основание видеть в поэзии скальдов не только драгоценное выражение самобытного таланта племен и народностей средневековой Скандинавии, но и результат сложного культурного обмена между народами Северной Европы.








