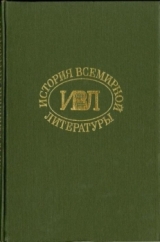
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 65 (всего у книги 88 страниц)
В древнерусской литературе происходило нарастающее с течением времени сближение двух ведущих тем: принесенной вместе с византийско-болгарской книжностью религиозно-учительной темы и возникшей на почве русской действительности темы государственно-патриотической. Это развитие сопровождалось, во-первых, концентрацией художественных признаков словесного творчества в составе практически ориентированных жанров письменности (летописание, торжественная проповедь, жития святых и др.), а во-вторых, усилением христианской нравоучительности применительно к беллетристическому повествованию (переводные повести). В литературе господствовало распределение объектов изображения по определенным жанрам, стилистических приемов – по темам. Такая жанрово-стилистическая структура древнерусской литературы предопределяла условия, при которых эстетические потребности читателей удовлетворялись одновременно с потребностями общественно-политическими, религиозно-философскими, научно-познавательными.
Этико-эстетическое отношение к изображаемому или воображаемому проявлялось у древнерусских писателей по преимуществу в виде символическо-исторических (или псевдоисторических) обобщений. Эстетическое достоинство произведения усматривалось не в его неповторимости, а в его приближенности к типовому идеалу. Декларация автора «Слова о полку Игореве», что он намерен воспеть своих героев «по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню», была первым актом появляющегося индивидуального идейно-эстетического самосознания поэта.
В целом своеобразие литературы Киевской Руси в литературном процессе Средневековья проявлялось в преобладании поучительного начала над беллетристическим. Особенно важно, что это поучительное начало выступало не только в области христианско-книжной тенденции (что в той или иной мере было свойственно всем раннефеодальным европейским литературам), но в еще большей мере – тенденции государственно-патриотической.
Литература Киевской Руси выделялась среди других средневековых литератур тем, что интересы государственно-политической и религиозно-идеологической жизни всего общества были тесно взаимосвязаны. В ней отсутствовал интерес к художественному изображению взаимоотношений людей вне их официально-публичной феодально-иерархической деятельности (политической, военной, религиозной), почти не обнаруживалось внимания к частному быту, к внутренней жизни личности, к любовной тематике. Литература рассматривалась главным образом как дело общественно-воспитательное, а не развлекательно-бытовое. Постоянная поглощенность писателей задачами обороны Русской земли от многочисленных сменяющих друг друга внешних врагов, вопросами государственного устройства и внутрифеодальной политики (с протестами против войн), проблемами вытеснения язычества христианством – все эти интересы укрепляли непосредственные связи литературы с действительностью, определяли ее своеобразный идейно-художественный облик. Но эти же важные идеологические интересы древнерусской литературы ограничивали и ее тематические возможности, и ее жанрово-стилистическое разнообразие.
В отличие от ряда литератур западноевропейских, где сравнительно рано проявлялись противоположные социальные тенденции (феодалы и бюргеры), публицистические тенденции литературы Киевской Руси носили не классово-антагонистический, а государственно-патриотический характер. Нравственно-патриотические идеалы древнерусской литературы вырастали на почве раннефеодального монархического строя, при котором первоначально Русская земля рассматривалась как владение киевского князя, причем «блюсти» эту «отчину и дедину», собирать для нее «дань» с других народов и оберегать ее от иноплеменных нашествий обязаны были все князья – его родичи – в порядке вассального долга. Но в дальнейшем своем развитии и видоизменявшемся литературном выражении эти представления феодального патриотизма объективно приобретали все более широкое значение. Высоко вознося в своих сочинениях идеалы Русской земли, заботясь о ее единстве и славе, писатели Киевской Руси либо восхваляли, либо осуждали деятельность тех или иных князей с позиций национально-народной заботы о благе всего отечества. Уже в древнерусской литературе начал формироваться идеологический тип писателя как морального судьи социально-политических явлений действительности. Публицистичность литературы Киевской Руси не поглощалась еще правительственной официозностью, как это наметилось, впоследствии, особенно в XVI в.
Таким образом, христианский учительный пафос, свойственный в той или иной мере всем раннефеодальным европейским литературам, приобретал в литературе древнерусской черты средневеково-гражданские. Поэтому в целом в истории всемирной литературы Средневековья литература Киевской Руси остается неповторимым образцом взаимосвязанного общественно-патриотического и христианско-этического служения интересам развития раннефеодального государства.
РАЗДЕЛ IX.
-=ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ=-
ВВЕДЕНИЕ
Литературный процесс в период Раннего Средневековья на Западе связан с эпохой распада старой культурно-исторической зоны – эллинистическо-римской. Распад этот протекал постепенно, поэтому начало периода нельзя непосредственно соотносить ни с разделением империи на западную и восточную (конец IV в.), ни с падением Западно-Римской империи (в середине V в.), ни с распадением единой христианской церкви на католическую и православную (что также подготавливалось на протяжении столетий и было лишь закреплено в 1054 г.).
Как заметил Ф. Энгельс, «вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность» ( Маркс К., Энгельс Ф.Соч. 2-е изд., т. 20, с. 507). Это возвышение города на Босфоре означало не только распадение западной зоны, но и переориентацию литературных влияний и воздействий: византийский опыт был использован в первую очередь молодыми славянскими народностями и некоторыми народами Закавказья и лишь затем, очень поздно, стал доступен Западу. В новой западной культурной зоне и в той зоне, центром которой стала Византия (обе эти зоны были наследницами старой греко-римской культурной зоны), особенности литературного процесса, его содержание и его смысл были совершенно различны, несопоставимы, во многом даже противоположны.
Западноевропейский литературный процесс в период Раннего Средневековья (III—X вв.) протекает в обстановке гигантских демографических потрясений, в обстановке мучительного и кровавого становления феодального уклада. Он во многом отразил это формирование новых общественных отношений и возникновение государственных образований нового типа. Он отразил умирание древнеримской государственности, ее глубокую трансформацию и сложные изменения, которые претерпевала родо-племенная структура варварских народностей. Это не могло не сказаться прежде всего на темпах литературного развития. Эти темпы не только неравномерны в разных частях культурной зоны Европы, но и скачкообразны, прерывисты. Для отдельных регионов типичны растягивающиеся на многие десятилетия «провалы», почти полное прекращение литературного развития, которым могут предшествовать или за которыми следовать моменты оживления литературной жизни.
Итак, важная особенность литературного процесса на Западе в период Раннего Средневековья – это отсутствие в нем единства, неравномерность развития, разные его уровни и темпы, т. е. его ярко выраженный переходный характер. Действительно, рядом с очень зрелой латинской литературой, опиравшейся на античный опыт, стремящейся этот опыт сохранить и развить, существует устная словесность молодых, подчас варварских еще народностей, одни из которых сложатся когда-то в нации и станут обладателями развитых литератур, другие переживут недолгую пору расцвета (валлийцы, отчасти провансальцы), третьи же вскоре сойдут с исторической сцены, оставив лишь неясный след в европейской культуре (галлы, готы), Неравномерность развития обнаруживает себя и в том, например, что первоначально латинская литературная традиция существует почти вне каких бы то ни было контактов с фольклором молодых народностей. Это как бы два мощных потока, никак не смешивающихся между собой, даже если они омывают одни и те же земли.
Литературный процесс в изучаемый период характеризуется также крайней разобщенностью культурных центров, отсутствием постоянных и прочных контактов между ними. Латинская литература функционирует в старых, сложившихся еще в древнеримскую эпоху городах (в том числе – в Северной Африке) фольклор молодых народностей и племен, как правило, возникает на периферии Римской империи – на Британских островах, в туманной Скандинавии, на лесных просторах немецких земель.
В этих условиях роль латинской литературы значительна и многообразна. Прежде всего, она оказалась хранительницей античных культурных традиций. Это выразилось не только в сохранении античных памятников (подавляющее большинство произведений античной литературы дошло до нас именно в раннесредневековых списках, созданных в разных частях греко-римской культурной зоны, вплоть до Закавказья), но, что особенно существенно для литературной эволюции, – в сохранении опыта поэтики и стиля. Обращение раннесредневековых латинских писателей к книгам Цицерона, Вергилия, Овидия и многих других представителей древнеримской литературы сделало этот опыт достоянием и возникавших молодых литератур, что станет особенно очевидным в период зрелого феодализма. Итак, латинская литература в своем развитии от античности к Раннему, а затем и Зрелому Средневековью не знала перерывов и остановок.
Латинская литература Раннего Средневековья стала объединяющей силой западноевропейской культуры, способствуя налаживанию литературных связей, передаче опыта молодых литератур и знакомству с античной «ученостью». Латинская культура, таким образом, оказывалась цементирующим и в известной мере цивилизующим началом. Следует заметить, что эту свою роль латинская литература сохраняет и позже, в период Зрелого Средневековья, но тогда ее соотношение с литературами на новых языках оказывается уже иным: вместо единственного представителя письменной словесности перед нами – один из значительных участников литературного процесса, утрачивающий все более явственно свое ведущее положение (хотя, скажем, в XII в. создаются на латинском языке литературные памятники, отмеченные исключительным вкусом и художественной ясностью).
При всей подчиненности латинской литературы религиозной идеологии она несла в себе значительные духовные ценности, открывая и защищая в человеке новые стороны его души, существенным образом отличающиеся от тех ценностей и тех сторон, которые были открыты античностью. Многие памятники латинской литературы были пронизаны этическими проблемами, причем решение этих проблем было далеко не однозначным и подчас не имело ничего общего с ортодоксальной верой. Таким образом, ученый «гуманизм» раннесредневековой латинской литературы как преемственная зависимость от античности подкреплялся (а иногда и опровергался) иным «гуманизмом», который можно было бы назвать «христианским», если бы он не был шире и, главное, человечнее догматов христианской церкви. Латинская литература Раннего Средневековья открыла в образе человека новые грани, каких не знала античность. В этой новой концепции личности человек выступал в сложном противоборстве своих душевных качеств, и низменных и возвышенных, он как бы был червем, прахом и носил в себе частицу божества.
Средневековая латинская литература находилась в сложном взаимодействии с народно-эпическими памятниками и с возникающими произведениями письменной словесности на новых языках (например, сведения о некоторых несохранившихся памятниках молодых варварских литератур донесли до нас латинские хроники и некоторые другие сочинения). Но возникло эпическое творчество молодых народностей Европы вне контактов с латинской литературой и первое время развивалось ей параллельно, почти с нею не соприкасаясь. Народно-эпическая литература воплотила мифологические представления и концепцию исторического прошлого, этические идеалы и коллективистский (родо-племенной в основном) пафос. Причем в наиболее ранних, архаических памятниках мифологическое мировосприятие доминирует и лишь постепенно вытесняется историческими представлениями (и образами). Народно-эпическая литература, возникшая в период разложения первобытнообщинного строя, отразила складывание классового общества у молодых народностей, только что появившихся на европейской арене. Происходил переход от древних богатырских сказок, от преданий о героях-первопредках к героическим легендам о родо-племенных столкновениях и затем к эпическим сказаниям с широким историческим фоном и сложным комплексом общественных идей, что отражало многообразные процессы этнической (а затем и политической) консолидации.

Музыкант . Миниатюра из рукописи XI в.
Париж. Национальная библиотека
В период Раннего Средневековья эта трансформация эпических традиций лишь намечалась; в полной мере она осуществилась лишь в период Высокого Средневековья, т. е. не ранее XI столетия.
Истоки народно-эпических сказаний молодых народностей Европы уходят в доисторическую фазу их эволюции. Вместе с принятием ими христианства возникают контакты между народной устной словесностью и письменной латинской литературой. Постепенно в последнюю начинают входить отдельные мотивы и образы фольклора, существенным образом ее обогащая. Так среди памятников латинской литературы начинают появляться произведения, окрашенные национальными чертами.
Если на заре Средних веков художественная словесность была представлена лишь латинской литературой и зарождающимся народно-героическим эпосом, то с VIII столетия начинают появляться письменные памятники и на новых языках. Первоначально эти памятники носили специфически прикладной характер. Это были грамматические справочники и словари, всевозможные юридические и дипломатические документы. К последним относятся, например, так называемые «Страсбургские клятвы» – один из первых памятников французского и немецкого языков (842 г.). Это было соглашение между Карлом Лысым и Людовиком Немецким, причем французский король присягал по-немецки, а немецкий – по-французски.
Следующим шагом в развитии словесности на новых языках стало сложение религиозной литературы, опиравшейся главным образом на опыт литературы латинской. Библейская образность, поэтичность, увлекательные сюжеты и высокий морализм вдохновили поэтов на стихотворные пересказы на новых языках тех или иных эпизодов из Ветхого и Нового Заветов. Так, по сообщениям латинских хронистов, в VII в. слагал стихи на религиозные темы англосаксонский поэт Кэдмон. В следующем столетии возникли англосаксонские анонимные поэмы на библейские сюжеты «Исход», «Бытие» и др. В них есть отдельные стилистические черты, роднящие эти произведения с англосаксонским эпосом «Беовульф». Кэдмону приписывают еще несколько сочинений религиозного содержания. К IX в. относится древнегерманская поэма «Спаситель», использующая новозаветный сюжет. И в ней сильны элементы дохристианской эпики.
Все эти памятники проложили дорогу такому популярному жанру средневековой литературы, как агиография. И этот жанр возникает в пору Раннего Средневековья. Наиболее примечательным из первых памятников этого жанра стала французская «Секвенция о Святой Евлалии» (IX в.), возникшая под сильным воздействием аналогичных произведений латинской литературы. Так, французское «Житие Святого Леодегария» (X в.) непосредственно восходит к латинскому сочинению некоего монаха Урсина. Однако в ряде других памятников агиографии, например во французском «Житии Святого Алексея» (XI в.), не без основания видят следы воздействия творческих принципов жест, расцвет которых приходится как раз на это время. Более поздние памятники агиографии не были отгорожены и от иных фольклорных влияний. Из народных сказок в них пришел фантастический элемент, столь ощутимый, скажем, в «Плавании Святого Брендана» (XI в.), обработки которого появились на нескольких языках средневековой Европы.
Таким образом, на протяжении III—X вв. западноевропейская литература прошла значительный путь развития, создав немало памятников непреходящего значения в разных жанрах и формах. Именно в это время она сложилась в некую систему. То есть перед нами – процесс складывания новой литературной зоны. Первоначально разобщенная и распыленная, она постепенно складывалась в достаточно обозримую и очерчиваемую литературу с внутренними контактами и взаимовлияниями, что не исключало и ее соприкосновений с литературами других регионов и зон. Границы этой новой – западноевропейской – зоны были иными, чем те, что очерчивали западную часть эллинистическо-римского мира в Древности.
О возникновении западноевропейской культурной зоны можно говорить лишь к концу рассматриваемого в этом разделе периода, когда несколько поулеглись демографические пертурбации и феодальный способ производства (как и его идеологическая и политическая надстройка) близился к завершению своего формирования, когда уменьшились контрасты в развитии отдельных литератур или зональных литературных систем. В полной мере эта зона сформировалась лишь в период Зрелого Средневековья.
*ГЛАВА 1.*
ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III-XВВ.(Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Самарин Р. М)
НА ИСХОДЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (III—IV ВВ.)
В конце II в. Римскую империю постигает всеобщий социальный, политический и духовный кризис. Процветание городов сменяется их упадком, который достигает наибольшей силы в традиционных центрах греко-римской цивилизации (при относительном благополучии на Ближнем Востоке и в Северной Африке); муниципальные идеалы, явившие собой последний, урезанный вариант античной гражданственности, перестают быть притягательными; компромисс между самодержавной властью императоров и моральными представлениями республиканской старины теряет смысл; почитание «отечественных» италийских и эллинских богов вытесняется восточными культами, среди которых все заметнее становится христианство; наконец, «вторая софистика», собравшая в предыдущую эпоху все силы традиционной литературы, в угрожающей степени утрачивает сначала содержательность, затем вкус и чувство классической меры, а под конец и внешнюю продуктивность.
Этим кризисом были открыты новые пути, уводившие литературное творчество от античных основ к средневековым. К исходу античности сложилась историко-культурная ситуация, перешедшая затем в эпоху Средневековья и определявшаяся всевозрастающей гегемонией христианской идеологии. Вероучение церкви становилось, как отмечал Ф. Энгельс, «исходным пунктом и основой всякого мышления» (Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 495). Поэтому история литературы становится на некоторое время неотделимой от истории религии. Чем ниже опускался уровень языческой риторики и поэзии, тем смелее осуществляла свои первые завоевания христианская литература. Отнюдь не случайно, что ее прорыв в латиноязычном круге связан прежде всего с городами Северной Африки, которые не имели классического прошлого, но в настоящем сохранили нерастраченный запас духовных сил, как о том уже во II в. свидетельствовало явление Апулея.
Уроженец Карфагена Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 – после 220) – первая четко очерченная авторская индивидуальность в истории христианской литературы на латинском языке. Можно добавить, что это индивидуальность очень яркая, до своеволия, своеобычная, и притом как на уровне мысли, так и на уровне стиля. Тертуллиан родился в языческой семье и получил образование судебного оратора; приняв христианство в зрелом возрасте, он вернулся в родной Карфаген. Удержаться в рамках церковной ортодоксии ему не удалось: его привлекал яростный пафос радикальной ереси монтанистов, и к 207 г. он выступил с резкими выпадами против недостаточно последовательного проведения принципов аскетизма и против иерархической структуры церкви. Склад мышления карфагенского еретика отмечен тягой к дерзкому парадоксу, вызову, к непримиримому столкновению понятий, литературно воплощаемому в риторической игре антитез. Если современные ему греческие церковные мыслители типа Климента Александрийского работали над приведением библейского предания и античной философской традиции в целостную закругленную систему, то Тертуллиан не упускает ни одного случая злорадно подчеркнуть пропасть между верой и умозрением. Нападая на построения теоретизирующего разума, он полемически отстаивает права «естественного» здравого смысла, развертывая программу возвращения к природе, и притом не только в жизни, но и в познании; необходимо преодолеть «предпочтение утонченной истины» и сквозь все слои книжности докопаться до изначальных недр человеческой души. Эмоциональный фон мышления Тертуллиана – характерная для его кризисного времени и для молодого христианства тоска по эсхатологической развязке; имперскому общественному порядку он противопоставляет цинически окрашенный космополитизм и моральное бойкотирование политики: «Для нас нет дел более чуждых, чем государственные. Мы признаем для всех только одно государство – мироздание» («Апологетик»).
Грубоватая энергия мысли и стилистики Тертуллиана, присущая ему любовь к резко очерченному образу, к хлесткой фразе, не чуждающейся дешевых эффектов, но все время питаемой неподдельными страстями ума и души, напор эксцентрических парадоксов и гротескных гипербол, соединение мистического порыва с мирскими интонациями судебного красноречия, с развязной живостью инвективы – все это явилось адекватным выражением самой сути переходной эпохи становления новых культурных норм и дало импульс дальнейшему развитию латинской христианской литературы.
Полемическим устремлениям Тертуллиана противостояли – уже у ряда его современников – попытки синтеза, условия для которого полностью созрели лишь в эпоху Константина I (311—337), ознаменованную союзом между прежними противниками – имперской идеологией и христианской верой.

Амвросий Медиоланский
Мозаика V в. Милан. Сант Амброджо
История искусства отмечает для времен Константина классицистическую волну, из которой возник парадный и монументальный облик первых римских базилик – христианских храмов, перенявших архитектурную схему античного общественного здания. Точный литературный аналог этого классицизма – творчество Цецилия Фирмиана Лактанция (III—IV вв.), который в 317 г. был призван ко двору Константина и стал воспитателем его сына Криспа. Из всех авторов своей эпохи, как христианских, так и языческих, Лактанцию удалось ближе всего подойти к цицероновской норме латинской прозы: его слог отмечен чистотой языка, благородной простотой выражения мысли, стройной непринужденностью композиции. Гуманисты эпохи Возрождения прозвали его «христианским Цицероном». В сознательном следовании традиционной юридической терминологии главный труд Лактанция озаглавлен «Божественные установления». Выразившийся в стиле и мысли набожного ритора синтез христианских и классических начал проведен с редкой уверенностью и последовательностью, но оплачен дорогой ценой: если христианская вера внутри такого синтеза утрачивает дерзновенную глубину парадокса, то античная культура сводится к стилистическому блеску и общим местам моральной философии, отказываясь от научного духа (именно у Лактанция достижения космологии впервые оцениваются как опасность для веры).
Соединение большой литературной традиции прошлого с христианским содержанием было до Константина слишком предварительным, а во времена Константина слишком официозным и слишком скороспелым, чтобы не быть поверхностным. Но во второй половине IV в. оно идет вглубь.
Амвросий Медиоланский (334 или 340—397) как писатель и мыслитель уступает двум младшим представителям христианской литературы второй половины IV в. – Иерониму и Августину; однако без него, без его планомерной, целеустремленной, упорядочивающей деятельности, без проявлений его организаторской и просветительской инициативы, всегда верно отвечавшей потребности времени, многие позднейшие достижения были бы немыслимы. Происхождение и психологический склад связывали Амвросия с поколениями римских администраторов, управлявших империей; он и сам начинал магистратом, но его гражданская карьера неожиданно для него и против его воли была прервана народным выбором, возведшим его, мирянина, на епископскую кафедру города Медиолана (Милана). Амвросий предвосхитил столь важный для Средневековья тип католического прелата, властного, дельного и распорядительного, решительно вмешивающегося в политические распри и не боящегося спорить со светской властью. Сочинения Амвросия отмечены особым интересом к моральным проблемам, трактуемым в духе стоического рационализма; его трактат «Об обязанностях церковнослужителей» не только в заглавии, но и в организации материала следует трактату Цицерона «Об обязанностях». Особые заслуги принадлежат Амвросию как основателю церковной латинской гимнографии. Его гимны просты и аскетичны по метрике и образной системе и представляют контраст цветистой риторике византийских песнопений.
Беспокойная жизнь Софрония Евсевия Иеронима (ок. 347—420) и его лингвистическая любознательность предрасположили его к роли посредника между культурами. Уроженец Далмации, он приобщился в Риме латинской культуре слова у знаменитого грамматика Доната, бежал от соблазнов столичной жизни к аскетам Галлии,
позднее в Антиохии довел до совершенства свои познания в греческом языке, а в уединении сирийской пустыни обучился также древнееврейскому языку. В Константинополе он слушал проповеди выдающегося византийского писателя Григория Назианзина, затем вернулся в Рим, где стал секретарем папы Дамаса и возглавил кружок предавшихся аскезе знатных дам. Вскоре Иероним снова уехал на Восток, встречался в Александрии с известным богословом Дидимом, посещал египетских монахов, а последние 34 года жизни провел в Палестине, где руководил комплексом монастырей и толковал классическую литературу в монастырской школе. Непоследовательный, но очень впечатлительный человек и мыслитель, Иероним метался между восторгом перед древней культурой и ее отрицанием во имя веры. «Когда много лет тому назад, – рассказывает он в одном из писем, – я отсек от себя ради царствия небесного дом, родителей, сестру, близких и, что было еще труднее, привычку к изысканному столу, когда я отправился в Иерусалим как ратоборец духовный, – от библиотеки, которую я собрал себе в Риме ценою великих трудов и затрат, я никак не смог отказаться. И вот я, злосчастный, постился, чтобы читать Цицерона. После еженощных молитвенных бодрствований, после рыданий, исторгаемых из самых недр груди моей памятью о свершенных грехах, руки мои раскрывали Плавта! Если же, возвращаясь к самому себе, я понуждал себя читать пророков, меня отталкивал необработанный язык: слепыми своими глазами я не мог видеть свет и винил в этом не глаза, а солнце». Пустынник, истребляющий в себе мирские помыслы и одновременно изучающий разглагольствования римского комедиографа о вине, женщинах и плутнях, – это культурно-исторический образ, полный значения; без него не может быть понято средневековое восприятие античной литературы.
Далее следует знаменитый рассказ Иеронима о сновидении, в котором грозный Судия сказал ему с укором: «Ты цицеронианец, а не христианин!» Здесь также намечена типичная средневековая коллизия, повторившаяся в судьбе Алкуина, строго осудившего себя за чрезмерную любовь к стихам Вергилия, и во многих иных судьбах. Если бы, однако, Иероним не принял на себя этого внутреннего конфликта, он не смог бы выполнить своего главного дела – перевода Библии на латинский язык: для этого дела (не только идеологического, но и литературного) нужен был человек, соединивший в себе христианский интерес к Библии и филологическое проникновение в чуждую языковую сферу с тонким чувством своего языка, воспитанным на античных латинских авторах. Стиль Иеронимова перевода сохраняет специфический строй древнееврейской поэзии едва ли не вернее, чем перевод Септуагинты, но это достигнуто за счет уверенного владения экспрессивными средствами латыни; достаточно посмотреть, как передано крайне трудное для перевода начало «Книги Иова». Значение этого труда для контакта между тысячелетними литературными традициями с их образными системами, с их набором символов и метафор, органически соотнесенных между собой, едва ли может быть переоценено. Однако при своем появлении новый перевод вызвал бурные споры; лишь к VII в. он получил те же права, что и более старый перевод (т. н. «Итала»), в VIII—IX вв. победоносно вытеснил «Италу», а с XIII в. получил обозначение «Вульгата», став на многие века единственно принятым библейским текстом для католической Европы.
Среди прочих сочинений Иеронима выделяются его многочисленные письма, некоторые из которых имеют доверительно личный характер: по живости интонаций, тонкости психологической нюансировки и правдивости отображения противоречивого облика эпохи и человека они могут быть поставлены рядом с письмами Цицерона. Средневековье, преклоняясь перед авторитетом Иеронима как «отца церкви» и «учителя церкви», не оценило этой стороны его писательского самопроявления, но гуманисты Возрождения проявили к ней особый интерес.
Северная Африка дала в IV в. писателя, наиболее полно и содержательно осуществившего на грани античности и Средневековья синтез христианских традиций и древней культуры, – Августина. Такая фигура, как Августин, мыслима только в краткий и неповторимый момент встречи двух эпох, когда основания средневековой идеологии уже продуманы и прочувствованы с основательностью и последовательностью, чуждой еще поколению Лактанция, но античная изощренность ума и чувства сохранена в степени, неведомой уже младшим современникам Августина. Этот мыслитель уже имел в себе едва ли не все признаки носителя средневековой культуры, кроме единственного признака: средневековой ограниченности. Отсюда уникальность его исторического места.
Аврелий Августин (354—430) родился в нумидийском городе Тагасте, учился риторике в Мадавре и Карфагене, затем преподавал риторику в городах Северной Африки и в Медиолане. С 373 г. начинаются (под влиянием прочитанного диалога Цицерона «Гортензий») религиозно-философские искания молодого ритора: он проходит через увлечения манихейством и скептицизмом, пока в 386 г. не открывает для себя возможностей философского умозрения неоплатонического типа в рамках ортодоксального христианства (в чем ему помогли проповеди Амвросия Медиоланского).








