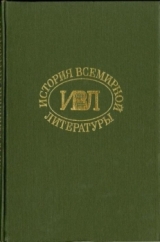
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 88 страниц)
Среди других буддийских сочинений на древнеуйгурском языке известны рукопись перевода поэмы Васубандху «Абхидхармакоша» («Сокровище знания», предположительно X в.), фрагменты из переводов на древнеуйгурский язык сочинений «Раджававадака» («Наставление царям») и «Праджняпарамита» («Совершенство мудрости»), а кроме этого, переводы буддийских джатак и авадан (например, «Авадана об Атаваке», в которой изображается борьба демона с Буддой) и т. д.
Не будучи самостоятельными произведениями древнеуйгурской литературы, эти сочинения представляют значительный интерес, так как являются не просто переводом, а обработкой и изложением книг буддийского священного канона с местными напластованиями религиозного и стилевого характера. Вместе с тем следует отметить, что некоторые легенды, заключенные в этих древнеуйгурских версиях, не содержатся в аналогичных санскритских, тибетских или китайских редакциях.
На древнеуйгурском языке уйгурским письмом до нас дошли также отрывки из сочинений христианского содержания, которые предположительно датируются временем до монгольского завоевания. Среди них – фрагмент из Евангелия «Поклонение волхвов». Поскольку такая же легенда есть и в персидской литературе, то можно думать, что перевод на древнеуйгурский язык был сделан с согдийского, но не исключена возможность, что в основу перевода лег сирийский текст.
Тюркоязычная литература развивалась в широком контакте с литературами других народов Востока, и связи эти возрастали по мере того, как усиливалось влияние тюрков в Средней Азии. Начало нового периода развития тюркоязычной литературы связано с образованием тюркского государства под властью династии Караханидов. К тому времени, когда в конце X в. Караханиды сменили в Средней Азии иранскую династию Саманидов, в столице саманидского государства Бухаре сложился персидский литературный круг, давший такие творческие индивидуальности, как поэт Рудаки.
С переходом власти к тюркской династии в культурной жизни Средней Азии почти ничего не изменилось, что отчасти объясняется принятием тюрками ислама (процесс, начавшийся в середине X в.). При дворах тюркских правителей нашли покровительство персидские поэты. Тюркские правители не только поощряли их, но и сами писали стихи на персидском языке. Однако, подчинившись влиянию мусульманской культуры, тюрки при этом сохранили свой язык и не окончательно порвали с древними традициями, о чем можно судить по дошедшим до нас письменным памятникам этой эпохи.
В 1069—1070 гг. в городе Кашгаре появилась дидактическая поэма «Кутадгу билиг» («Наука о том, как быть счастливым») Юсуфа родом из Баласагуна. Никаких биографических сведений об авторе не сохранилось. Поэма была посвящена правителю Кашгара Богра-хану, который удостоил автора почетным чином хас-хаджиба (личного камергера). «Кутадгу билиг» написана на уйгурском языке караханидского периода и содержит свыше 6500 бейтов. Она получила широкую популярность, ее называли «Этикой правления», «Державными законами», «Украшением знатных», «Советами царям», а иранцы – «Тюркской Шах-наме», хотя последнее определение не вытекает из ее содержания. «Кутадгу билиг» написана в форме месневи, размером мутакариб арабо-персидского стихосложения аруза (араб. – аруд). С поэмы «Кутадгу билиг» начинается история классической тюркоязычной поэзии.
Этико-дидактический трактат Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» охватывает все стороны жизни идеального правителя и его должностных лиц. Поучения сопровождаются сведениями из самых разных областей науки: математики, астрономии, медицины. В качестве необходимых примеров для подражания приводятся легендарные иранские цари и герои.
Мусульманская ориентация первого в классической тюркоязычной поэзии сочинения закономерна. Будучи правоверными мусульманами, Караханиды могли одобрить такое произведение, где излагались бы идеи, полезные для тюркской династии, выступавшей в качестве властителя Мавераннахра. В то же время именно такое произведение и мог создать автор, эрудиция которого не оставляет сомнений в том, что он был хорошо знаком с литературой арабов и персов, взятой им за образец.
Но, работая над своим трудом о правильном управлении государством, Юсуф Баласагунский поставил перед собой задачу еще более грандиозную – создать монументальное поэтическое произведение на тюркском языке. Он отразил в поэме свое понимание разумно устроенного и основанного на справедливости государства. Так как автор был сведущ во всех областях средневековой науки, то и его труд отвечал необходимым правилам создания сочинений подобного рода. Вступительная часть «Кутадгу билиг» содержит обязательное для жанра месневи вступление, куда входят прославление бога и пророка Мухаммеда, посвящение правителю и где сообщается о значении книги и о причинах ее написания. Затем следует основная часть поэмы, которая в месневи всегда свободна. Юсуф Баласагунский для основной части поэмы избрал форму диалога четырех действующих лиц: правителя Кюн Тогды (букв. – «Восход солнца»), его везира Ай Толды (букв. – «Полная луна»), сына везира Огдулмыша и брата везира Одгурмыша. Сюжета почти нет. Заключительная часть поэмы содержит традиционные в восточной поэзии жалобы на старость, вероломство друзей и гибельность мира, а также наставления самому себе. Отличительная черта композиции «Кутадгу билиг» – вкрапление в месневи более двухсот четверостиший типа рубаи – и то, что заключительные главы написаны в форме касыд. Таким образом, первое в истории тюркоязычной классической поэзии сочинение включало в себя несколько жанров арабской и персидской поэзии, которые в дальнейшем и у тюрков оформились в законченные и обособленные литературные жанры.
«Кутадгу билиг» содержит ряд советов автора поэмы караханидским правителям, не обладавшим достаточным опытом в управлении обширной страной с оседлым населением. По мысли автора, необходимы создание стройной системы управления, особый подбор обученных делу чиновников, упорядочение системы налогов, которые предлагается взимать в соответствии с размерами богатства и не превышать возможности людей. Юсуф Баласагунский протестует против насилия и произвола феодалов, против разорительных междоусобных войн, защищает идею централизации государства, призывает к развитию торговли, ремесел и науки. В многочисленных главах поэмы описываются необходимые качества придворных и должностных лиц (военачальника, посланника, казначея и др.), указывается, как нужно вести себя с представителями других сословий и профессий (поэтами, землевладельцами, торговцами, звездочетами, врачами и ветеринарами), определяются правила поведения в быту и семье. Достижение идеала возможно, если правитель сочетает в себе четыре основных качества – справедливость, ум, счастье и довольство. Автор создает утопическую картину богатого, процветающего государства, где нет бедняков, высоко развита культура и повсюду царят спокойствие и мир. Одновременно с восхвалением человеческих добродетелей он выступает и против пороков: лицемерия, лжи, клеветы, зависти, алчности, скупости.
Поэма Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» насыщена разнообразными художественными приемами – сравнениями, эпитетами, аллегориями, метафорами. Наиболее часто употребляются метафорическое сравнение и аллегория. Так созданы картины непостоянства человеческого счастья и коварства судьбы, погони людей за богатством. Построенная главным образом на диалогах и монологах действующих лиц, «Кутадгу билиг» богата приемами поэтического синтаксиса: риторическими вопросами, обращениями и восклицаниями. Автор поэмы вводит в текст детали быта кочевников и охотничьего обихода. Произведение содержит сентенции, афоризмы, пословицы и фразеологические обороты, свидетельствующие о хорошем знании тюркского фольклора. «Красота ума – речь, а красота речи – слово. Красота человека – лицо, а красота лица – глаза. С помощью языка человек произносит слова. И если слова его хороши, то прославится его лицо»; «Знание – богатство, обладая им, не будешь бедняком, его не отнимут у тебя ни вор, ни обманщик»; «Ради человечности дано людям имя – человек, человечностью возвышает свое имя человек». По точности и выразительности изображения особенно привлекает внимание вступление к IV главе поэмы, которое посвящено весеннему пробуждению природы.
Между 1072 и 1083 гг. в Багдаде появилось на арабском языке сочинение «Диван лугат ат-турк» («Собрание тюркских слов»). Полное имя автора – Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед ал-Кашгари. Его отец происходил из города Барсхана около озера Иссык-Куль. О себе Махмуд ал-Кашгари сообщает, что он принадлежит к исконному тюркскому роду, известному своей воинственностью, что он в совершенстве владеет тюркской речью и что, стремясь изучить все тонкости и отличия наречий тюрков, туркмен, огузов, чигилей, ягма и кыргызов, он объездил их города, селения и пастбища, собирая «слова», из которых он составил свой словарь. Биографических сведений об авторе не сохранилось. Некоторые замечания в его труде и другие исторические данные позволяют заключить, что он принадлежал к династии Караханидов. Спасаясь от политических преследований, он в конце концов оказался в Багдаде, где написал свой труд и преподнес его арабскому халифу Муктади би-ллаху (годы правления – 1075—1094). Кроме того интереса, который «Диван лугат ат-турк» представляет как лингвистический и историко-этнографический источник, он ценен тем, что в нем содержится значительное количество поэтических отрывков из тюркоязычных произведений, четверостиший и двустиший, которые Махмуд ал-Кашгари привел в виде примеров к отдельным словам. Единственная рукопись «Дивана...» найдена в конце XIX в. в Турции и в 1915—1917 гг. издана в Стамбуле. Впоследствии сочинение издавалось в турецком и узбекском переводах.
Четверостишия и двустишия, представленные в «Диване...», могут быть на основании метра и рифмы, а также по содержанию объединены в строфические и нестрофические повествования, в одних случаях весьма пространные, в других – краткие.
При анализе формальной стороны поэтических текстов «Дивана...», которая изучалась в первую очередь, так как тексты в том виде, в каком они существовали до недавнего времени (разрозненный конгломерат строф), не давали основания для обстоятельных литературных наблюдений над ними, исследователи прежде всего задавались вопросом: могут ли это быть отрывки из произведений литературы или это произведения фольклора? Общее мнение склонилось к выводу, что «Диван лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари содержит и образцы тюркского фольклора, и образцы литературы, что тексты из «Дивана...» восходят к доисламскому времени, но несут на себе печать мусульманского влияния.
Однако при специальном исследовании выясняется, что поэтические отрывки из «Дивана...» написаны разными метрами аруза, иногда воплощенными совершенно правильно, иногда с погрешностями в метре, но такими же, как и метрические ошибки в «Кутадгу билиг». В таком случае поэтические тексты из «Дивана...» вряд ли можно считать фольклорными. Роль Махмуда ал-Кашгари, вероятно, здесь двоякая: или он знал и привел в своем сочинении отрывки из уже существовавших, написанных арабо-персидскими метрами произведений, или сам обработал собранный им тюркский поэтический материал, подогнав его под те или иные схемы аруза. Не исключено, что произошло одновременно и первое, и второе.
Реконструкция композиции поэтических текстов, приведенных в «Диван лугат ат-турк», позволяет рассматривать их как связные произведения, посвященные разнообразным темам: воинской, любовной, анакреонтической, элегической, теме природы, темам морально-этическим, мифологическим и бытовым. Сравнительное изучение поэтических текстов из «Дивана...» дает возможность установить многие черты их сходства с древнетюркскими, в частности с орхонскими, сочинениями как в общей композиции, так и в отдельных приемах описания событий. Особенно богатый материал для сравнения дают тексты «Дивана...», посвященные битвам тюрков, с Большой надписью в честь Кюль-тегина и надписью в честь Тоньюкука. В то же время произведения, собранные в «Диване...», имеют немало общего с поэмой «Кутадгу билиг», особенно в назидательных стихах.
Наряду с поэтическими текстами «Диван...» содержит много фольклорного материала – пословиц, поговорок, загадок.
На основании текста «Элегия на смерть Алп Эр Тонга» из «Дивана...» можно предположить, что в XI в. существовал цикл сказаний или героических песен о подвигах древнетюркского богатыря Алп Эр Тонга, отождествляемого с древнеиранским героем Афрасиябом, владыкой Турана, о котором писал Фирдоуси в «Шах-наме». Возможность такого предположения подтверждается необычайной популярностью этого героя, о котором пишет Юсуф Баласагунский в поэме «Кутадгу билиг»:
Среди тюркских беков имя его было известно,
Его звали Тонга Алп; он славился знаниями,
Был умен и прозорлив.
Таджики его, Алп Эр Тонга, назвали Афрасиябом.
Этот Афрасияб совершал походы, завоевывал страны.
Вслед за первой тюркоязычной поэмой «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского в конце XII в. (или в первой половине XIII в.) в Фергане появился еще один памятник дидактической литературы под названием «Хибат ал-хакаик» («Подарок истин»). Об авторе сохранились весьма скудные сведения. Известно, что полное его имя было Ахмад ибн Махмуд из города Югнака (отсюда его прозвище – Югнаки), расположенного в окрестностях Самарканда. Поэт был слепым от рождения. Свой труд он посвятил Дад-Сипахсалар-беку, по-видимому правителю города. Книга состояла из 14 глав, однако до нас дошли лишь семь.
Ахмад Югнаки начинает свое сочинение обычным для месневи восхвалением Аллаха, его пророка Мухаммада и четырех первых халифов. Затем он переходит к изложению причины, побудившей его написать эту поэму. Основная часть поэмы открывается разделом, посвященным прославлению знания и осуждению невежества. Во втором разделе говорится о вреде излишней болтливости и лжи. Далее следует раздел, посвященный теме бренности земного существования, непостоянства счастья и тщетности человеческих надежд. В последующих разделах Ахмад Югнаки рассуждает о пороке алчности, о щедрости и великодушии, призывает к терпению, ибо, по его словам, все проходит – и доброе, и злое. В заключение поэмы автор сетует на то, что настали плохие времена: нет больше добра, верности, «служение богу стало лицемерием», процветают «улицы кабаков», а храмы рушатся, и виноваты в этом люди, утратившие разницу между дозволенным и запретным (в соответствии с предписаниями Корана).
Проникнутая духом раннего суфизма (см. разд. IV), поэма выдвигает чрезвычайно высокие моральные требования, однако если сравнить сочинение Ахмада Югнаки с «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского, то легко заметить, что, хотя многие нравственные категории обоих произведений совпадают, формулируются они для разных целей. Поэма Юсуфа Баласагунского может рассматриваться как руководство в делах государственного правления и практической жизни, сочинение же Ахмада Югнаки призывает к нравственному самосовершенствованию, никак не связанному с конкретными проявлениями жизни.
Поэма «Хибат ал-хакаик» написана, как и «Кутадгу билиг», метром аруза – мутакарибом, но основная ее часть излагается не в форме месневи, а характерными для тюркоязычной поэзии четверостишиями, большей частью типа рубаи.
Философия суфизма породила богатую литературу на арабском, персидском и тюркском языках. На ранних этапах своего существования эта литература (преимущественно поэзия) отличалась большой простотой, применением популярных в народе форм стиха и использованием народных мелодий. Это объясняется тем, что ранние суфийские поэты обращались в первую очередь к простому люду.
Как у ранних персидских суфиев, так и среди тюрков особой популярностью пользовалось четверостишие. В известных четверостишиях среднеазиатского суфия Ахмада Ясави (ум. в 1166 г.), которые вошли в сборник «Диван-и хикмат» («Собрание мудростей»), описываются с назидательными целями некоторые якобы подлинные события из жизни пророка (Мухаммеда) и самого ходжи Ахмада Ясави. Другая часть стихов – лирического содержания. В них, как обычно принято в суфийской литературе, с помощью выработанной и четко определенной системы образов-символов описываются различные ступени экстатического состояния.
Ахмад Ясави был популярным в течение ряда веков суфийским шейхом, основателем дервишеского ордена Джахрия. Многие стихи, входящие в сборник «Диван-и хикмат», принадлежат не ему, а его последователям и ученикам (существует мнение, что Ахмад Ясави вообще сам не писал стихов). Все рукописи и многочисленные позднейшие печатные издания отличаются друг от друга, так как «Диван-и хикмат» был составлен довольно поздно, и хикматы Ахмада Ясави долгое время существовали в устной передаче, претерпевая при этом неизбежные искажения. Поэтому с полным основанием можно считать «Диван-и хикмат» плодом литературного творчества ряда поколений суфийских авторов. Обращаясь главным образом к слушателям из народа, суфийский поэт, естественно, использовал привычные для аудитории поэтические формы, часто облекал свои поучения в форму притч, перелагал, придавая им новый смысл, уже существовавшие стихи. Поэтому собрание стихов, приписываемых Ахмаду Ясави, представляет собой своеобразный сплав самых разнородных элементов, среди которых можно выделить более древние и более поздние.
Дошедшие до нас памятники раннего периода классической поэзии показывают, как происходили разработка и усвоение основных принципов нового мировоззрения, связанных с принятием ислама – сложного сочетания религии, философии и права. Арабо-персидская поэтика, ставшая в дальнейшем одним из главных составных элементов классической поэзии на языке тюрки, завоевывает здесь ведущие позиции. Одновременно с этим складывается прочное равновесие между природными свойствами тюркских языков и нормами стиха, первоначально выработанными применительно к иноязычным поэтическим образцам. Все это определило условия, позволившие арабо-персидской поэтике утвердиться в тюркоязычной среде, что вызвало в дальнейшем появление выдающихся самобытных художественных произведений.
РАЗДЕЛ IV.
-=ЛИТЕРАТУРЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СРЕДНЕЙ АЗИИ III—XIII ВВ.=-
ВВЕДЕНИЕ (Мелетинский Е.М.)
Арабское завоевание, распространившееся к концу VIII в. на огромную территорию в Передней и Средней Азии, Северной Африке и Юго-Западной Европе, было историческим событием огромного значения.
Объединение арабских племен, из которых многие стояли еще на стадии разложения первобытнообщинного строя, и последующая экспансия происходили под знаменами новой надплеменной религии – ислама. Хотя само обращение в ислам во многих случаях не было насильственным, подавляющее большинство покоренных народов приняло мусульманство, или надеясь ослабить поборы и притеснения завоевателей, или привлеченное его кажущимся демократизмом. Изучение Корана, притом только в оригинале, стало краеугольным камнем образования, основой религиозно-этического воспитания.
Коран как литературный памятник оказал большое влияние на формирование единого арабского языка и распространение его в странах Азии и Африки. Толкование Корана в широком масштабе дало начало ряду отраслей средневековой мусульманской науки и письменности: богословию, языкознанию, стилистике и риторике, мусульманской философии, социологии и т. п.
В Средние века Коран и многочисленные комментарии к нему стали источниками большинства жанров религиозного фольклора в странах мусульманского Востока. Центральное место в этом фольклоре занимала фантастическая жизнь библейских и древнеарабских пророков и патриархов, упомянутых в Коране. Этот цикл известен под названием «Кысас аль-Анбия» («Рассказы о пророках»). Не меньший интерес представляют коранические легенды о Хызре, Зулькарнайне, Лукмане, семи спящих отроках и др., получившие в дальнейшем устное хождение или ставшие сюжетообразующими мотивами художественной литературы. Особенно популярен в персоязычной и тюркоязычной литературе коранический вариант легенды об Иосифе Прекрасном. Существует большая серия эпико-романических поэм «Юсуф и Зулейха», темой которых, как и в Коране, является драматическая судьба Иосифа (Юсуфа).
Поэтическое достоинство Корана отметил Гёте в своей незаконченной трагедии «Магомет», в особенности в «Западно-восточном диване». Большой интерес представляет вольная обработка Корана А. С. Пушкиным («Подражание Корану»).
Коран переведен на все европейские и другие языки.
Несомненно существующая общность некоторых культурных традиций у народов, исповедующих ислам в Малой и Средней Азии, в Северной Индии (современный Пакистан) и т. п., восходит в конечном счете к распространению Корана и созданию теократической государственности – Халифата. Таким образом, были заложены основы того, что условно называют «мусульманской культурой», но что в действительности было и осталось довольно пестрым культурным конгломератом. Лишь на короткое время, главным образом при Омейядах (661—750), исламизация и арабизация заставили замолчать, уйти в тень местные традиции, но в IX—X вв., начиная с Аббасидов, они возродились с новой силой, особенно в Иране и Средней Азии, и сами оказали ощутимое влияние на культуру арабов. Местные традиции, литературные и религиозные, были одним из источников, питавших различные оппозиционные секты в исламе и философское вольнодумство.
С довольно употребительным понятием «арабская культура Средних веков» следует обращаться так же осторожно, как и с понятием «мусульманская культура», причем эти два понятия не следует отождествлять.
Прочно, казалось бы, исламизированные иранцы с X в. развивали оригинальную литературу на новоперсидском языке; многие евреи, не приняв ислама, писали по-арабски. Среди самих арабов оставалась группа христиан (арабом-христианином был, например, виднейший панегирист Омейядов – аль-Ахталь).
В создании и развитии арабской культуры принимали участие не только арабы, но и сирийцы, копты, иранцы и таджики, греки, евреи, испанцы – подданные Халифата.
Арабский язык долго удерживался на Востоке в качестве языка науки и философии, выступая в той роли, которую на Западе играла латынь. Запад использовал, таким образом, в качестве культурного койнэ язык поверженной древней цивилизации, а Восток – язык народа,
только что вышедшего на широкую историческую арену.
Более длительное и широкое использование арабского языка в науке, чем в литературе, привело к тому, что, например, термин «арабская философия» часто применяется по отношению к более обширному географическому ареалу, чем «арабская литература». Это не совсем правомерно, так как есть возможность говорить отдельно о философии иранцев и таджиков, евреев и даже выделить философскую школу в арабской Испании. Но в то же время следует отметить отчетливое единство и тесную связь между местными явлениями арабоязычной философии.
Все вышеприведенные оговорки необходимо учитывать для правильного понимания вклада средневековых арабов и тех, кто вошел в их культурную орбиту, в литературу обширнейшего ареала. В этом обширнейшем ареале в VIII—XII вв. происходил исторический процесс, в результате которого были смяты границы старых культурных регионов (сирийско-коптско-еврейский, ирано-таджикский и т. д. и т. п.) и развернулось активное их взаимодействие под арабской гегемонией. Традиции, восходящие к поздней античности, были либо оборваны, либо коренным образом переработаны, уступая напору языка, религии и героической племенной поэзии арабов. В результате этого окончательно завершился переход от античности к «чистому» Средневековью на Ближнем и Среднем Востоке.
Вместе с тем, вопреки мусульманскому фанатизму, расцвет светской средневековой культуры начался здесь раньше, чем на Западе, а арабы, иранцы раньше своих западных собратьев сумели оценить и обогатить некоторые элементы древневосточного и античного (эллинистического) культурного наследия и даже передать их Западу. В литературе арабов и особенно иранцев в X—XII вв. были весьма ощутимы черты свободомыслия и гуманизма. Этими чертами указанная литература в известной мере предвосхитила западноевропейский Ренессанс.
На первых порах мусульманские фанатики противились даже развитию богословской схоластики в исламе (калама). Но схоластика развивалась начиная с VIII в., и в среде ученых богословов оказалось немало таких (мутазилиты), которые, будучи противниками греческой философии, становились на свой лад «свободомыслящими». Они постулировали свободу воли человека и элемент необходимости в деятельности божества, которого они себе при этом представляли как достаточно отвлеченное творческое начало, лишенное всякой наивной антропоморфности. Попытка примирения мусульманской ортодоксии и рационализма в учении аль-Ашари (X в.), сделавшего большой крен в сторону индетерминизма и окказионализма, была признана официальной догмой ислама.
Следующий шаг был сделан так называемыми «чистыми братьями» (Басрийская школа X в., не исключена их связь с исламистами), стремившимися к сочетанию мусульманской ученой схоластики с мистическим неоплатонизмом, неопифагоризмом и некоторыми чисто формальными элементами учения Аристотеля. В X—XII вв. выросла мощная школа философов-перипатетиков. Обратившись к глубокому изучению Аристотеля, они, правда, сохраняли элементы неоплатонизма, признавали птолемеевскую космогонию, вплетали в свои теории и различные «восточные» традиции. Но зато в учении Аристотеля они выделяли и развивали прежде всего его строгую логику и натурфилософскую проблематику. Реальные успехи математики, естествознания, медицины, сочетавшиеся, правда, с увлечением астрологией и алхимией, способствовали тому уважению к опытному знанию и человеческому разуму, которое свойственно некоторым философам средневекового Ближнего Востока. В отличие от западных схоластов, считавших философию служанкой богословия, здесь преобладала концепция их равноправия (теория «двоякой истины») и законности их несовпадения, отчасти из-за недоступности философии для толпы. К арабской философской школе принадлежат арабы аль Кинди, Ибн Баджжа (Авемпас), Ибн Туфейль (Абубацер), Башшар ибн Рушд (Аверроэс), тюрки, таджики и иранцы аль Фараби и Ибн Сина (Авиценна), Омар Хайям (ученый, философ и поэт), евреи бен Габироль (Авицеброн) и Маймонид. Крупнейшими являются Ибн Сина и Ибн Рушд. Ибн Сина считал, что мир, возникая путем эманации из божества, по своей сущности материален и вечен. Загробную жизнь он признавал только в чисто духовном смысле. В понимании божества у него были элементы пантеизма. Вселенную он представлял себе как иерархическую цепь, начиная с царства минералов и кончая человеком. Теория универсалий Ибн Сины впоследствии была принята европейской схоластикой. Ибн Рушд высмеивал все определяющую божественную волю мутакаллимов и признавал строгую необходимость и закономерность в природе, вечность материи и формы и известную ограниченность роли творца (его функция – проявление возможности, он – идеальная конечная причина); он противопоставлял развитие из первичной материи творению из ничего. Придерживаясь учения о едином, всеобщем человеческом интеллекте, Ибн Рушд не признавал личного бессмертия и мифов о воздаянии в загробной жизни, воскресения и т. д.
Арабские философы способствовали возрождению интереса к античной философии в Западной Европе и оказались передаточным звеном между античной философией и европейским аристотелизмом. Первые переводы арабских авторов на латынь были сделаны в XII в., а с XIII в. арабские философы приобрели огромную популярность в Западной Европе, особенно Ибн Рушд. Вдохновителем западноевропейских аверроистов был Сигер Брабантский (конец XIII в.), боровшийся против восторжествовавшего в католической схоластике томизма. Аверроисты были сторонниками светского знания, своеобразной фрондой против католической ортодоксии.
Но гуманистами европейского Ренессанса их аверроистические предшественники воспринимались как обычные схоласты, и Аристотель и перипатетики стали к тому времени символом средневековой схоластики.
Арабская философия и научная проза, как это вообще характерно для средневековой культуры, не были лишены художественного элемента, определенного стилистического мастерства.
Но в сфере чисто художественной гегемония, несомненно, принадлежала поэзии, притом поэзии лирической. Вклад арабов в развитие лирики в Передней, Средней и отчасти Южной Азии очень велик. Основу этого вклада составляли арабские племенные традиции, восходящие к доисламской эпохе. Речь идет о знаменитых касыдах, распространявшихся до X в. устно и содержащих в синкретически неразвернутом виде элементы панегирика, поучения, песен – хулительной, застольной, любовной и т. д., в целом окрашенных в героические тона. Касыды исключительно своеобразны, но некоторые их черты – преобладание славословия и хуления (которым, видимо, еще приписывалась магическая сила), сочетание бережно хранимой основы с довольно изощренной и притом ритуализированной формой, отчетливого авторства со строгим соблюдением традиционной поэтики, метафоричности с лапидарностью – роднят арабскую племенную поэзию с архаической лирикой древнекельтских скальдов. Скальдическая и бардическая лирика, однако, пришли в упадок с введением христианства и развитием феодальных отношений, а арабская, наоборот, вместе с исламом и теократическим феодализмом халифов получила широкое распространение и толчок к дальнейшему развитию.
При дворах халифов получили, оторвавшись от племенных корней, новое применение панегирики и сатиры, возник стойкий на Востоке институт придворных панегиристов. В это же время в самой Аравии расцвела любовная лирика (газель), в том числе так называемая узритская с ее культом платонической любви к даме, с окружающими ее легендами о влюбленных поэтах, их несчастной судьбе. Замечательно, что некоторые особенности этой лирики, включая указанные легенды, напоминают поэзию провансальских трубадуров. Мекканского поэта Омара, у которого любовная тема сочеталась с эпикурейскими мотивами, академик И. Ю. Крачковский называет «миннезангом до миннезанга». Областью непосредственного взаимодействия и взаимовлияния арабских и западноевропейских традиций стал Кордовский халифат.
Дальнейшее развитие арабской лирики в значительной мере определялось борьбой бедуинской традиции, ориентированной на доисламскую лирику как на классический образец, и движения «Обновления», представленного главным образом пишущими по-арабски иранцами. В поэзии последних (Башшар ибн Бурд, Абу Нувас и др.) оппозиция политическому господству чисто арабского элемента соединялась с поисками новых, более гибких поэтических форм (например, развитая элегия, застольная поэзия, «охотничьи» касыды и т. п.), расширением тематики и т. п. Поэзия «Обновления» – это звено в развитии не только арабской, но и персидской лирики. Вообще влияние арабской лирики на персидскую было велико, от арабов, в частности, идет квантитативная метрика (араб. – аруд, перс. – аруз), правда, принявшая в персидской поэзии специфические формы. Нельзя отрицать влияние арабских касыд, арабской панегирической поэзии и т. п., но любовную лирику иранцев и таджиков никак нельзя сводить к лирическому зачину (насиб) касыды. Здесь была и своя традиция любовной поэзии, так что не исключалось и обратное влияние (возможно, на любовно-эпикурейскую поэзию в Хиджазе).








