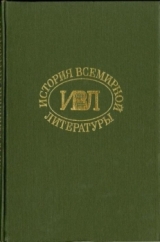
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 88 страниц)
Крупнейшие из гунки – это записанные в XIII в. «Хогэн моногатари» («Сказание о годах Хогэн»), «Хэйдзи моногатари» («Сказание о годах Хэйдзи»), повествующие об определенных исторических моментах жизни Японии (годы Хогэн – 1156—1158, годы Хэйдзи – 1159—1160), а также «Хэйке моногатари» («Сказание о доме Тайра»), «Гэмпэй сэйсуйки» («Записи о расцвете и упадке Минамото и Тайра»). Позднее, в начале следующего столетия, появилось еще одно произведение типа гунки – «Тайхэйки» («Записи о Великом мире»).
Материалом сказаний, основой их сюжета стали исторические события – эпизоды борьбы двух сильнейших домов Минамото и Тайра.
Главное внимание авторов сказаний направлено на изображение судьбы Тайра, и прежде всего судьбы военачальника Киёмори, стоявшего во главе рода Тайра в период их наибольшего расцвета и славы. Род Тайра, хотя и происходил от одной из ветвей императорского дома, долгое время не был близок ко двору. Однако Киёмори сыграл главную роль в подавлении первых же выступлений против двора, в которых участвовали и Минамото. Военная удача привела его к власти и, по образному выражению автора «Хэйке моногатари», он «зажал в своей ладони Поднебесную четырех морей» (т. е. Японию).
Эти мятежи и возвышение Тайра описаны в двух первых сказаниях – «Хогэн моногатари» и «Хэйдзи моногатари». И в самом крупном из сказаний, «Хэйке моногатари», из составляющих его двенадцати (в других вариантах – тринадцати) свитков шесть посвящено рассказу о жизни и смерти Киёмори.
Киёмори занимает пост канцлера, и дом Тайра за недолгий срок превращается в такую силу, перед которой склоняют головы другие феодалы и сам император. Проходит время, и Киёмори, обойдя законного наследника, возводит на престол своего малолетнего внука. Неудивительно, что непомерно растут упоение властью, гордыня возвысившегося рода. «Человек ничего не стоит, если не принадлежит к дому Тайра» – эти слова, слетевшие с уст одного из Тайра, стали ходячей поговоркой в те времена.
Автор «Хэйке моногатари» рисует гигантскую фигуру Киёмори с его неудержимыми страстями и неописуемой храбростью, о которой в воинской массе ходили легенды. Киёмори – типичное порождение своего времени, политический и военный деятель современного ему мира. Он – олицетворенная воля к власти, человек необузданный в желаниях, надменный даже в отношениях с приближенными, неумолимо жестокий с врагами рода, с Минамото. В ослеплении властью он замахивается на религиозные святыни: предает огню храм Миидэра в старинной столице Нара, приказывает разрушить огромную статую Будды, драгоценное наследие отошедшей эпохи.

«Хэйке моногатари» («Повесть о доме Тайра»)
Фрагмент свитка XIII в. Токио, Национальный музей
В 1181 г. Киёмори умирает, и тотчас же начинает идти под уклон судьба гордых Тайра. Они вынуждены покинуть столицу Киото, затем терпят поражение от дружин Минамото в битве при Ити-но-тани, а год спустя, в 1185 г., последние Тайра вместе с малолетним императором находят свою гибель в водах бухты Дан-но-ура, в Симоносекском проливе.
«Гордые – недолговечны:
они подобны сновидению весенней ночью.
Могучие – в конце концов погибнут:
они подобны лишь пылинке пред ликом ветра» —
(Перевод Н. И. Конрада)
так вещает колокол в обители Гион. Этими словами, звучащими торжественно и величаво, начинается «Хэйке моногатари». Гордые – это Тайра, и век их оказался недолгим, могучие – это Тайра, и они погибли.
Самурайские усобицы не прекратились с приходом к власти дома Минамото, на смену ему приходят властители из других домов, и так продолжается вплоть до XVI столетия, когда сёгун Ода Нобунага предпринял первые шаги к объединению страны.
При знакомстве со сказаниями возникает ряд вопросов, нелегко поддающихся разрешению. К какому жанру следует отнести эти произведения, кто их авторы и какую позицию они занимают по отношению к изображаемым событиям и людям, их участникам и героям? Сказаниям свойственны многие черты, характерные для эпоса.
Главнейшая из них – масштабность изображаемых событий. Борьба Тайра и Минамото не была усобицей местного значения – она всколыхнула всю Японию. Самураи вставали под знамена того или другого из борющихся князей, образуя конные дружины, крестьяне сгонялись в пешие отряды, их хижины сгорали в огне пожаров, засаженные поля вытаптывались копытами самурайских коней. На протяжении трех десятилетий борьба двух могущественных домов определяла жизнь страны. Это были феодальные усобицы, близкие тем, которые раздирали общество и в Западной Европе и отразились там в ряде эпических циклов (например, во французских жестах цикла Гильома Оранжского).
188
Для стилистики сказаний типично обилие устойчивых поэтических формул. В описаниях боевых схваток ее характеризуют свойственные эпосу приподнятость и гиперболизм, динамика, передающая напряженность и быстроту действия. В изображении авторов сказаний сила и ловкость воинов превосходят все возможное для простых смертных. Воин способен орудовать глыбой камня, которую «и сотне человек трудно было бы сдвинуть с места», он «врезается в самую гущу пятисот конных воинов и гонит их с запада на восток и с севера на юг», ему удается неожиданным натиском «разметать врагов и уложить их крестом вокруг себя» и т. п. Гиперболически изображается могущество Киёмори. Так, застигнутый сумерками на переправе, он приказывает солнцу остановиться, и солнце, уже ушедшее за горизонт, снова появляется на небе. Киёмори велик и страшен и в самый час своей смерти: предавший огню религиозные святыни, он словно сгорает заживо, испепеленный внутренним огнем. Наряду с этим описания личных переживаний героев сказаний отличаются глубоким лиризмом, а строки, содержащие философские раздумья авторов, образуют ритмически организованные периоды, читающиеся, как стихи.
Язык сказаний насыщен китаизмами, лексика и обороты, характерные для речи придворной аристократии, перемежаются с речью простых дружинников, и все это вместе образует оригинальную стилистическую ткань, присущую в японской литературе только гунки. Н. И. Конрад полагает, что стиль гунки во многом связан с тем, что многочисленные сказания, вошедшие в их число, бытовали в устной традиции. Монахи-слепцы, бродившие по дорогам страны, сказывали их, аккомпанируя себе на струнном инструменте бива. Существование устной традиции, как и в западноевропейском эпосе, объясняет и тот факт, что, например, «Хэйке моногатари» известно более чем в ста вариантах.
Есть основания для того, чтобы рассматривать сказания (гунки) как эпические памятники Средневековья. Но наряду с приметами, восходящими к устному сказу, в сказаниях явственно проступают черты, которые сближают их с хрониками, историческими записями, т. е. с памятниками общекультурного значения, не относящимися к собственно художественной литературе. Это длинные списки титулов и званий действующих лиц, отступления, в которых рассказывается о строительстве того или иного храма, выдержки из китайских исторических хроник. Они соседствуют со страницами, обработанными с применением всех средств художественной стилистики и образности. Эту особенность сказаний можно, в свою очередь, объяснить, учитывая культурную обстановку того времени, когда они создавались как письменные произведения. До их появления в Японии существовали исторические хроники, а также слегка беллетризованные повествования, рассказывавшие о годах правления, о славе и могуществе регентов из дома Фудзивара, стоявшего у власти в период раннефеодальной монархии. «Беллетристика» же этого времени повествовала о частной жизни людей.
Новая эпоха, характеризующаяся острой политической борьбой, вовлекла в исторические события огромные массы людей, сделала их участниками и деятелями этих событий. Сюжетом художественных произведений становится сама историческая борьба, их героями – исторические деятели. И в ряде случаев авторы как бы не решаются оторваться от исторической документации, и это заставляет их подкреплять изображение событий вставками документального характера. Подчас и сами события излагаются хроникально. Так, еще тяготея к исторической хронике, рождается художественная литература об исторических событиях и исторических деятелях. К ней принадлежат гунки. Не приходится удивляться, что они писались прозой, и лишь кое-где в них встречаются стихотворные вставки, подаваемые как цитаты. Эта черта сказаний позволяет сопоставить их с исландскими сагами и ирландскими эпическими сказаниями, но японский эпос отражает иную, более развитую форму феодального строя.
В тесной связи с вопросом о жанре сказаний находится и вопрос об их авторах. История японской литературы не оставила последующим поколениям почти ничего, что могло бы послужить материалом для решения этого вопроса. Единственное прямое указание – оно относится к «Хэйке моногатари» – содержится в известном произведении XIV в. «Записки от скуки» («Цурэдзурэгуса»). Автор «Записок...» – поэт-отшельник Кэнко упоминает о том, что некий Юкинага, происходивший из аристократического рода и также нашедший убежище в монастыре, «сочинил» «Хэйке моногатари» и научил слепца-сказителя по имени Сёбуцу рассказывать его народу.
В целом история сложения сказаний может быть представлена следующим образом: отдельные эпизоды их рождались в устном виде в среде воинов-дружинников, большей частью еще не приобщившихся к письменной культуре. Затем они разносились по стране бродячими монахами-слепцами, постепенно складывались в циклы и в таком виде приходили в монастыри. Монастыри средневековой Японии, так же как и в средневековой Европе, были центрами культуры, здесь шла оживленная и кипучая жизнь.
Сюда сходились люди из всех уголков страны – крестьяне, бежавшие от поборов и притеснений, аристократы-изгнанники, не сумевшие сделать карьеру при дворе, и младшие сыновья родовитых фамилий, не получившие наследства, наконец, странствующие бива-бодзу – слепые сказители, приносившие в монастыри богатый запас сведений о бурных событиях междоусобных войн.
Ученые монахи составляли здесь летописи событий, переписывали старинные произведения – известно, например, что именно в монастыре в XIV в. был изготовлен древнейший из дошедших до нас списков первого литературного памятника Японии – «Кодзики». Так могли быть обработаны и записаны в монастыре и гунки. И хотя истоки их лежат в устном сказе, в них явственно ощущается позиция авторов, их взгляд на изображаемые события.
Авторы сказаний неуклонно и последовательно проводят через все повествование две основные идеи, строят изложение событий таким образом, чтобы эти идеи выступили как непреложные истины, как выражение закона. Одна из них – мысль о бренности, общей непрочности «всех человеческих деяний». «Хэйке моногатари» – эпопея, повествующая о судьбе Тайра и их гибели, излагающая события с точки зрения оправдания ими общего закона – «живущее погибнет». Целью безымянного автора является не столько повествование о возвышении Тайра, сколько рассказ об их падении. Отсюда и основной мотив, звучащий здесь: все суета сует, жизнь и мирская слава бренны.
Но, наряду с идеей бренности, непрочности, через все сказания проходит и другая, не менее активно выдвигаемая авторами мысль о гибельности стремления к власти тех, кто не имеет на нее законного права, пытается узурпировать ее. Так, приступая к изложению событий, автор «Хогэн моногатари» говорит: «Если правитель, вознесенный выше других, совершает ошибку, в стране происходят беспорядки, народ страдает. Если вассалы его, находясь под его управлением, изменяют своим правилам, они теряют свой род и свою семью и сами погибают... Им не избежать возмездия».
По поводу многочисленных несправедливых поступков Киёмори, его произвола по отношению к императору, его старший сын Сигэмори, человек, приверженный справедливости и гуманности, говорит отцу: «Когда судьба человека начинает идти под уклон, он непременно замышляет дурные дела». Страшная смерть Киёмори и последовавшее затем падение Тайра подтверждают эти слова.
Идея верности «законной» – императорской – власти пронизывает и последнее крупное произведение типа гунки, «Тайхэйки». Здесь носителем этой идеи выступает центральный герой повествования, преданный императору князь Кусуноки Масасигэ, и рядом с ним – верный вассал императора Нитта Есисада, жена Масасигэ, его юный сын Масацура и другие персонажи. Отрицательными красками, как изменник и предатель, обрисован выступивший против трона Асикага Такаудзи.
Известно, что каждая эпоха вырабатывает свой идеал. Таким идеалом для феодализма является могущественный, справедливый сюзерен и верный вассал. Однако этот идеал верности сплошь и рядом нарушался в реальных отношениях японских феодалов. Вся атмосфера борьбы за власть между ними была насыщена коварством и предательствами. Жертвой коварства и зависти со стороны Ёритомо пал его младший брат, храбрый и благородный Есицунэ, который был вынужден покончить с собой. Его отрубленную голову один из Фудзивара послал Ёритомо в знак своей вассальной верности.
Ожесточенная борьба феодалов против законного сюзерена – императора сама являлась нарушением основного феодального завета – верности господину. И люди, вовлеченные в эту борьбу, вынужденные служить неправому делу, оказывались перед лицом неразрешимых, зачастую трагических противоречий. Это хорошо видели авторы сказаний. Они видели и то, что пагубные раздоры истощали страну, влекли за собой бедствия для народа. И в «Хэйке моногатари», сквозь всю присущую этой эпопее героику, явственно слышится сурово-печальный голос автора, глубоко переживающего трагедию целого рода, обреченного на бесславную гибель. Гибнут преданные, храбрые вассалы, воины, исполненные отваги и благородства. Печальна судьба любящих, верных жен – в хаосе и беспорядках, охвативших страну, они разлучаются с мужьями, дети теряют родителей или оказываются вместе с ними в ссылке и заточении. «Давнее прошлое, годы Хогэн – это цветы, расцветающие весной, – говорится в «Хэйке моногатари» о годах подъема Тайра, – а нынешнее время осенними, красными листьями клена опадает».
Тысячи людей, составляющих основные силы феодального сословия, попадают в безвыходное положение, – такова мысль автора «Хэйке моногатари».
Трагизм исторических событий, происходивших в стране, нашел свое обобщенное выражение в повествовательной литературе – гунках. Позже, когда в Японии окреп и развился театр, наиболее яркие эпизоды из гунки обрели отдельную, самостоятельную жизнь в пьесах средневекового театра Но.
РАЗДЕЛ III.
-=ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ [II—XII ВВ.]=-
ВВЕДЕНИЕ(Тенишев Э.Р.)
Во II—XII вв. в Центральной Азии обитали племена и народы, стоявшие на различных ступенях социально-культурного и общественного развития. Среди них были народы относительно высокой городской и земледельческой культуры (уйгуры, тибетцы), но основную массу составляли кочевые тюркоязычные и монголоязычные племена. Бесконечные войны и столкновения приводили к частым сменам власти, к падению одних и возвышению других государств и племенных союзов. Так, в VI в. был создан на огромной территории Центральной, Средней Азии и Южной Сибири мощный Тюркский каганат; до IX в. в Восточном Туркестане господствовали уйгуры. Позднее енисейские киргизы создали свою державу. В результате многочисленных войн в IX в. возвысились монголоязычные кидане и тибетоязычные тангуты.
Становление культуры наиболее крупных племен и народов Центральной Азии происходило в сложных социально-политических условиях, во взаимодействии и взаимовлиянии различных культур. Помимо Китая, оказавшего влияние на развитие культуры Великой Степи, на Западе существовала мощная держава Кушан, отношения с которой во II—IV вв. сыграли позитивную роль в культурном обмене. В самом деле, Кушан, в состав которого входили такие древнейшие страны, как Северная Индия, Согдиана, Бактрия, Парфия, Тохаристан и другие, имел свою цивилизацию.
Кушанская держава втянула различные племена и народы в общественное и религиозно-культурное общение. При этом в связях активную роль играл Великий шелковый (караванный) путь, по которому шла интенсивная торговля между Западом и Востоком. Купцы часто были посредниками культурного обмена в самых отдаленных друг от друга странах.
В период наибольшей активности кушанов зороастризм бактрийцев, тохаров, шаманизм и другие культуры племен и народов Средней и Центральной Азии перестали отвечать целям правящей верхушки. Во II в. покровительство правителя Канишки буддизму в Тохаристане способствовало его распространению. Но этот процесс был весьма длительным у разных народов. Так, среди тибетцев буддизм стал распространяться лишь в VII в.
Буддизм содействовал влиянию индийской и отчасти китайской культуры в Центральной Азии. Тибетцы и уйгуры в большом количестве переводили индийские буддийские сочинения с санскрита на свои языки, часто вводя в них локальные мифы и элементы народного творчества. Так, например, характеристика общего для многих этнических групп (тюрков, монголов, тибетцев) верховного божества Неба переносится на Будду, «не имеющего ни начала, ни конца». Буддийские тексты религиозного содержания хранились в монастырях. И хотя их язык был официально-клерикальным, они представляют интерес для изучения истории литературной традиции.
Иранское влияние на цивилизацию Центральной Азии шло главным образом через манихейство, которое проникло в Восточный Туркестан и Китай. Еще до широкого распространения буддизма вдоль Великого караванного пути сторонники Мани, подвергшиеся у себя на родине, в Иране, гонениям, нашли приют в Центральной Азии. Особенно большие следы манихейство оставило в культуре уйгуров, которые были одним из самых развитых народов Центральной Азии в Средние века, имели высокую городскую культуру, письменную литературу на уйгурском и других алфавитах. Сохранившийся в переводе на уйгурский язык манихейский религиозный памятник «Хуастуанифт» (покаянная молитва манихейцев) написан ясным, хорошим языком и является, очевидно, самым ранним литературным произведением древних тюрков. Более многочисленны буддийские памятники на уйгурском языке. До нас дошли и памятники на уйгурском языке христианского содержания (христианство несторианского толка проникло из Ирана в Восточную Азию, в среду тюркоязычных народов, в VI в.).
Многочисленные буддийские памятники на уйгурском языке, переведенные главным образом с китайского, тибетского, санскрита и тохарского языков, положили начало формированию философско-дидактического стиля уйгурского литературного языка. Позднее уйгурская литература оказала воздействие на монгольскую. Принято считать, что известная тюркская поэма XI в. «Кутадгу билиг» явилась прототипом монгольского варианта этого памятника.
191
В предшествующий уйгурам период литература развивалась на другом литературном тюркском языке, руническая письменность которого восходит, несомненно, к устному народному творчеству. Об этом свидетельствуют фольклорные мотивы и языковые средства обширного круга орхоно-енисейских (рунических) надписей: различного рода поэтические, ораторские, правовые, обиходные формулы и поэтически окрашенная лексика.
Эпический период старой монгольской литературы в наиболее яркой художественной форме синтезировался в «Сокровенном сказании» (1240), текст которого включает в себя многочисленные «устные письма», пословицы, поговорки, «словесные родословия», отрывки исторических песен, т. е. местный фольклор.
В дописьменный период в Тибете можно отметить широкое развитие народного творчества, о чем, в частности, свидетельствуют дошедшие до нас записи мифов, например, в тибетских рукописях из Дуньхуана и в переделанном виде в буддийских сочинениях.
Ранние тибетские переводы буддийских текстов с санскрита, китайского, хотанско-сакского языков относятся к первой половине VII в. Создается указатель к первому варианту тибетского буддийского канона, будущему Канджуру. Представлениями буддизма насыщены и религиозная поэзия Миларэпы, и его жизнеописание (намтар), принадлежащее его ученику Рэчунгу, а также дидактические произведения Сакьяпандиты и Потопы и многочисленные апокрифы-жития тибетских правителей и проповедников. Очевидно, в конце рассматриваемого периода начинает складываться знаменитый героический эпос о Кэсаре (Гэсэре), ставший впоследствии общим культурным наследием тибетцев и монгольских народов Центральной Азии (Гэсэриада).
Сохранилось довольно мало из сокровищницы литератур других этнических групп и народов Центральной Азии, в частности киданей, тангутов и тохаров. Но и это немногое дает вполне ясное представление об их характере и взаимосвязях. После введения в начале X в. «большого» и «малого» письма, до сих пор не расшифрованного, у киданей возникла своя литература. На киданьский язык были переведены китайские поэтические и исторические сочинения; были составлены словари. Оригинальная киданьская литература представлена небольшим количеством эпитафийных надписей на стелах в память киданьских правителей, а также краткими текстами на бронзовом зеркале, кирпичах, фресках, сосудах и в китайских книгах.
Появление в XI в. у тангутов своей письменности, основанной на китайской и киданьской иероглифике, ознаменовало зарождение и своей литературы – переводной и оригинальной. Многое переводилось из китайских хроник и исторических сочинений: фрагменты из «Чжэнь-гуань яо вэнь» («Важнейшие записи годов Чжэнь-гуань» (627—649)) – собрания различных исторических эпизодов из истории 12 царств эпохи «Весен и осеней» («Чуньцю»). Тангуты выпускали печатные книги (ксилографы) буддийского и светского содержания. Судя по материалам тангутской библиотеки из Хара-Хото, открытой П. К. Козловым, на тангутский язык переводилось много сочинений китайской классической литературы. Получили известность такие переводчики, как Вах Дао-чук и др. Библиотека Хара-Хото содержит тангутские переводы фрагментов «Луньюя», «Сяоцзина» («Книга о сыновьем долге»), «Мэн-цзы», сборник переводов из различных китайских классических произведений: «Ле-цзы», «Цзочжуань» («Летопись Цзо»), «Чжоу-шу» («История династии Чжоу»), «Шицзин» и др. В конце XII в. тангуты издали «Лес категорий» – свод случаев из жизни знаменитых людей Древнего Китая.
Наряду с переводами, у тангутов развивалась собственная литература. О высоком развитии ряда поэтических и прозаических жанров свидетельствуют сборники тангутской поэзии, содержащие придворные оды, и «Собрание светлых слов, принадлежащих трем поколениям» – преимущественно религиозно-нравоучительного содержания. В «Собрании...» представлены стихи, прозаические повествования, критические рассуждения, дифирамбы, официальные донесения. Многие стихи из этого сборника полны чувства глубокой любви к своему отечеству и культуре.
Памятником самобытной тангутской литературы является также сборник изречений – пословиц и поговорок, составленный во второй половине XII в., а также ряд сочинений морального содержания – «Сборник вдохновенной мудрости», «Сборник доблестного поведения», «Вновь собранные записки о сыновней любви и почтительности» и ряд других. Примечательно сочинение энциклопедического характера – «Море значений, установленных святыми».
К эпохе Раннего Средневековья относится расцвет культуры тохаров – по языку индоевропейцев. Язык тохаров принадлежит к группе centum и распадается на два диалекта – А и В. «Тохарский А» был мертвым языком буддийской проповеди у тюркоязычного населения западной части Центральной Азии, а «тохарский В» (или кучанский) – живым языком общения в монастырях.
192
Большая часть текстов – дословный перевод санскритских буддийских произведений. Из оригинальных тохарских текстов, написанных на диалекте В, известны монастырские счета, деловые письмена, санскритско-тохарский словарь, тексты медицинского и магического содержания, а также образцы любовной лирики.
Развитие различных литератур народов Центральной Азии происходило в сходных исторических условиях, с одной стороны, а в довольно тесном взаимодействии – с другой. Этим следует объяснить нередкие совпадения творческих интересов у этнически разных народов региона.
*ГЛАВА 1.*
ТИБЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(Богословский В.А.)
Важное место в дописьменной тибетской литературе следует отвести мифологическому творчеству.
Пересказы, фрагменты или упоминания о многочисленных мифах, созданных в древнейший период дописьменной литературы, сохранились в рукописях из Дуньхуана, в произведениях фольклора, а также, в соответствующей переделке, в буддийских сочинениях.
Довольно многочисленны мифы о создании Вселенной, которые хранят ощутимые следы влияния соседних народов. По одним из них, Вселенная возникает из «мирового яйца». Согласно другим мифам, землю подняла черепаха со дна безбрежного моря. По третьим – космическое яйцо снесла птица или черепаха и т. д. Однако, согласно всем мифам, создателем Вселенной выступает Небо, персонифицированное в образе верховного божества, небесного владыки.
Во всех мифах говорится о божественном, сверхъестественном происхождении человека. Верховное божество породило космическое яйцо, которое обладало способностью двигаться, летать, говорить. Яйцо через пять месяцев разрушилось, и из него вышел человек. По другим мифам, живые существа произошли от божественной черепахи.
С мифами о происхождении человека тесно связаны мифы о «золотом веке». Первые люди жили на небе, они ничем не отличались от богов. Тела их были безупречны и не различались по полу. Они могли летать по воздуху и излучали свет. Но вот люди спустились на землю, и тела их перестали светиться (тогда появились светила), люди должны были сами добывать себе пищу.
К сожалению, о многих мифах мы можем судить лишь по упоминаниям, в лучшем случае – по краткому изложению. Тем большую ценность приобретают дошедшие до нас записи мифов в дуньхуанских рукописях, в том числе миф о происхождении коней.
Художественное своеобразие мифа о конях сближает его с более поздними произведениями устного народного творчества, в частности с эпосом о Кэсаре (Гэсэре). Текст представляет собой органическое сочетание прозы и поэзии. Исключительно широко применяются параллелизмы, повторы, часто употребляются синонимы. Таково, например, описание гибели коня – старшего из братьев:
Мясо птицы едят – рвут, рвут,
Кровь земля пьет – впитывает, впитывает,
Кости медведь грызет – разгрызает, разгрызает,
Гриву ветер рвет – треплет, треплет – старший брат... тут же умер.
Узнав о смерти старшего брата, младший говорит:
Сердце ненавистного должно быть разорвано,
Сердце быка-яка Карво должно быть разорвано;
Награда за любовь должна быть заслужена,
Награда старшего брата... должна быть заслужена.
Тибетские мифы оказали существенное влияние на позднейшую литературу. Элементы мифов широко использовались в фольклоре, прежде всего в эпосе. Кэсар, согласно некоторым версиям, был сыном верховного божества и родился чудесным образом на земле для освобождения страны Линг от власти демонов.
Многие мифы вошли в буддийскую литературу, подвергшись соответствующей обработке. Место верховного божества – создателя Вселенной – занимает Будда, «не имеющий ни начала, ни конца», небесные сферы заселяются представителями буддийского пантеона, небесная гора, связывающая небо и землю, ассоциируется с горой Сумеру.
Во всех позднейших исторических сочинениях сохранился миф о происхождении царской власти в Тибете. Первоначально, согласно Дуньхуанской хронике, первый царь Ньяти Цзанпо (мифический предок тибетских царей) был потомком владыки небес, спустившимся на землю. Его преемники, так называемые «семь небесных Ти», также не были людьми. Они спускались на землю и возвращались обратно на небо по особой божественной нити. Впоследствии Ньяти Цзанпо превратился в потомка одной из индийских царских династий. Однако и в новом варианте сохранились и бессмертие первых царей, и божественная нить, связывавшая их с небом.
Широкое распространение в Тибете получил миф о том, как была разорвана божественная нить и цари превратились в смертных людей. В нем рассказывается об убийстве царя Трикума, последнего из династии «семи небесных Ти», и захвате его трона. Однако у вдовы царя чудесным образом рождается сын, который мстит узурпатору и возвращает трон одному из сыновей Трикума, а сам становится его советником. Этому советнику приписывается ряд изобретений – выжигание древесного угля и выплавка металлов, изобретение плуга и ярма, проведение оросительных каналов, возведение мостов.
Уже в более позднее время создаются буддийские по характеру мифы. Таков, например, один из мифов о происхождении тибетцев, легенды о построении царем Сронцзан Гампо храма в Лхасе (Джокханг), о том, как появилось озеро Кукунор (Цинхай). Элементы мифов впоследствии широко использовались и в оригинальных произведениях буддийских авторов, в том числе в житиях святых – проповедников буддизма в Тибете (например, в житии Падмасамбхавы).
После создания тибетской письменности (в первой половине VII в.) начинается новый этап истории литературы. Хронологически (VII—IX вв.) он совпадает со временем первого в истории Тибета единого государства, которое сложилось в VII в. при царе Сронцзан Гампо.
Тибетская литература создавалась прежде всего на основе переработки фольклора. Записью устного произведения является упоминавшийся миф о конях. Сохранилась рукопись и другого жанра – так называемые «Речения Матери Сумпа». Это небольшой сборник афоризмов (около 50). В них высоко оцениваются ум, честность, верность, трудолюбие, смелость и осуждаются глупость, стяжательство, вероломство, лень и т. д. Широко использованы сравнения, подчас неожиданные и своеобразные, – «Работа, сделанная любящим труд, подобна молнии зимой». Большинство афоризмов состоит из пары сравнений. Например: «Сын умнее отца – это огонь, выпущенный в степь; сын глупее отца – киноварь, разбавленная водой».
Традиция подобных дидактических произведений получила продолжение в известных назидательных речениях Сакья-пандиты (о них см. ниже).
В VII—IX вв. создаются хроники. Одна из них (найдена в Дуньхуане, название не сохранилось, автор неизвестен) написана в конце имперского периода (начало IX в.) в кругах, близких к царскому двору. Это сборник художественно обработанных повествований о наиболее значительных эпизодах истории Тибета, с установкой на прославление тибетской империи, которая уже начинала тогда идти к упадку. Авторов интересовали такие события, как объединение тибетских племен, разгром царем Дюсонгом могущественного рода Гар, претендовавшего на царскую власть, правление Трисрон Дэцана – вершина могущества тибетских царей и т. п. В то же время в хронике не освещается правление «слабых» царей: авторы стремились создать обобщенный образ сильного правителя, сокрушающего внешних и внутренних врагов. В главе XIII хроники, например, смешиваются победы трех наиболее известных и сильных правителей – Намри, Сронцзан Гампо, Трисрон Дэцана, и все они приписываются одному Сронцзан Гампо.








