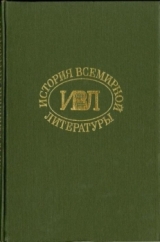
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 88 страниц)
От направления, возглавляемого Бо Цзюй-и, нельзя оторвать и других танских поэтов, не столь близко к нему стоявших, поэзия которых была проникнута возмущением социальной несправедливостью. Мэн Цзяо (751—814), старший современник Бо Цзюй-и, поэт необычайно своеобразной индивидуальности, пишет стихотворение «Ткачиха» – о крестьянской девушке, спрашивающей, почему ткет она белый тонкий шелк, сама же носит грубое рваное платье. Сам поэт тоже был беден, хотя и принадлежал к чиновному сословию. Только к 46 годам Мэн Цзяо удалось, наконец, выдержать экзамен на ученую степень, но до конца дней своих он оставался бедняком. Вот картина в его «Осенних думах»: приходит осень, а тяготы старости усугубляются бедностью, и в разрушенном доме нет дверей, и луна опускается прямо в постель, и среди четырех стен ветер проникает в одежду... Так пишет он о себе, выражая вместе с тем и общее настроение бедной служилой «интеллигенции». Может быть, поэтому он всю жизнь и почти во всех стихах своих мечтал о необычном, об удивительном, что несколько отдаляет его от Бо Цзюй-и и ставит рядом с Хань Юем (768—824).
Хань Юй славен «возвратом к древности» в ритмической прозе, которую он стремился обновить и приблизить к требованиям реальной жизни. Опыт Хань Юя – прозаика отразился на поэтическом его творчестве; следы прозы, как уверяют китайские знатоки (и что, вслед за ними, можем заметить и мы), видны и в его стихах. Они сложны, но сквозь нагромождение традиционных намеков проглядывается жизнь и ее тревоги. Как и другие поэты, он озабочен бедами народа. Написанное в 799 г. стихотворение «Возвращаюсь в Пэнчэн» начинается с того, что войска Поднебесной снова двинулись в поход. Когда же наступит мир? Поэт сетует на плохих советников государя и напоминает о засухе в Гуаньчжуне, о погибших от голода людях, о наводнении на Востоке страны, о потоках, уносивших трупы... Он готов разрезать собственную печень, из нее приготовить бумагу и на ней своею кровью обо всем написать государю. Здесь, так же как и у Ду Фу, – готовность поэта к самопожертвованию. Во второй части стихотворение теряет поэтическую силу. Но в целом оно показательно для атмосферы танского времени: гражданская тенденция пронизывала творчество самых разных поэтов на протяжении двух, если не более, веков. Гражданская тенденция смыкается с общим гуманистическим направлением танской поэзии, выражающимся в размышлениях о законах человеческой природы, о добре и зле в человеческих отношениях. Одно из лучших стихотворений Хань Юя – «Скалы». Помимо поэтических, живописных достоинств, оно замечательно широтою взглядов поэта. Непримиримый враг и гонитель буддизма, Хань Юй способен найти успокоение духа в чуждом ему буддийском храме... Среди нагромождения скал затерялась тропа. К вечеру добирается он до храма... Монах рассказывает о прекрасной буддийской росписи на древних стенах, стелит постель, чистит циновку, ставит еду. Посветлело небо, поэт пускается в путь. Горы краснеют, и вода голубеет от рассеянных повсюду лучей солнца... Если жизнь человеческая может быть столь радостной, то так ли уж необходимо обвивать себя путами человеческих отношений... «Ах, немногие мои друзья, – восклицает поэт, – как бы остаться здесь до самой старости и больше не возвращаться!»
О том же просил некогда Тао Юань-мин, придя к ученому, живущему на востоке: «Я хотел бы остаться пожить у тебя, государь мой, Прямо с этого дня до холодного времени года!» По-своему и в применении к своей эпохе Хань Юй повторяет с детства впитанные великие образцы. С другой стороны, очевидно отличие «Скал» от как будто похожего стихотворения Ли Бо «Прогулка во сне на горе Тяньму». В одном случае романтический пейзаж и человек, поставленный наравне с независимой, гордой стихией, что исключает самую мысль о жалком прислуживании тем слабым, кто правит в мире. В другом случае, через полстолетия после смерти Ли Бо, пейзаж успокоения, представленный с массой реалистических подробностей, которых не было в пейзажах Мэн Хао-жаня и Ван Вэя. В поэзии Хань Юя человек ищет не полного уединения, а гармонии с природой и общения с друзьями. Само время, в которое писал Хань Юй, не благоприятствовало отстранению поэзии от действительности, чему примером жизнь и творчество многих поэтов, в первую очередь его самого.
Соратником Хань Юя по «возврату к древности» в прозе был Лю Цзун-юань (773—819), прославившийся также своими стихами. Различия в воззрении на мир двух этих выдающихся поэтов не помешали им встать рядом в борьбе за очищение китайской ритмической прозы. Из проникновенной эпитафии, сочиненной Хань Юем, «Надпись на могильном камне Лю Цзы-хоу» мы узнаем о прекрасных человеческих качествах Лю Цзун-юаня, о готовности его пожертвовать собственным благополучием для друга. В этой надписи есть примечательные слова о том, что поэт сам отказался от спокойного продвижения по службе, и, прожив трудную жизнь, сумел достигнуть высот в творчестве.
И в прозе, и в стихах Лю Цзун-юань был обличителем. В стихах о крестьянах и «пейзажных» звучат сострадание и любовь к человеку. Не совсем справедливо называемые «пейзажными» стихи танских поэтов в совокупности создали пленительную картину родины и имели глубокое воздействие на души соотечественников. К ним примыкают и известные стихи о расставании и о тоске по далекому родному краю. Все вместе они составляют могучую симфонию любви к родине.
Прошло два века высокого напряжения литературы, появления одного за другим незаурядных талантов, каждый из которых внес в поэзию и свои индивидуальные особенности. Для поэтов последнего столетия танского государства пора его расцвета была историей, как историей для них был и мятеж Ань Лу-шаня, после которого наступило время распада страны, обострения противоречий между двором и местными правителями, вражды придворных групп и назревания крестьянских восстаний.
Последний большой танский поэт Ду Му (803—853) мечтает в своих стихах о восстановлении былого могущества страны и тоскует по прежним далеким временам. Но, следуя традиции обличения, Ду Му в стихах на темы китайской истории пишет о былых пороках не без того, чтобы намекнуть на нынешние. Примером могут служить, в частности, стихи о красавице Ян-гуйфэй – тема, ставшая привычной после «Вечной печали» Бо Цзюй-и. В стихах Ду Му есть внутренняя полемика с романтическим образом «Вечной печали», в них Ян-гуйфэй предстает как зло для страны.
В стихах Ду Му меньше конкретности в изображении народных бед и больше размышлений над общим состоянием страны, часто в аллегорической форме, как, например, в стихотворении «Ранние гуси».
Неумирающей остается лирическая традиция – природа и человек. Простота и непосредственность чувств, пафос активного созерцания присущи и поэзии Ду Му. Его «Прогулка в горах» пленяла сердца многих поколений читателей. Казалось бы, в стихах его отмечен случайный эпизод, а в нем – и жизнь, и поэзия, и природа, и человек в своих внутренних переживаниях и внешних обстоятельствах.
Обличение социальных пороков современности приобретает в эту более позднюю эпоху завуалированный историческим сюжетом характер не только в стихах Ду Му. Эта манера отличает и Ли Шан-иня (813—858). Причины иносказаний, способа не нового для китайской поэзии, связаны, очевидно, с невозможностью открытого вызова, со сложностью общественной обстановки, созданной утерей двором центральной власти и постоянными распрями враждующих между собою групп, в которые попадали и поэты, так или иначе примыкавшие к господствующим слоям общества. Во всяком случае, поэзия, пусть даже прикрываясь уходом в прошлое и утеряв присущую Бо Цзюй-и конкретность, волновалась вопросами жизни страны, искала (в пределах кругозора своего времени, наивно обращаясь, скажем, к несчастиям, приносимым фаворитками) истоки переживаемых народом несчастий. Когда Ли Шан-инь пишет, например, о ханьском государе Вэнь-ди, который пригласил к себе ученого поэта Цзя И, но беседовал с ним не о бедах народа, а о злых и добрых духах, то по существу речь идет не о Вэнь-ди, а о современных Ли Шан-иню правителях, проявлявших интерес к сверхъестественным силам в ущерб заботам о народе. В одном из стихотворений поэт утверждает, что умиротворение страны во власти людей, а не неба.
Ли Шан-инь прожил трудную жизнь незадачливого чиновника, метавшегося между двумя враждовавшими придворными группами. У него много стихов, в которых осмысление судеб страны смыкается с размышлениями о собственной его горестной участи. Так, в одном из стихотворений говорится о душевном беспокойстве поэта, которое перерастает в предчувствие общественных бедствий: он гонит коней, поднимается на древнюю равнину; закатное солнце беспредельно прекрасно, но оно приближает темные сумерки...
Ли Шан-инь – единственный известный нам танский поэт, писавший любовные стихи. Они для него были и мечтою о несбывшемся счастье. Тема любви заняла большое место в послетанских стихах жанра цы.
Уходил последний век танской династии. Не прекращались раздоры двора с фаньчжэнями – властителями провинций, войны фаньчжэней между собой; бесчинствовали евнухи, захватившие власть при дворе, все большие тяготы ложились на плечи крестьян, притеснялись ремесленники в городах. И все это разрешилось крестьянским восстанием, в ходе которого повстанцы на некоторое время захватили Чанъань. Танское государство приближалось к своему концу.
Поэты второй половины IX столетия во многом повторяли темы и следовали за формальными достижениями танской поэзии. Среди них были продолжатели обличительного направления, были и такие, которых тревожное время заставило от него отстраниться. Сыкун Ту (837—908) попытался во всем повторить такого идеального, с его точки зрения, поэта, как Тао Юань-мин. Он отказывался от должностей, предлагаемых ему; как любимые великим поэтом герои древности Бо-и и Шу-Ци, он обрек себя на голодную смерть, не желая жить при новой династии. В мировоззрении Сыкун Ту, что не было редкостью тогда, смешались конфуцианство и даосизм. «Оба противоречащих друг другу элемента уживаются в одной и той же личности Сыкун Ту, точно так же, как мы замечаем это и в личности Тао Цяня», – говорит В. М. Алексеев в «Китайской поэме о поэте», посвященной «Поэтическим категориям» Сыкун Ту. Правда, у Сыкун Ту даосизм начинает принимать уже религиозные формы, чего нет у Тао Юань-мина, а кроме того, танский поэт склонен и к буддизму. Стихи Сыкун Ту теряют предметность, так отличающую танскую поэзию. Они рисуют некий условный мир, отражающийся в душе поэта. Тонкий и изысканный лирик, Сыкун Ту, по существу, далек от общественных проблем. Природа, птицы, вино, цветы – вечный арсенал традиционной поэзии, которому он старался не изменять. Даже когда поэт говорит о бедствиях страны, на первом плане оказываются его собственные восприятия и чувства.
В истории китайской литературы Сыкун Ту больше всего известен как автор «Поэтических категорий» – поэмы, состоящей из 24 стихотворений о вдохновении поэта, весьма трудных для понимания. Вся поэма представляет собою мечтание о подлинном поэте. Она наполнена отвлеченными образами, дающими расплывчатые, с трудом уловимые определения задач поэзии. Этим произведением как бы завершился танский период китайской поэзии. «Поэтические категории» Сыкун Ту при всей их «темноте» синтезируют представления танской поэтики в восприятии талантливого ученого поэта, воспитанного на многовековых традициях, которые и составляли ее основу. Танская поэзия принадлежит времени, когда литература выполняла также роль философской и даже исторической науки. Развиваясь на протяжении трехсот лет существования танского государства, она была поэзией новых открытий в познании мира, в художественном его осознании, в понимании возможностей и задач человека в обществе. Огромные идейные и художественные завоевания поэтов танского времени стали источником расцвета поэзии в сунском государстве.
ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА VII—IX ВВ.
В VII и VIII вв. прозаическая литература была увлечена примером великих мастеров параллельного (т. е. «современного») стиля предшествующей эпохи. Юй Синь, Сюй Лин (507—583), Ли Цзи, Бао Чжао – вот кому подражали и кого пытались превзойти. В литературе эпигонов содержание было обесценено, вследствие чего появлялись произведения, начиненные исторической эрудицией, дословными заимствованиями, символикой и сложными фигурами.
Протест против «современного» стиля был неизбежен. Некоторые считали его практически непригодным и требовали возврата к стилю старой деловой прозы. Еще в VI в. ученый Су Чо (498—546) составил манифест в стиле «Шуцзина», но архаизированный язык не привился. Суйский император Вэнь-ди в 584 г. издал указ, запрещающий в официальной переписке использовать цветистый слог, а одного нарушителя даже казнил для острастки. При его преемнике литератор Ли Э выступал уже не только против цветистости, но и параллельного стиля в целом. Парадоксально, что свои возражения он излагал, строго соблюдая те требования, от которых призывал отказаться.
Незатронутой «современным», т. е. параллельным, стилем оставалась историческая проза. В VII в. активно составлялись истории прошлых династий, а авторы-конфуцианцы на литературу возлагали вину за упадок нравов и несчастья междоусобиц и нашествий. Вера в нераздельность литературной и государственной жизни в то время была всеобщей.
Во второй половине VII в. ведущих литераторов волновал упадок прозы. «Четверо выдающихся» – а в их числе были такие поэты, как Ван Бо и Ло Бинь-ван, – требовали, чтобы литература была идейной и гражданственной. Поэт Чэнь Цзы-ан горько восклицал: «Уже пятьсот лет как литература (вэнь) утратила свою суть!» Суть литературы он видел воплощенной в древней словесности и призывал возвратиться к ее традиции. Почему литературе следовало возвратиться именно к древней манере, сумели обосновать писатели VIII в.
Сяо Ин-ши (717—758), Ли Хуа (715—766), Дугу Цзи (725—777), его ученик Лян Су (753—793) отказались от параллельного стиля и писали в манере древних. Сяо Ин-ши и его последователь Люй Мянь требовали возродить стиль конфуцианских канонических книг как образец для литературы. Писать иначе, чем в каноне, казалось им кощунственным. Отвергая «современный» стиль, они отворачивались и от современности, что обрекало их течение на групповую замкнутость.
О том, что литература должна быть выражением Дао – учения, – говорилось в «Срединном учении» – книге, приписываемой Ван Туну (584—618). Люй Мянь четко выразил идейные побуждения сторонников «возврата к древности»: проповедь конфуцианского учения, подражание литературе древних, отрицание «современного» стиля. Но произведения авторов этого направления не снискали признания. Люй Мянь сам с горечью сознавал, что они, «хотя и знали, что писать, но не писали: писать брались, но не смогли написать». Так, не возбуждая общественного отклика, идеи «возврата к древности» (фу гу) зрели более двух столетий.
Расцвет движения связан с именами двух великих писателей – Хань Юя и Лю Цзун-юаня.
Хань Юй воспитывался в семье старшего брата Хань Хуэя (737—779), принадлежавшего к немногим последователям Дугу Цзи и Лян Су. С детских лет до конца жизни писатель оставался верен усвоенным взглядам, хотя они мешали его карьере.
Славившийся образованностью Хань Юй трижды терпел неудачу на столичных экзаменах и только в двадцать девять лет поступил на государственную службу. Дважды его ссылали: за просьбу снять подати с голодающих и за критику буддизма. Будучи придворным историком, Хань Юй написал «Правдивые записи об императоре Шунь-цзуне», которые по настоянию дворцовых всевластных евнухов пришлось трижды сокращать и переделывать. Учительствующий конфуцианец, Хань Юй ревностно собирал вокруг себя вступающую в литературу молодежь и провозгласил, что «писатель проясняет учение – Дао». Он был готов «расстричь монахов, сжечь их писания и обратить храмы в жилища». Но убеждения не перерастали в фанатизм, он умел ценить личные достоинства людей. Для него конфуцианское учение было отнюдь не ортодоксальным. Он знал всех мыслителей китайской Древности, отвергая только Лао-цзы и чужеземный буддизм. Позднее его осуждали за вольное обращение с авторитетами и за широту взглядов.
«Древний» стиль (гувэнь), который Хань Юй провозгласил в литературе, вбирал в свою традицию древний конфуцианский канон, ханьскую прозу и сочинения «ста писателей», т. е. всю литературную традицию вплоть до III в. Близкая по времени литература отвергалась, как пораженная в той или иной мере болезнью «современного» стиля. Хань Юй хотел прежде всего возродить дух гражданственных исканий в литературе, который он видел в древних книгах эпохи Чжоу, тех времен, когда «разом расцветали сто цветов и славой мерились сто писателей».
Смысл древней литературы Хань Юй понимал как ее общественную действенность. Вместе с историками он видел в судьбах литературы отражение судьбы отечества и отрицал сочинения «смутных времен» не меньше, чем враждебные конфуцианству вероучения. Вместе с тем Хань Юй не принимал современную ему конфуцианскую догматику. Он считал, что с III в. учение и государство пришли в упадок. По его мнению, в этом были повинны не только даосизм и буддизм, но и конфуцианцы, неспособные к противоборству: он не желал иметь с ними ничего общего и обходил их молчанием в своих сочинениях. Хань Юй провозгласил гражданский принцип «воззывай о несправедливости» и приравнивал его по значению к естественному закону. Он сам «воззывал», чего бы ему это ни стоило. Несправедливость к отдельному человеку Хань Юй порицал как язву сословного общества, в котором никто не мыслился независимым, вплоть до самого Сына Неба. В годы, когда мятежи несли опасность имперским устоям, Хань Юй впервые в конфуцианстве потребовал в своем трактате карать смертью непокорных. Хань Юй клеймил предательство и распри, сопутствующие междоусобицам в танском государстве, и восхвалял героизм защитников императорской власти.
В учении и деятельности Хань Юя обнаруживаются некоторые гуманистические черты, но гуманизм его был весьма ограничен и не означал разрыва с конфуцианской традицией.
Отказавшись от дословного подражания древним, Хань Юй не был поклонником простоты и доходчивости. Его стиль, названный им древним, был современен, а язык обогащен живой речью. Параллелизму пяньвэня он противопоставлял бесконечную гибкость смысловых переходов и живое течение фразы. Однажды у Хань Юя спросили: «Должна быть литература легкой или трудной?» На это последовал ответ: «И ни легкой, и ни трудной, а единственно самой собой».
Сочинения Хань Юя связаны с его общественной деятельностью, и в этом смысле он законченный конфуцианец. Его послания, будь это нападение на буддизм, или выступление в защиту несправедливо обиженного друга, или призыв к облегчению участи обездоленных, – проникнуты страстной убежденностью. Человек действия, он не был склонен к умозрительной философии. Трактаты Хань Юя публицистичны,
остры, социальны. Его космология покорно повторяла древние суеверия. Но не здесь сосредоточивались его интересы: его поглощала забота о судьбах империи, о должном порядке и мире внутри страны. И в освещении этих вопросов он не ограничивался простым повторением древних.
Хань Юй не любил общих фраз. Его публицистический стиль был конкретен. Он был признанным мастером характеристики. Даже в эпитафии он вводил реплики и конкретные события из жизни тех, чью память они были призваны увековечить. Хань Юй прославился и своими притчами. Знамениты его «Разные учения», «Как толковать слова „поймали линя“» и др. В них он использует общеизвестные в Китае предания, заостряя их социальный смысл. Чтобы найти сказочно быстроногого коня в стране, сначала нужно найти человека, знающего толк в конях, а чтобы поймать мифического единорога – цилиня, которого никто не видал и никто опознать не сумеет, нужен мудрец, совершенномудрый, и мало одного только явления чудесного существа... А человек – знаток и мудрец – может быть на месте только в разумно управляемом обществе, – таково логическое заключение по-конфуциански мыслящего Хань Юя.
Любопытно его «Молитвенное и жертвенное обращение к крокодилу», в котором языческое заклинание, рассчитанное на суеверный народ, соединяется с призывом к разумным, практическим мерам.
В «Жизнеописании Мао Ина» Хань Юй, сознательно подражая знаменитому историку Сыма Цяню, написал биографию, но не государственного деятеля, а... зайца. Заяц у него имеет и славных предков, известных волшебством, и родовой удел, делает карьеру при дворе, но по-прежнему боится охотников. Потомство заячьего рода процветает и соперничает за первородство. Это пример литературного пародирования стиля исторических жизнеописаний – вольность, вызвавшая тогда всеобщее негодование. Один Лю Цзун-юань поднял голос в ее защиту, но и он был поражен необычной свободой автора в обращении с классическими образцами, которым привыкли поклоняться.
Конкретная образность Хань Юя требовала и языковых новшеств. Он принимал из старой литературы только живое, отбрасывал архаизмы, вводил в литературный язык новые, современные выражения, вошедшие в живую фразеологию.
Соратником Хань Юя в литературе был Лю Цзун-юань. Его дарование было совсем иным. В молодые годы он использовал параллельный стиль и писал деланно и вычурно. Однако литературная манера Хань Юя оказала на него влияние, и он стал писать по-новому.
Пожалуй, редко в истории встречались два столь несхожих великих писателя-современника. Сходство их ограничивается стремлением к возрождению духа древней литературы. Все прочее разделяет, начиная с того, что Лю Цзун-юань не отвергал буддизма: «Я с детства чту Будду, и вот уже тридцать лет постигаю его учение. Из тех, кто говорит о нем, лишь редкие способны понимать его писание». Соратники-литераторы противостояли друг другу в философии. Лю Цзун-юань ответил на антибуддийские выступления Хань Юя критикой слабого места конфуцианцев – натурфилософских представлений. Он безжалостно бичевал древние суеверия в своих «Ответах о небе», посланиях к друзьям и в трактате «О небе». Он написал «Отрицание „Речей царств“», опровергая суеверия летописца, которые конфуцианство освящало и принимало. В его критике проявляется здравомыслящий материалистический взгляд на мир, пока не затрагиваются буддийские догмы.
В отличие от Хань Юя, Лю Цзун-юань был близок к философскому синтезу. Он писал: «Конфуцианство обрядом установило благость и долг, утратить это бедственно. Буддизм догмой утвердил сознание, лишиться этого погибельно». В его понимании учение, Дао, включает в себя избранные элементы и конфуцианства, и даосизма, и буддизма. В этом Лю Цзун-юань был истинным сыном танского времени, когда китайская культура охотно вбирала в себя чужеземные влияния и в музыке, и в танцах, и в скульптуре, и в религии, и в обычаях.
Лю Цзун-юань не боролся с даосизмом, и с конфуцианским каноном наравне почитал книги Лао-цзы и Чжуан-цзы. В общественной деятельности Лю Цзун-юань не уступал в активности Хань Юю. Он не шел на компромиссы и последние одиннадцать лет жизни провел в ссылке. Ссылка еще более углубила его буддийскую созерцательность и отрешенность, но не обезоружила полностью; литература тогда стала главной областью его деятельности.
Славятся притчи и басни Лю Цзун-юаня. Он продолжил традицию Древности, особенно любимого им Чжуан-цзы в этом жанре. Опала, казалось бы, заставляла его быть осмотрительным. Но вопреки этому произведения его смелы, сатиричны и не уходят от главных вопросов времени. Социальная несправедливость обличается в рассказе «Нечто об охотнике за змеями». В притче «Садовник Го-Верблюд» порицается глупое, бездарное управление народом. Басни о животных (об олене, осле, крысах и др.) предостерегают от превратностей судьбы.
В ссылке в Юнчжоу, в стенах буддийского храма, Лю Цзун-юань создает «пейзажные записки». Предшественники в этом жанре, разумеется, были: например, Ли Дао-юань с его «Комментарием к «Книге Вод». В этих небольших зарисовках-картинках постоянно чувствуется присутствие человека – природа окрашена его настроением. Чувство тоски по родине не покидает поэта, свое настроение он чаще всего передает своеобразным тоном повествования.
Опальный Лю Цзун-юань не мог собирать учеников и последователей, но литераторы южных провинций Китая явно находились под его влиянием. Самым значительным показателем успеха сочинений Лю Цзун-юаня было уважение друга-противника Хань Юя, высоко ценившего его литературный дар. На кончину Лю Цзун-юаня в 819 г. – ему было только 46 лет – Хань Юй откликнулся эпитафией и надгробной надписью.
Через пять лет – в 824 г. – ушел из жизни и Хань Юй. После них литературное движение гувэнь начало угасать.
Гражданственные устремления сторонников движения за гувэнь в конце IX в. унаследовали авторы сатирических произведений, так называемых «мелочей» (сяо пиньвэнь) – Пи Жи-сю (ок. 834—883), Лу Гуй-мэн (ум. 881), Ло Инь (833—909).
Хрестоматийны гневные афоризмы Пи Жи-сю:
«В старину убивали человека – гневались; ныне человека убивают – и смеются.
В старину чиновников ставили – разгонять разбойников, ныне чиновников ставят – разбойничать.
В старину тот, кто правил людьми, на себя взваливал всю Поднебесную, и люди скорбели о нем; ныне же те, кто управляет людьми, сами взгромоздились на Поднебесную, и люди скорбят о ней».
С падением танской династии идейные устремления движения за гувэнь были забыты, а самого Хань Юя помнили только как поэта. Лишь спустя триста лет, в XI в., поднялась новая волна литературного движения, которая сделала имена Хань Юя и Лю Цзун-юаня своим знаменем, а их произведения ввела в число самых чтимых книг китайской литературы.
ТАНСКАЯ НОВЕЛЛА
Одним из жанров, появившихся в танский период, была новелла, известная в современном китайском литературоведении как «чуаньци» (букв. – передавать удивительное). Ученые полагают, что термин этот произошел от названия позднетанского (вторая половина IX в.) сборника Пэй Сина «Рассказы об удивительном» («Чуаньци»). Когда он был распространен на все новеллы, установить с точностью не представляется возможным, но уже Тао Цзун-и (XIV в.), составитель литературного свода «Хранилище прозы» («Шо фу»), куда вошли многие танские новеллы, пользуется «чуаньци» как термином. Окончательному закреплению его за танскими новеллами много способствовали работы Лу Синя. В танскую же эпоху новеллы назывались «сяошо». Этим термином обозначался довольно обширный круг литературы преимущественно дидактического характера.
Однако для авторов и их читателей всякая рассказываемая история должна была быть прежде всего новой и необычной. Именно эти качества делали ее достойной внимания и записи.
Чуаньци, как правило, невелики по размеру, их отличает занимательность сюжета и динамичность действия. Каждая история может быть прочитана «в один присест». Все эти качества в сочетании с обязательной новизной сюжета роднят чуаньци с европейской новеллой.
В настоящее время танскими признаны 79 рассказов. Многие новеллисты известны как авторы всего лишь одной-двух новелл. Значительное число авторов (24) и сравнительно небольшое количество новелл, а также сведения об утерянных полностью или частично сборниках (известно, например, что раннетанский сборник Ню Су «Записки о слышанном» состоял из 10 свитков, а сейчас от него остались только две новеллы) невольно наводят на мысль, что сохранилась лишь небольшая часть ранее существовавшей богатой новеллистической литературы, и можно лишь утешать себя тем, что до нас дошли лучшие образцы. Однако сохранившиеся варианты одного и того же сюжета, а также в большой мере компилятивный характер позднетанских сборников (сборник Чэнь Ханя «Собрание слышанного об удивительном» состоял, например, в основном из новелл более ранних авторов) позволяют предположить, что, несмотря на определенные потери, мы располагаем довольно полным собранием танских новелл. Наибольшее количество текстов вошло в составленный в 977 г. сунский литературный свод «Обширные записи годов Тайпин», к которому восходят в основном все более поздние своды.
Если вопрос авторства в большинстве случаев можно считать решенным, то биографических сведений о создателях «сяошо» почти нет. Порою удается лишь приблизительно определить время жизни того или иного новеллиста, причем весьма ценными оказываются обстоятельства, сообщаемые рассказчиком в самой новелле. Однако, несмотря на скудость конкретного биографического материала, можно с определенностью утверждать, что все известные нам новеллисты принадлежали к чиновному сословию и занимали различные посты на государственной службе.
Танская новелла – это прежде всего занимательная история, мастерски рассказанная. Она возникла в результате трудолюбивых переработок ранее существовавших жанров – заметок, анекдотов и созданного великим Сыма Цянем и отшлифованного впоследствии династийными историями и житийной литературой жанра жизнеописаний. Танские новеллисты заимствовали не только названия своих произведений, но и стилистические формулы. Последние указывают на близость новелл к историческим хроникам.
Моральная дидактика, характерная для многих танских новелл, усиливается в конце VIII – начале IX в., в период, последовавший за мятежом Ань Лу-шаня. Эти столь близкие события вызывают у авторов многих рассказов протест, они обращаются к проповеди гражданских добродетелей конфуцианской морали как к средству спасти страну от внутренних раздоров и разорения. Новеллисты не довольствуются теперь скрытой формой поучения, заложенного в каждом сюжете, и все чаще прибегают к прямой проповеди и откровенно назидательным концовкам. Рассказчики не ищут внешнего блеска и утонченности стиля. Их искусство в другом – в той изобретательности и выдумке, в той свободе и оригинальности, с которой они обрабатывают уже известный сюжет. Чаще всего мы не знаем источника, из которого черпали свои сюжеты новеллисты, но там, где мы можем сравнить ранний вариант рассказа с танской новеллой, нельзя не признать высокого мастерства ее автора.
Характерная черта танской новеллы в целом – тяготение к «исторической точности»; убедить читателя в истинности рассказываемого призваны ссылки авторов новелл на личное знакомство с родственниками или друзьями героев; порой рассказчик выступает и как участник описываемых им событий (Ли Гун-цзо – в новеллах «Древняя книга гор и рек» («Гу Юэ ду цзин») и «История Се Сяо-э», неизвестный автор «Путешествия в далекое прошлое», Ван Ду – в «Древнем зеркале»).








